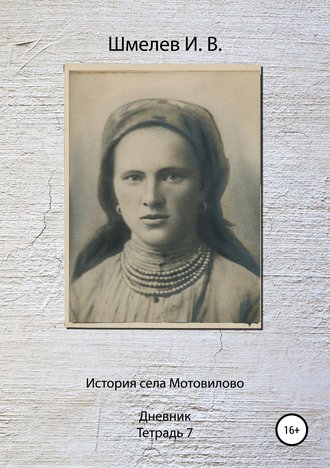
Иван Васильевич Шмелев
История села Мотовилово. Тетрадь 7 (1925 г.)
Оглоблины, Ершов, Трынковы. Копны
В последующий день на жнитво вышли Оглоблины: Кузьма со своей женой Татьяной. В поле, на горе около Рыбакова, из волнистого моря золотистой ржи редко виднелись головы снопов, сложенных в десятки «попами».
Загон Оглоблиных у самого Рыбакова концом упёрся в самый дол. Положив кошель с харчами под куст они приступили к жатве. До обеда Кузьма трудился сносно, почти не отставая от Татьяны, упористо подвигался вперёд. Захватывая горстями упругую на корню рожь он ловко подрезал её серпом. Ближе к обеду Кузьма совсем изленился, у него болезненно заныла спина, с непривычки от нахвата ломило кисть левой руки. Кузьма, то и дело стал поглядывать на солнышко, которое всё выше и выше вздеберяшивалось по голубому небосводу. Стало немилосердно припекать и голову, и спину. Кузьма также, частенько, стал посматривать и на густые тенистые кусты Рыбакова, от которых они с Татьяной, жня всё дальше и дальше двигались к противоположному концу загона. Эти-то кусты, со своей нежной прохладной тенью и манили Кузьму к себе для блаженного отдохновенья, только не одного, а вместе с Татьяной.
Пока Кузьма размышляя, любовался прохладой кустов, Татьяна, связав очередной сноп, уселась на нём, чтоб сделать небольшую передышку. В это время на руку её присела божья коровка, которая сложив крылышки, поспешно поползла, засеменила ножками щекоча Татьянину голую руку, пробиралась к плечу. Мирное насекомое, возбудило в Татьяне чувство нежности и увлеченья.
С умилением наблюдая за продвижением божьей коровки Татьяна проговорила:
– Кузьма, глянь-ка!
– Что, у тебя там? – подходя к жене, спросил Кузьма.
– Вот гляди! – отозвалась Татьяна.
Кузьма присел рядом с Татьяной. Они оба с наслаждением любовались над безобидным насекомым.
– Что-то чешется под мышкой, видать будет дождик обложной! – вдруг и внезапно для Татьяны, проговорил Кузьма. – Что мы на жаре-то уселись! Пойдём вон в затин. Там и отдохнём, – чеша спину серпом, предложил Кузьма жене, давясь спазмой в предчувствии приятного наслаждения.
Татьяна повиновалась, она была тоже не против отдохнуть в тени несколько минут, дать остыть своему разгорячённому солнцем полному телу.
Поднимаясь со снопа она слегка заохав от боли в пояснице, вяло побрела к кустам шурша и хлыстя ногами о колкую жнитву. Идя сзади жены, Кузьма не стерпел, чтоб не заметить:
– Что ты, переваливаешься с боку на бок, как беременная!?
– А ты думал, как! – не определённо ответила она ему.
– Что! Что! – не дослышав, переспросил он её. – Неужели опять? Ну, ну, давай седьмого! Нам как раз кстати! Только давай мальчика! – самодовольно улыбаясь, проговорил Кузьма.
– Ну да! – А ково же тебе ищо, чай не девку зассыху, – умилённо смеясь, тихо отозвалась Татьяна.
– Одна беда – во ржи лебеда, две беды – ни ржи ни лебеды! – нарочито громогласно провозгласил народную пословицу Иван Трынков, приближаясь вместе со своей Прасвокьей, к месту где под кустом он заметил Кузьму с Татьяной в неприглядном состоянии.
Кузьма, поспешно вскочив сконфузившись, не кстати поздоровался:
– Здорово Иван Васильич! Или жать к нам в соседи перебираетесь?
– Да! Тут у нас поблизости от вас загон в четыре сажени. Жать будем! – с деловой ноткой в разговоре, отозвался Иван.
– Вот только межу никак не отыщу, вся поросла полынью.
– Межа не стена, а перелезть её нельзя, – балагуря сам с собой, поговорками высказывался Иван. – Да всякая земля навоз любит, будь здесь навоз – лебеды не было бы! – продолжал глаголить Трынков, снимая с плеч кошель съестными припасами и взяв в руку серп наизготовку.
После обеда, к Оглоблиным и Трынковым, присоединился для жатвы своего загона и Николай Ершов. Поздоровавшись с Иваном и Кузьмой, сказав им «Бог помощь!», он, из любопытства, спросил у Кузьмы:
– Вы, сколько с Татьяной-то накосили?
– Да мы только начали первый денёк, как вышли, только что пробуем! – как перед старостой оправдывался Кузьма.
– А мы со своей бабой за два дня на трёх загонах нажали без двух снопов тысячу! – похвально отрапортовал Николай.
– Пойдём, покурим Кузьма! Ты уж больно горячо за жатву-то взялся.
По окончании жатвы, снопы с поля, особенно с дальних его краев, из-за большой дороги и от Баусихи, свозили к селу. Вблизи села, в особо отведённом месте почти все жители села, своей урожай, снопы укладывали в копны сот по десять в копне, у кого больше, у кого меньше, с тем расчётом, чтоб в зимнее время эти копны увезти в свои овины, подсушить и молотить. Чтобы не молотить вручную некоторые, спариваясь приобретали молотилки и веялки. Дедушка Василий Крестьянинов решил обзавестись для своего хозяйства специальной конной колесницей, предназначенной исключительно для обмолота: риса, овса, проса, гороха на току. Она состоит из двух деревянных валов на колёсах, набитыми ершом деревянными (для лучшей вымолачиваемости) колышками. Купив на базаре в селе Константинове этот агрегат, дедушка намеревался въехать в своё село вечером скрытно, чтобы не привлечь внимания односельчан, чтобы не все видели его покупку. А вышло поиначе: не успел он под вечерок въехать в село, как взбулгаченные, невидалью, собаки неистово залаяли и своим свирепым лаем сопровождали деда от конца Кужадонихи, до самого его дома.
– Сыма! Супостаты! – грозно притопнув ногой о землю, у ворот двора, гаркнул дедушка на неотступных собак, схватив палку с земли для отгона. Собаки завидя палку ворча отступили.
В вечерней темноте, послышался звук падающих оглобель о землю. Это дед у ворот распрягал лошадь. Воз с колесницей не пролез в ворота. С досады он злобно огляделся по сторонам, опасаясь, как бы кто не увидел его новую покупку. Вдвоём с сыном Фёдором они едва вволокли колесницу во двор, поспешно захлопнув ворота.
А поле, после как с него свезли все до одного снопа, опустело, осталась одна стерня. Всё поле сжато серпом, какое пространство! А оно всё сжато небольшим, но важным инструментом – серпом. Всё поле сжато человеческими руками и тружеником серпом. Здесь было целое море, зревший колыхающийся под ветром ржи, а теперь ни одной не сжатой полоски, ни одного покинутого снопа, ни одного оброненного колоска – всё убрано. Всё поле побрано, горстями человеческой руки, а сколько горстью можно захватить стебельков ржи – можно сосчитать, прикинуть и подсчитать, сколько было захватов в горсть и подрезано серпом во всём поле. Получится поистине астрономическая цифра. А человек, не боится труда, мужик не отлынивает от нетуги, и не жалея своей спины. Он старается пониже подрезать стебелёк с колоском, старается не обронить на землю каждое зёрнышко, считая, что это плод его труда. Иногда гибнет народное добро, плоды тяжкого крестьянского труда и достояния человека, от каприз природы: наводнения, градобития и урагана. А иногда и от оплошности самих людей или от детской шалости, при пожарах.
Пася, близь села, мелкое стадо по стерне сжатого поля, старшой пастух Фёдор наказал подпаскам:
– Глядите за скотиной! Близко к копнам не допускайте, чтоб копны не повредили, а сам ушёл в село по своим личным делам. Пастушата, от безделья и скуки, решили побаловаться огнём, они подожгли жниву на корню и дурашливо стали кубарем кататься по ней, наблюдать как она горит. К несчастью, ветерок потягивал на копны. Жнива быстро разгорелась на большой площади поля. Перепуганные ребята принялись тушить стерню, но было поздно и не подсильно им стало справиться с огнём. Огонь добрался до копен, сбежался народ со всего села, но значительное количество хлеба в снопах сгорело. Плоды народного упорного труда пропали даром. Некоторые люди, свои погоревшие, почерневшие от дыма снопы свозили на тока, обмолачивали. Зерно отвозили на мельницу, пекли хлебы и ели его, но он был неприятен на вкус: пах дымом и горелостью, напоминая о случившемся горе.
Минька, Санька. Шаловливые дедки. Сумка
Послали Савельевы Миньку с Санькой в поле на свой загон, картофельную ботву сжать – с тем расчётом, что высохшую ботву на корм скоту употребить, а без ботвы, картошку будет легче рыть.
– Ты Миньк, будь там за старшего! – назидательно напутствовал и наказывал сыновьям Василий Ефимович, отправляя в поле. Минька с Санькой, взяв на плечи серпы, отправились, куда их послали. К обеду, братья, домой возвратились не в духах: один со слезами, другой с виновато поникшей головой. Минька в рубахе, а Санька нагишом: в портках, но без рубахи.
– В чём дело!? – строго спросил их отец, предчувствуя, что-то недоброе.
Санька, всхлипывая повернулся к отцу спиной. Отец тут же узнал причину Санькиных слёз и смущённого вида Миньки. Из раны в спине у Саньки против правой лопатки, из серповой раны, сочилась алая кровь. Отец яростно вспыхнул, живчик на его лице у самого глаза грозно заиграли, не предвещая ничего хорошего, но он сдержал свой гнев. Прищурив на мгновенье один глаз, взял себя в руки.
Отец бить Миньку не стал, или из-за того, что он больше любил первенца, черноватого как сам, или из-за того, что еще не уяснил причину драки, а ведь Миньку он послал за распорядителя как старшего. Отец решил только назидательно пожурить, посовестить Миньку:
– Ты, что же это, на своего родного брата руку поднял!? Как Каин на Авеля и родную кровь пустил, – строго впившись взором в глаза Миньки. – Вишь как парня-то изувечил! Погляди-ка, кровь-то еще не унялась, на землю капает, а чья это кровь!? – повышая интонацию голоса, сурово спросил Миньку отец. – Она, его, твоя и моя!!!!
На выкрики отца, из избы выбежала встревоженная мать. Увидя кровь на спине сына она заголосила. Василий Ефимович, грозным взглядом заставил её замолчать.
– За что ты его? – болезненно охая и торопко мигая, сгоняя с глаз слёзы, простонала она, спрашивая Миньку.
– Я сказал: «давай дожнём до конца загона и отдохнём», а он изленился, лёг, растянулся на борозде и не хочет жать. Я ему приказывал, а он не подчинился. Папа-то меня послал старшим, вот и разодрались. Он мне больно стукнул в грудь, а я не вытерпел, вот и… – всячески старался оправдать себя Минька.
– Я только хотел немножко отдохнуть, спина у меня, что-то заныла, и брюхо, что-то вдруг схватило, а он на меня с дракой, с серпом, – морщась от боли, сказал в своё оправдание Санька.
– Ведь из-за пустяка разодрались, – болезненно вздыхая, проговорила мать.
– Эт ладно, серп-то вскользь угодил, а если бы в сердце, тогда бы что !? – горестно и скорбно стонала мать.
– Как тебе, только, не стыдно брата так искалечил! Вы разве ни одной матери дети, – причитала она.
Горький, колючий комок сдавливал ей горло, от одолевающих слёз, жгуче резало глаза. Она, наконец, не выдержав, запричитала:
– Санюшка! Дитятко ты моё, сокровище ненаглядное! – с распростёртыми руками бросилась она к Саньке. Из сияющей раны его еще сильнее захлюпала сукровица.
– Ну ладно!!! – свирепо прикрикнул отец на мать. – Не переношу, когда в семье увижу слёзы. И к Михаилу: строго притопнув ногой, выпучив глаза, он дико заорал:
– Чтоб больше этого не было.
И поддав Миньке под зад, увесистого пинка, он скрылся в огороде, с треском захлопнув за собой ворота.
А Санька, вошедши в избу улёгся на диван вверх спиной, чтоб угомонить тянувшуюся из раны струйкой сукровицу. Мать присев подле его, чтоб как-то ободрить Саньку проговорила ему в утешение:
– Отец-то вон как на Миньку-то обозлился. Едва сдержался, чтоб не ударить, а ударить он может, чем попадёт под руку. Санька от ноющей боли в спине не плакал, а только болезненно кряхтел.
Бабушка Евлинья, наскоблив мучицы от «чёртова пальца», присыпала Санькину рану, успокаивающе, сказала:
– Ну вот, теперь, Сань, полегчает, всё пройдёт, бог милостив. Успокойся, до свадьбы-то всё заживёт, – ласково наговаривала бабушка.
Бабушке вспомнилось как Санька в детстве, беспричинно и безотвязно плача, подолгу ныл. Целыми часами, сидит и воет и когда невтерпёж надоедало слушать его вытьё, его спрашивали
– Саньк, у попа-то что?
– Кадило! – сквозь слёзы, деловито отвечал, бывало, Санька,
– А у дьякона?
– Свечка! Пока он отвечал, на эти вопросы, выть переставал, а чувствуя, что вопросов больше ему не задают, он снова принимался за своё натужное, монотонное вытьё.
При вспоминании бабушкой эпизодов из детства, у Саньки стало легчало в спине, ныть рана переставала, приятные картины минувшего детства, ободряюще действовали на него. Через неделю рана в спине у Саньке поджила, он снова стал, как и прежде здоров.
Наступила пора косить вику. Ушёл Василий Ефимович в поле на косьбу на целый день, а дома осталась Любовь Михайловна с ребятишками, которые в этот день были представлены сами себе и время проводили, кто как мог, и занимались они кто во что горазд. Отвернулась мать на несколько минут, из дома, а ребята натворили в дому того, что в их проказах сам чёрт не разберётся. Шаловливое отрочество – делов наделало! Пришла мать домой, да так и ахнула. В избе ковардак и беспорядок: на столе нагвоздано как у свиного корыта, из лахани пролито, по полу растекалась грязная лужа. Чуланная дверь вся изрезана возрастными зарубками: видимо, пока мать отлучалась, ребятишки решили, на облицовке чуланной двери сделать с каждого возрастную мерку. Выше всех отметка старших двух братьев, представителей мечтательной юности, пониже отметка шаловливого отрочества, еще ниже отметка беззаботного детства. Только Никишка находясь в зыбке, как представитель беспомощного младенчества не принимал участия в этих возрастных вырезах. Он был еще мал, и наивно поглядывал на проказы своих старших братьев.
– Не успела отойти от дому, как вы тут чёрт знает, что: содом и суматоху!
– Надрызгали, как свиньи у своего корыта, – запричитала мать. Силушки моей больше нет! Прямо-таки вы меня замурзовали, терпения моего больше не хватает, вздыху никакого нету, вся-то я с вами измучалась, вся-то истерзалась. Тираны вы мои ненасытные, постоянно жрёте, и когда только ваши утробы наполнятся! Напхались вы на мою-то шею, кесь и не скачаешь вас. Какие вы, всё же, досужие: где как всё сыщут, где как всё найдут и всё разрушат. На столе нагваздали, ножик изломали, рукомойник расквасили, из лахани помои расплескали, мух в избу напускали, утиральник искрутили, занавески исхлыстали, ножницы иступили, вилки изуродовали, часы отцовы изломали, развинтили, футляр к ним исковеркали, до швейной машинки ваши баловливые руки добрались, самовар измяли, дудунку у чайника отшибли, соску у ребёнка изорвали, бутылочку разбили, стены все исчеркали, окошко вдребезги тренькнули, чулан весь изрезали, полкадушки малосольных огурцы растаскали, сметану слизали, хлеб весь исковырзакали, пироги сожрали, рубахи с портками в ленты полосуете, зашивать не успеваю! Как на огне всё на вас горит! По деревьям лазаете, по заборам прыгаете. Как по заранее заготовленному списку, укоризненно перечисляла она все бедовые проделки своих детей, содеянные ими за какие-то полгода и за сегодняшний день.
– Спины себе серпами протыкаете, нет той минуты – дерётесь, воете. Тово гляди ребёнка из зыбки вывалите, тово гляди пожару наделаете, – не на шутку разгневаясь, добавляла она.
– Обойди всю вселенную, во всём селе таких детей надоедников, ни у кого нет. Вот, отец явится, из поля, узнает о ваших проделках он что скажет!? Вам от него достанется и через вас, супостатов. мне попадёт, – с переживанием стонала она
– Я, вот, возьму сумку, и скроюсь от вас – куда глаза глядят! – самым страшным попотчевала она своих детей. Как бы предчувствуя недоброе ребёнок в зыбке беспокойно завозился, задрыгал ногами, задравши к верху, а сам-то весь в говне вывозился, сучит ногами, барахтается руками словно, купается в воде.
А ребятишки присмирев, приутихли. Они натужно и печально начали вздыхать, боясь пошелохнуться. Унылыми блестящими от слёз глазами смотрят на разгорячившуюся мать, вяло дожёвывая, застрявший во рту кусок пирога, который, может застрять и в горле. Заметя слёзы на глазах детей, Любовь Михайловна раскаянно, перестала браниться, её покорили уставившиеся в упор на неё несколько пар, детских, наивных, блестящих от слёз глаз. Она, сжалившись над своими детьми, тоже прослезилась. Сгрудила их всех около себя, словно клушка своих цыплят, стала по-матерински обнимать и целовать. Ребятишки облегчённо повздыхали, и только теперь каждый позволил себе, проглотить чуть не застрявший во рту кусок. А мать расчувственно, и умилённо принялась их поочерёдно целовать. Слёзы горя смешались со слезами радости. Ребятишки, зашевелившись, весело, но сдержанно разыгрались, а мать принялась за дела: стала просматривая бельё, заплачивать рубашки и портишки, готовя их к субботе, к бане. Вскоре в сенях застучал, возвратившийся из поля с косьбы, отец. Старшие ребята виновато, но услужливо, подскакивали с мест, наткнувшись на отца у порога.
– Что вы мечетесь, как черти от грома! – проворчал он на них.
– А кто это сумничал: окошко-то разбил? – с угрозой в голосе проговорил отец, заметя зияющую сквозную дыру в окне.
– Узнаю кто, дыру башкой заткну! – грозно пообещал он. – Миньк, Саньк! Где вы мычитесь? За викой поедемте! – строго прикрикнул он на старших ребят.
– Надо в токарне сидеть и работать, а вас куда-то лукавый унёс! – ворчал он на них. – Саньк, а ты попроворнее, поворачивайся, что ты ходишь, как варёный! Как будто, непотерянное ищешь! Вот взять вожжи и отстегать! Будешь бегать побыстрее! – торопил вялого Саньку.
Ища, с длинным черенком навозные вилы, отец сунулся в конюшник. Забыв наклониться, больно стукнулся о низковатый дверной вершник. От боли заморщившись, обозлившись, он скорополитно схватил топор и безжалостно, размашистым ударом обуха выбил злополучный вершник. Потом устанавливая вершник на своё место, он, улыбаясь тайно ругал себя, что сам себе придал лишнее дело.
Собрались бабы, в праздничный день, на улице, расселись в тени, под ветлой, чтоб поискаться завели беседу о детях:
– Ну, как ты Татьян, со своими детками-то, справляешся? – спросила Савельева у Оглоблиной
– Мы со своим Кузьмой воедино, их выращиваем. Как и все растим. С ними забавляемся, за нуждой в люди не ходим, своей за глаза хватает, – уклончиво и как-то неопределённо ответила та. – Мы, со своим мужиком, слили наши разумы воедино и действуем совместно. Он скажет, а я поддакну, он отколотит провинившегося в семье, а я добавлю, поддержу его, – с владычественной ноткой в голосе, добавила она. – На днях, досадил мне мой меньшой Гришка, я не стерпела и отколотила его как следует, чтоб помнил, чтоб не повадно было!
– А меня, мои дети так всю и заполоскали, замутузили. И когда они сильно-то разоруются я их сумкой пугаю: скроюсь мол от вас, так нет, сразу присмиреют. Понимают, что без мамки-то плохо, – со своей стороны, в свою очередь, изъяснила Любовь Михайловна. – Да еще, сказать, они у меня, больно жрать-то лютые! Вчера я кокурки стряпала, так едва накормила свою ораву! Такой жрун на них напал, что ни приведи господи! Даже уму не постижимо – я пеку, а они так и хватают их прямо с раскалённой сковороды! Как метлой метут и руки не обожгут! Насилу их утробы насытились! Потом опешили и от стола отвалились.







