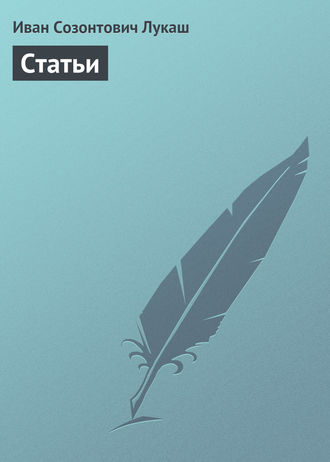
Иван Созонтович Лукаш
Статьи
Университет двух императриц
В моей дорожной шкатулке есть связки пожелтевших заметок из старинных книг и записок. В заметках я желал сохранить для себя те мелочи, то живое дыхание старины, которое исчезает так же быстро, как след дыхания на стекле. И вот эти беспорядочные заметки о Московском университете в восемнадцатом пудреном веке.
Указ об основании университета Московского воспоследовал 12 января 1754 года, самое же открытие – 26 апреля 1755 года.
Известны две медали, выбитые на открытие университета: на большой, с лицевой стороны – профиль императрицы и надпись вокруг: D. G. Elisabeta I Imp. Auctor. Omn. Poss., а с обратной – аллегорическая фигура России, окруженная искусствами и науками, сидящая у пьедестала, где щит с вензелем императрицы. Вдалеке видна Москва. Вокруг надпись: Nova Sibi monumenta paravit, над фигурой России – Academia Mosc. Instit. MDCCL IV.
На малой медали видна сидящая Паллада, с венком в руке, окруженная искусствами и науками. Внизу надпись: Universit. Mosc.
В те годы неведомый пиита такими стихами прославил Елисавету:
Хвала Тебе, Елисавета,
В царицах мудрая жена.
Твоей рукой лампада света
В столице древней возжжена.
При открытии университета профессор Антон Алексеевич Барсов в речи своей, признавая первоначальное грехопадение человека за непреложную истину, призывал науки «хоть отчасти вознаградить сей урон и возвратить нам естество наше».
Барсов был ученик Ломоносова. Он был и большой филолог, и большой чудак. На лекции он носил с собою огромную сафьяновую кису, набитую книгами, которая устрашала студентов. Над ленивыми студентами он подшучивал и ко всякому слову прибавлял «судырь». Однако был добрый человек, и все его любили.
Денег на основание университета от казны и жертвователей поступило сорок одна тысяча рублей с копейками. Открыто было три факультета: юридический, медицинский – с одним профессором и философский – с осемью профессорами. Жалование ординарному профессору было назначено по 500 рублей в год. Студенты жили на жалование от казны, по 100 рублей в год.
Осенью 1761 года императрица Елисавета тяжко заболела. Гетман Разумовский, только что отпраздновавший свадьбу племянницы своей, поскакал в Петербург.
По дороге он остановился в Москве, чтобы осмотреть молодой университет, которому едва минуло первое пятилетие. В провождении куратора Веселовского, с вельможами, гетман вошел сначала в латинский класс ректора Шадена, где встретили его речью и стихами латинскими, и здесь выслушал он перевод на русский язык из Цицероновых писем, потом историческую лекцию профессора Рейхеля. В большой аудитории профессор Барсов встретил его русским приветствием. Профессор Фроманн взошел на кафедру и прочел лекцию о вероятности (de probabilismo). Затем следовали юридические тезисы: de principibus juris naturae между студентами Дилтея. Из большой аудитории гетман перешел во французские классы Билона, Бойе и в латинский класс Попова. Затем поехали в дом, где жили пенсионеры. Гетман осмотрел его, типографию и словолитню; посетил камеру, где читаются физические лекции. Показав инструменты, профессор Рост сделал опыты с надлежащим вниманием. В заключение гетман осматривал минералогический кабинет, химическую лабораторию, где показаны были некоторые малые опыты, и, наконец, библиотеку. Обзор университета окончился обедом у куратора.
В 1764 году императрица Екатерина II изволила повелеть учредить при университете анатомический театр для изучения анатомии. Среди редкостей медицинского кабинета был «зубной ключ Петра Великого». Через три года в наказе генерал-прокурору императрица об университете писала: «В тяжелых материях или разногласии между учеными по усмотрению генерал-прокурора требовать мнения университета».
В 1768 году, вскоре после издания наказа Екатерины II, лекции на всех факультетах университета начали читать природные русские и на русском языке. Главным противником языка латинского был профессор Поповский, который при открытии своих философских лекций объявлял: «Нет такой мысли, кою бы по-российски изъяснить невозможно было».
В 1785 году императрица пожаловала университету место на Моховой, прежде принадлежавшее князю Барятинскому, и 125 тысяч рублей для построения нового дома. К 1788 году дом был выстроен и при нем церковь великомученицы Татианы, расписанная художником Клауди. В храме находились две иконы Николая Чудотворца и Елисаветы, писанные римским живописцем Рубио в стиле византийском.
В 1794 году университет совершил первое производство в степень доктора медицины.
Екатерина II писала: «Я вовсе не люблю Москвы и откровенно выскажу мое чувство: Москва – столица безделия, и ее чрезмерная величина всегда будет тому главной причиной. В Москве на каждом шагу иконы, церкви, попы, монастыри, богомольцы, нищие, воры, бесполезные слуги в домах, и какие дома, и какая грязь в домах, площади которых огромны, а дворы – грязные болота».
Такая Москва и ее брадатый народ, похожий в охабнях на дымных медведей, долго косились на новую затею, на «лампаду света, возжженную в древней столице», и на ее «персон» в пудре и косицах, словно бы шведов в синих кафтаньях. По Москве ходили слухи, что на Моховой немцы режут живьем православный народ. Слухам верила не только чернь и челядь, но и московские барыни, бригадирши с Балчугов или Сивцева Вражка, но и полиция. Профессору анатомии Эразмусу приходилось читать особые лекции о том, что наука отнюдь не безбожие, а медицина не живодерное ремесло.
Университетские студенты жили в обширных залах главного здания, именовавшихся камерами, и ходили всегда в пудре, с косицами в кошельках, как и прочие вольные граждане российские: носили студенты кафтаны и камзолы, треуголки и благородные шпаги, которые им вручались торжественно на актах при вступлении в университет. Зимою носили поверх кафтанов тулупы, а на голове прародительские треухи.
В камере отличнейший по успехам студент занимал лучшее место, в красном углу, под образами. Такой студент назывался камерным. А в благородном пансионе университета лавки в классах были устроены горой, и называлась самая верхняя Парнасом. В столовой зале лучшим студентам предлагался и лучший обед, а для ленивых в углу был особый «осиновый стол», на который ставилась только чудовищная миска со щами.
В 1763 году конференция просила отменить лекции после обеда зимой при наступлении сумерек, с 5 часов вечера, дабы студентов не загрызли на улице собаки или не ограбили воры.
За дурное поведение студентов сажали на хлеб и воду, одевали на три дня в мужицкое платье и обували в лапти, отобрав благородные шпаги, а на деньги, вычтенные из студенческого жалования, покупали таким арестантам Библию на славянском языке, которую студенты и должны были читать по воскресеньям, отбивая поклоны.
На Пасху для развлечений на университетском дворе устраивались двое или трое качелей. С Фоминой недели, с весны, учинялись по временам на дворе и воинские экзерциции. Прогулки студентов за город, в подмосковные, совершались обычно в строю и попарно. «Эва, пленных шведов ведут», – говорили мужики.
На кулачные бои у Заиконоспасского монастыря или на Неглинной выходить студентам строго запрещалось. За кулачные бои студентов судили профессора-юристы. Все дела излагались на латинском языке.
Особенно любили студенты профессора Антона Барсова и профессора Харитона Чеботарева, который, сказать кстати, первый в России начал писать без «еров».
Историк Чеботарев, как и куратор университета Херасков, «у которого тряслась голова», были мартинистами, московскими кавалерами Розы и Креста, старинными вольными каменщиками. В мартинистские восьмидесятые годы осемнадцатого века в университете была своя ложа вольных каменщиков – «университетская».
В те годы отставной поручик, великий кавалер Розы и Креста, мартинист Новиков принял по договору содержание университетской типографии, открыл свою вольную типографию, учредил типографическую компанию, поставив в ее мастерских до двадцати печатных станков, дело небывалое по размерам не только в тогдашней России, но и в Европе, поднял университетскую газету «Московские ведомости», усилив ее «тираж» с 600 до 4000 экземпляров, что почиталось тогда успехом невероятным, в пять-шесть лет создал громадное издательство, выпустившее несколько десятков тысяч томов по истории, философии, религии, открыл книжные лавки с первыми в России библиотеками, «кабинетами для чтения», открыл аптеку. Тогда же университетский профессор немецкого языка, великий маг Златорозового Креста Иван Шварц, при помощи Новикова и его друзей учредил в мае 1781 года «Собрание университетских питомцев», «Учительскую семинарию», «Общежитие для студентов», «Дружеское ученое общество для поощрения российских наук и художеств», с торжественными публичными собраниями в доме мартиниста Петра Татищева у Красных Ворот…
Но обрываются на этом мои беспорядочные заметки, неоконченный рассказ старинной шкатулки о Российском университете двух императриц.
Похождение действ петербургских
В малоизвестном сочинении императрицы Екатерины II «Антидот» автор так отзывается о «бывшем императоре Петре III»:
«Все видели, что гибель империи была бы следствием царствования, во время которого благоразумие и справедливость не управляли бы государством и слово «отечество» сделалось бы преступлением. При таких обстоятельствах всякое государство близко к революции. Она и свершилась 28 июня 1762 года, и никакое событие не свершалось более кстати, чтобы спасти государство от гибели».
Свое бурное восшествие на Российский престол императрица Екатерина всегда оценивала как революцию и такой оценки не скрывала.
Также и маленькая, черноглазая княгиня Дашкова, с которой Екатерина во главе войск ходила в поход от Красного Кабачка в Петергоф, иначе не почитала июньских дней как революцией, и много позже, уже не раз поссорясь со своим походным товарищем, уже состарясь на посту президента Российской академии наук, говорила своим французским друзьям: «У вас революция начинается, у нас она уже была».
Записки и документы об екатерининской революции 1762 года легко могли бы составить обширнейшую библиотеку – так хорошо события эти известны, – но все еще встречаются на старинной полке документы малоизвестные. Такая куриознля, по языку и по некоторым чертам рассказа, записка неизвестного свидетеля встретилась мне недавно в бартеневских архивах – «Осьмнадцатый век», которые тоже стали теперь книжной редкостью.
Озаглавлена записка так: «Похождения известных петербургских действ». Вот этот старинный и куриозный рассказ о тех событиях, которые сама героиня их почитала, и не без основания, революцией:
«По малом времени приказал Государь Ее Величеству отъехать в Петергоф, где того же числа разведены крепкие пикеты. Изволила Ее Величество жить там до 26 числа июня в немалой опасности».
«Граф Гетман (Кирилла Григорьевич Разумовский, командир Измайловского полка), едучи в Петербург против 27 числа ночи, остановил карету свою в близости от Петергофа и при ней офицера гвардии Орлова, коему приказал как возможно дойтить до Ее Величества и пробудить, чтобы изволила немедленно ехать в Петербург тайно. И тако Ее Величество изволила убраться и прошла все те караулы с оным Орловым, под видом жены его, якобы из гостей им поехать. Граф Гетман, скоро прибыв в Петербург, начал тотчас приводить все гвардии и другие команды к присяге на верность Ее Величеству».
«Государь, известясь про то, послал к дяде своему Жоржу приказ, чтобы он всемерно постарался Ее Величество привезть в Аренбов (Ораниенбаум). Потому оный Жоржа с меньшим сыном Гудовича поехал в Петергоф скоропостижно. Однако уже все тамошние команды присягу учинили Ее Величеству, и Жоржу с Гудовичем гораздо потолкали там дулами и взяли под арест. А граф Алексей Григорьевич Разумовский и графиня Гетманша с двома дочерьми, кои были Ее Величеству вернии, были взяты Государем в Аренбов».
«При том же послан от Государя штаб-офицер в Кронштадт, чтобы тамошняя флотская команда петербургских повелений не слушалась, а была бы в его дирекции».
«28 июня Ее Величество с двадцатью тысячами войска, в том числе со всеми гвардейскими и корпусными полками и корпусом артиллерии, коим командовал граф Гетман, изволила восприятъ марш к Аренбову. А прежде того послан от Ее Величества в Кронштадт генерал-адмирал Талызин, кой, прибывши, объявил, будто он от Государя послан и по его словесному указу должен принять в Кронштадте команду. Тот, оному штаб-офицер поверив, отступился. Адмирал же Талызин тотчас велел его арестовать и все те полки на верность Государыне привел к присяге».
«Государь, известясь о марше Ее Величества к Аренбову, забравши помянутых арештантов, Разумовского и графиню Гетманшу с двома дочерьми и протчиих, бросился в Петергоф и, сев сам со своими партезантами фон Менниховым, Андреем Гудовичем и с Елисаветою Романовною Воронцовою и другими, арештантов посадя в яхту, поехал морем в Кронштадт»,
«Точию адмирал Талызин выслал от себя малым судном унтер-офицера навстречу с корабельной трубою, сказать, чтобы, ежели Государь не возвратится, то будут по нем с пушек бить».
«А Государь, усмотря и сам выставление с крепости зажженных фитилей, принужден был возвратиться в Аренбов и написал письмо Ее Величеству, объявляя: ежели воздержатся от своих намерений, то не увидят висельниц, кои-де от Аренбова до Петербурга иначе будут поставлены, и стал было войско, коего имелось только две тысячи, строить к баталии».
«Напротиву того послано к нему, что ежели добровольно не отдаст себя в арест, то поведено будет полкам и артиллерии действовать по-военному и бомбардировать».
«Государь, из особливого уговору фон Менниха, повторно послал к Ее Величеству с тем, что бесспорно отдает себя в арест, и потому от Ее Величества командирован штаб-офицер в Аренбов с командою, которому Государь отдал сам шпагу свою и кавалерию, в яком случае Андрей Гудович одному офицеру досадно говорил: «Как-де ты посмел своего природного Государя арестовать?», за что получил множество ударов».
«Ее Величество по той факции изволила иметь свой марш в Петергоф, где Государь находился в особливом месте под караулом и, хотя желал видеть Ее Величество, токмо не дозволено. Однако вместо того изволила от своего стола жаловать кушанье. Вследствие всего того дал Государь Ее Величеству на письме повинную с таким дополнением, что ныне от правительства Российской Империи отказуется и по жизнь свою протекции о том иметь не будет…»
Первый манифест о восшествии на престол императрицы Екатерины II был опубликован 28 июня, второй – 6 июля. Любопытно, что второй малоизвестный манифест не вошел в Полное собрание законов.
Во многих местах этого обстоятельного манифеста чувствуется женская рука, неиствующая в подборе обвинений против «бывшего императора Петра III», чувствуется и женское презрение, хотя бы в наименовании Воронцовой по-простонародному «Лизаветой». В этом же манифесте и пышные тирады прямой революционерки на престоле: хотя бы в словах о самовластии Петра III, или в таком желании – «сколь мы хотим быть достойными любви Нашего народа, для которого признаем Себя быть возведенными на престоле», или в таком «наиторжественнейншем обещании узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного Нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтобы и в потомках каждое государственное место имело свои пределы и законы в соблюдении во всем доброго порядка», – в этом, по-видимому, хотя и торжественном, но весьма туманном обещании ограничения самодержавия конституции больше, чем полтораста лет тому назад…
Он очень длинен, екатерининский манифест, отреченный Сводом законов, и мы приведем его только в выдержках:
«Самовластие, не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в Государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным последствиям бывает причиной. Чего ради вскоре по вступлении на Всероссийский престол бывшего сего Императора, отечество Наше вострепетало, видя над собою Государя и властителя, который всем своим страстям прежде повиновение рабское учинил и с такими качествами воцарился, нежели о благе вверенного себе государства помышлять начал».
«Не успел он только удостовериться о приближении кончины Тетки своей и Благодетельницы, потребил Ее память в сердце своем, прежде нежели Она еще дух свой последний испустила: так что на тело Ее, усопшее в Бозе, или вовсе не глядел, или, когда церемониею достодолжного к тому был приведен, радостными глазами в гроб Ее взирал, отзывался при том неблагодарными к телу Ее словами».
«Не имев, как видно, в сердце своем следов Веры Православной Греческой, хотя в том довольно наставляем был, коснулся перво всего древнее Православие в народе искоренять своим самовластием, оставив своею персоною Церковь Божию и моление».
«По таковому к Богу неусердию и презрению закона Его презрел он и законы естественные и гражданские: ибо, имея он единого Богом дарованного Нам Сына, Великого Князя Павла Петровича, при самом вступлении на Всероссийский престол не всхотел объявить его наследником престола, оставляя самовольству своему предмет, который он в погубление Нам и Сыну Нашему в сердце своем положил, а вознамерился или вовсе право ему преданное от Тетки своей ниспровергнуть, или Отечество в чужие руки отдать».
«Между тем, когда все Отечество к мятежу неминуемо уже противу его наклонялося, он законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе о них слышать не хотел, доходы государственные расточать начал неполезными, но вредными государству издержками, из войны кровопролитной начал другую безвременную и государству Российскому крайне бесполезну, возненавидел полки Гвардии…»
«Наипаче помыслы его открылися и до Нас дошли – вовсе нас истребить и живота лишить».
«И для того призвав Бога в помощь, а правосудие Его божественное Себе в оборону, отдали Себя или на жертву за любезное Отечество, которое от нас по себе заслужило, или на избавление его от мятежа и крайнего кровопролития».
«Но не успели только Мы выступить из города, как он два письма одно за другим к Нам прислал: первое чрез вице-канцлера Нашего князя Голицына, в котором просил, чтоб Мы его отпустили в отечество его Голстинию, а другое чрез генерал-майора Михаила Измайлова, в котором сам добровольно вызывался, что он от короны отрицается и царствовать в России более не желает, где при том упрашивает Нас, чтоб Мы его отпустили с Лизаветой Воронцовой, да с Гудовичем также в Голстинию. И как то, так и другое письмо, наполненные ласкательствами, присланы были несколько часов после того, что он повеление давал действительно нас убить, о чем Нам те самые заподлинно донесли».
«Все тогда при Нас находящиеся знатные верноподданные понудили Нас послать к нему записку с тем, чтобы он добровольное, а не принужденное отрицание письменное и своеручное от престола Российского в форме надлежащей, для спокойствия всеобщего, к Нам прислал, ежели на то согласен».
«Вследствие чего он в ответ к Нам следующее своеручное написал письмо: «В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы ни было образом правительства, владеть Российским государством. Почему и восчувствовал я внутреннюю оного перемену, наклоняющуюся к падению его целости и приобретению себе вечного чрез то бесславия. Того ради помыслив, я сам в себе, беспристрастно и непринужденно, чрез сие же являю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что от правительства Российским государством на весь мой век отрицаюсь…»»
Этот «обстоятельный манифест» был опубликован 6 июля 1762 года, а на другой день, «месяца июля 7 дня», был уже дан в Санкт-Петербурге манифест о кончине «бывшего императора Петра III» – известный манифест с известными словами: «Объявляем чрез сие всем верным подданным. В седьмой день после приятия Нашего Престола Всероссийского, получили Мы известие, что бывший Император Петр Третий, обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в прежестокую колику…»
А вот осталась от них архивная пыль да слежалые листы документов и старинных книг, да куриозные и тяжкие вековые слова, в которых уже знает потомок и то, что было в них правдой, и то, что было в них ложью.
Как бы там ни было, свидетели, участники и сама героиня событий 1762 года оценивали их как революцию, как одно из «похождений» тех «петербургских действ», по которым – от «похождения» к «похождению» – бурно гремела за своей судьбой могучая колесница Империи, как будто для того только, чтобы докатиться, наконец, до известных февральских «похождений», начатых, как и тогда, «полками Гвардии»…
Но грозная история империи Российской не оборвалась, конечно, ни на феврале, ни на октябре, и не приходится сомневаться, что нам, и уже, наверное, нашим детям, еще суждено быть свидетелями и участниками неминуемых, новых похождений действ петербургских.







