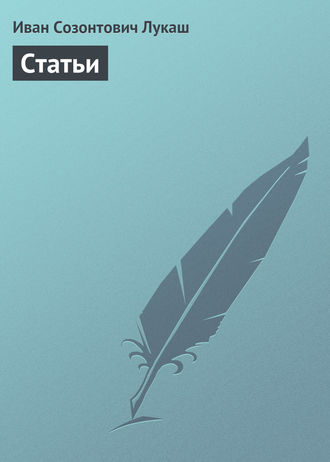
Иван Созонтович Лукаш
Статьи
И вышли мы, казаки, на вылазку, и взяли у них большое знамя с клеймом турским, да взяли у них пашу первого.
В тот день мы бились с ними до вечера. Едва от них отбилися».
* * *
С рассвета до ночи гремел Азов, сверкая грозою.
Только отчаянная казачья вылазка остановила приступ, когда из порохового дыма, в лохмотьях, почерневшие, в запекшейся крови, вырвались казаки на турок по обваленным стенам.
В первом часу ночи турки отхлынули в свои таборы. «И ночь всю смечалися, много ли войска побито».
Утром другого дня пушки молчали.
Турки прислали под город своих толмачей, учали просить мертвых тел, а за всякое тело давали по золотому, за начальных людей давали по двенадцати золотых, а за пашу давали, что он потянет золота.
Но казаки войском на том не постояли: не взяли у них ни серебра, ни золота.
– Не продаем мы мертвого трупу в поле, – ответили толмачам казаки. – Емлите свои тела даром. Не дорого нам серебро и злато, дорога нам слава вечная… То вам, собакам, из Азова-города игрушка первая… Лише мы, молодцы, оружье прочистили. А иным нам вас потчевать нечем: дело осадное.
Турки отбирали «побитый труп целый день до вечера».
«Выкопали мы яму побитому своему трупу, великие рвы, от города три версты, засыпали их горою высокою. И поставили над ними признаки многие, басурманские, и подписали языки многими, разными…»
* * *
На другой день турки стали рыть гору всем своим войском, и вырыли ее многим выше Азова.
«Хотят тою горою засыпать Азов-город, и нас, казаков, горькою смертью излучить, – повествует письмо.
И увидели мы, бедные, свою погибель, что приходит смерть скорая, и удумали промежду собою.
Хорошо нам, казакам, умереть в поле, а не в ямах?»
Всем войском помолились казаки Иоанну Предотечу и Николе Чудотворцу и пошли на вторую вылазку, с криками: «Умирать ли нам или не умирать в поле?»
«И как вошли на ту высокую гору, закричали мы, яко с нами Бог!»
Турки под новым натиском бросили осадные работы. Побежали. Казаки побили у них многие тысячи, да взяли сорок бочек пороху, да шесть знамен пехотных.
И тем порохом разрыли гору, и ту гору на турок же взорвало, на таборы их…
* * *
Никто не ждал в султанских войсках такого отпора.
За две вылазки казаки смели до двадцати тысяч осаждающих, взорвали подкопные работы.
«Почали от нас турки страшны быти, – рассказывает письмо. – И почала меж них роздряга быти великая: паши турецкие почали кричать на царя Крымского, что не ходит он к приступу с ордою Крымскою…»
Азов решили взять не приступом, а осадою.
Янычары и черные мужики-негры стали рыть другую гору позади, больше прежней, в длину три лучных стрельбища, а в вышину многим выше Азова.
И на той горе поставили весь снаряд свой пушечный, и пехоту свою привели, пятьдесят тысяч, и орду Ногайскую всю с лошадей сбили.
И почали с той горы из снаряду бить по Азову-граду, беспрестани, день и нощь. От пушек их страшный гром стоял, огнь и дым топился до неба.
«Шестнадцать ден и нощей не перемолк снаряд их пушечный ни на единый час. Все наши азовския крепости распались, стены и башни все, и церковь Предотечева, и палаты все до единые разбили у нас по подошву самую, и снаряд наш пушечный переломали весь.
Одна лише у нас в Азове-городе церковь стояла внизу добре, у моря под гору.
А мы от них сидели по ямам все, и выглянути нам из них не дадут».
* * *
Но ни казаки, ни казачки, старухи и молодки, ни часу не теряли даром под шестнадцатидневным неугасимым огнем.
«Мы в те поры под их валом дворы потайные великие поделали, – отмечает письмо. – И с тех мы потайных своих дворов подвели под них – двадцать восемь окопов, под их таборы».
У казаков не было инженеров из Венеции или «Фрянции», бородатые степные всадники одним военным чутьем, боевым гением, отбивались от осады.
«Ночною порою» выходили они внезапно то там, то здесь из своих подкопов, каждый раз внезапно, на пехоту яныченскую, вылазками. И тем побивали их множество, и туркам оттого «постыли все их подкопные мудрости».
* * *
За шестнадцать дней Азов разбили пушечным огнем, засыпали землей, разнесли.
Теперь это была груда дымящихся, горящих развалин. Но все слышался в пороховом дыму звон московского колокола, вероятно, от Николы Чудотворца, доносился иногда свирепый крик осажденных…
Турки пошли на приступ. Двадцать четыре приступа, один за другим.
Многотысячные человеческие волны накатывали на развалины города.
«Ножами мы с ними резались в приступе, – просто вспоминает о страшных днях казачье письмо. – Почали уже они к нам в ямы метати ядра огненные, чиненные, и всякие немецкие приступные премудрости. Тем нам чинили пуще приступов тесноты великие. Побивали многих нас.
Почали нас осиловать, доступать прямым боем: присылать к нам на всякий день янычев своих по десяти тысяч человек.
Приступают к нам целый день до ночи. Ночь придет, – на перемену им идут другие десять тысяч: те к нам приступают ночь всю до света. Ни на один час не дают нам покою: бьются с переменою день и нощь, чтобы истомою осиловать нас…»
«Истомою осиловать нас…» Представляет ли потомок, какую истому несли в те дни и ночи казаки на Азове?
* * *
На улицах, в ямах – всюду убитые. Раненые стонут на кожухах и овчинах, на соломе, запекшейся от крови. Уже не перевязать куском рваной посконной рубахи посеченное плечо или руку, не поднести кружки с водой к обсохшему рту.
Бредят, молятся, поют.
Огонь день и ночь бьет по груде изб, телег, скарба, по поднятым темным иконам, по роще казачьих знамен и хоругвей, по человеческому стаду, скучившемуся у Николы Чудотворца, у самого моря, под горой.
Старухи-казачки, подоткнувши полы синих кафтанов, в казацких сапогах, подбитых подковами, и ребята перетаскивают под огнем убитых сыновей и батек.
Молодые казачки, многие в мужниных шароварах, босые, грудь перекрещена пищальными патронницами, подают мужьям снаряд в самый огонь. Чудно сказать, но и молодые пленные турчанки, нежные Джани-ханум, откинувшие чарчаф, такие же загоревшие, зеленоглазые, как казачки, тоже несут своим мужьям-гяурам – Ивасям, Олешам, Андриям – в огненное пекло тяжелые пищали. И молодой казак, с мокрой чуприной, с лицом, залитым потом, в порохе и гари, весело выблеснет всеми белыми зубами, когда подойдет к нему Джани, вчерашняя басурманка, а нынче, по-Божьему закону, верная казацкая жена.
Раны загнивали, смердела конская падаль. Развалины Азова горько дымились…
«От тяжких ран своих, – рассказывает казачье письмо, – от всяких осадных лютых нужд, от духу смрадного и от человеческого трупия отягнали мы все многими болезнями лютыми, осадными. В малой дружине своей уже и перемениться некем: на единый час отдохнуть нам не дадут.
Отчаявши мы живот свой в Азове-городе, в выручке своей безнадежны стали от человек».
* * *
Казаки понимали: настал конец.
Войско толпилось под образами Иоанна Предтечи и Николы Чудотворца. Чаяли себе помощи только от Вышнего Бога.
– Али мы вас, светов, чем прогневали, что опять хощете идти в руки басурманские, на вас мы, светы, надеялись, когда в осаде сидели. А теперво от турок видим впрямь смерть свою…
Волнуют и сегодня, и всегда будут волновать каждого русского, слова простой казачьей молитвы в огне и гуле Азова, перед темным Предотечей:
– Дни и нощи беспрестане мучимся, поморили нас бессонием. Уже наши ноги под нами подогнулися, и руки наши оборонные не служат нам, и от истомы уста наши замертвели, глаза нам порохом выжгло от беспрестанной стрельбы, язык наш во устах наших на басурман закричать не ворочится, не можем в руках своих никакого оружия держать… Не бывать уже нам на Святой Руси.
Страшные мгновения. Конец. Не сдача, а смерть. Последняя молитва перед последним боем.
Нигде, кажется, в русской письменной речи нет могущественнее и прекраснее слов, чем слова последнего прощания казаков в Азове между собой:
«Почали мы, атаманы и казаки, и удалые молодцы, и все великое Донское и Запорожское свирепое войско, прощаться:
– Прости нас, государь наш, православный царь Михайло Федорович, всея Руси самодержец, вели помянути наши души грешные.
Простите, государи, вси Патриархи Вселенские, простите, государи, вси преосвященные митрополиты. Простите, государи, вси архиепископы и епископы. Простите, государи, архимандриты и игумены. Простите, государи, протопопы и вси священницы, и диаконы, и вси соборы освященнии. Простите, государи, вси мниси и затворники. Простите нас вси святии отцы.
Простите, государи, вси христиане православные. Поминайте наши души грешные.
Простите нас, леса темные и дубравы зеленые. Простите нас, поля чистые и тихие заводи. Простите нас, море синее и реки быстрые.
Прости нас, государь наш, тихий Дон Иванович. Уже нам по тебе и атаману нашему с грозным войском не ездити, дикого зверя в чистом поле не стреливать, в тихом Дону Ивановиче рыбы не лавливать».
Всю Русь, все сонмы светлых сил ее, и русские леса, и поля чистые, и дубравы, и заводи, и государя своего Дона Ивановича, как бы зовут к себе на последнюю подмогу казаки. Они прощаются с Русью и просят перед смертью ее благословения.
«Мы пост имели и чистоту душевную», – отмечает письмо. Крылатая высота, сияние русского духа, русский гений в их святом прощании.
В этих степных дикарях, в этом бородатом и суровом донском атамане, Науме Васильеве, что едва, может быть, умел подписать свое имя на грамоте, или в кошевом Остранице, с прозрачными глазами, с бирюзовой серьгой в ухе, во всех них, азовских казаках, светлое и могучее дыхание России, ее вечный завет.
«А после прощания, – рассказывает письмо, – взяли мы иконы чудотворные, Предотечеву да Николину, да пошли с ними противу басурманов на вылазку…»
У турок и казаков перед тем были видения: два юноши светлых выезжали в поле из Азова биться, и от образа Предотечева, от суходрева, «течаху многи слезы…»
Защитники Азова были охвачены духовным подъемом, той светлой одержимостью, какая сильнее и страданий и самой смерти.
«Мы ведали, что стоит над нами милость Божия и заступлением небесных сил на вылазке явно басурманов побили».
В мертвецких белых рубахах шли на вылазку казаки с зажженными свечами, било ночным ветром волосы и бороды. Под иконами, в огнях свечей, с гулом молитв шло на вылазку это войско, уже как бы шагнувшее от земли, победившее самую смерть в последнем порыве.
И вылазка остановила таборы, остановила приступы янычен.
«И мы от бед своих, и от смертных ран, и от истомы отдохнули в те дни, замертво повалились…»
* * *
В те дни, после вылазки, в турецких таборах что-то стряслось. Осаждавшие тоже вымотались. Каждую ночь они страшились казачьего крика, мчащихся привидений. Ночью в таборах поднялась тревога, вой, стрельба. Там приняли друг друга за казаков, там показалось, что азовские мертвецы, босые, в белых рубахах, ворвались в самые шатры пашей.
И ночью, покинувши таборы, все орды и полчища побежали к своим кораблям и каторгам.
«А мы, бедные, на свои руки оборонные и ноги подломленные не надеяся, только чая себе от Бога милости, и от Пречистыя помощи, и заступления Предотечева, крикнули мы, бедные, на их турецкие таборы, а по таборам только огни горят…»
Осаждающие бегут к Черному морю, садятся на свои бусы и каторги, а которые стояли на сухом пути, почали метаться и больше того топились в Черном море… Азов-городок от осады двадцати четырех приступов отбился.
«И мы, остальцы, – всего нас осталось полчетверты тысячи, и те все переранены, – взяли мы иконы Иоанна Предотечи и Николы Чудотворца, место Азовское оставили, а сами пошли на свой Тихий Дон, и там сотворили обитель Иоанна Предотечи и атамана поставили в ней игуменом…»
Гулом древней славы, могущественным, не утихаемым ни в одной русской душе во все века, звучат последние слова казачьего письма:
«Нашему православному государю Михаилу Федоровичу слава вечная во все орды басурманские, персидские и эллинские, нашему атаману Науму Васильеву и всему Войску Донскому слава вечная».
Видение России и русской славы ни на мгновение не покидало этих степных всадников в Азове. Они, простые зипуны, с ними суровый атаман Наум Васильев, недаром звали себя славного Дону рыцарями знатными.
Это было русское рыцарство, и сегодня, через три века, каждое слово об осаде Азова, горящее страданием, бесстрашием, любовью к России и долгом перед ней, отзывается живым звуком в каждой русской душе.
* * *
– Да вы же пужаете нас, поганые, что с Руси не будет к нам ни запасу хлебного, ни выручки. И мы про то сами и без вас, собак, ведаем, какие мы на Руси в государстве Московском люди дорогие…
Так отвечали казаки осаждающим, и не ошиблись. Их любимый государь, Михайло Федорович, пресветлый, ответил с Москвы на казачье письмо:
«Вас за вашу службу, радение, промысел и крепкостоятельство милостиво похваляю. Пишете, что вы теперь наги, босы и голодны, запасов нет и многие казаки хотят разойтись, а многие переранены. И мы, великий государь, послали вам пять тысящ рублев денег. А что писали к нам о городе Азове и бить челом приказывали, то мы велели дворянину нашему и подьячему города Азова досмотреть, переписать и на чертеже начертить. А вы бы, атаманы и казаки, службу свою, дородство, храбрость и крепкостоятельство к нам совершали, своей чести и славы не теряли, за истинную православную веру и за нас, великого государя, стояли по-прежнему крепко и неподвижно и на наше государственное жалование во всем были надежны…»
* * *
Петрова Россия вышла из огня Полтавской баталии.
Но Полтава была завершением воплощения, концом Петрова чуда.
А началось оно еще при царе Михаиле Московском, в Азове, когда несколько десятков тысяч степных всадников явили всем образ бесстрашного и могучего русского духа, победный образ России.
Известно, как любил молодой царь Петр читать казачье письмо об азовском сидении. На нем он как бы познавал могущество русского народа, и оно вдохнуло в него веру в Россию – Победу.
От Азова – в молодой мощи и в Петровой грозе – взошла Россия к Полтавской победе.
И будет за то атаману Науму Васильеву, и всему грозному войску Донскому, и кошевым Остранице и Гуне слава вечная…
Москва царей
I
Меня, о, солнце, воскреси
И дай мне на Святой Руси
Увидеть хоть одну денницу.
Кн. Одоевский
На Сыропустной неделе в последнее воскресенье перед масленицей на Москве свершалось действо Страшного Суда. Действом открывались дни московского великого покаяния и милосердия, благостыни, добра.
Красота Московии и, может быть, вся красота, сила и свет русского духа, какой еще дышит в нас, – все от тех дней удивительной благости Москвы, больше трех веков тому назад…
В воскресенье перед масленицей патриарх Московский с сонмом священства под пение стихир свершал таинственное действо Страшного Суда.
На площади, за алтарем Успенского собора, ставился образ Страшного Суда.
Смолкало пение, все опускались на колени. Один патриарх подходил к образу в своей темно-лиловой мантии и белом клобуке. Полотенцем патриарх утирал образ.
Для нас, потомков, уже невнятно и странно то, что было понятно предкам, как патриарх на деннице в молчании всея Москвы утирал образ Страшного Суда, чтобы перед каждой душой яснее проступил, открылся грядущий Суд Божий.
И до того как патриарх утирал полотенцем образ, московский царь уже начинал дни покаяния и милости.
Часа за три до света государь по спящей, темной Москве тихо обходил, пеший, московские темницы, остроги, богадельни, где лежали раненые, и сиротские дома.
Там государь из своих рук раздавал милостыню и даровал освобождение.
Так было почти четыреста лет назад в той Московии, которую кто только не ленился называть варварской, заушать и поносить. Но если сравнить ту древнюю страну отцов с тем, что творится в теперешнем трупном царстве, – та Москва, четырехсотлетняя, давняя, где сам государь странствовал по нищим, сирым и страждущим, покажется потомку Царством Небесным…
В день действа Страшного Суда в государевом дворце, в Золотой и Столовой палатах, накрывали еще громадные столы.
Государь звал к себе в гости всю московскую нищую братию.
Совершенно удивительна высота человеческого христианского образа Московии в тех трапезах нищих с самим государем.
Такой милосердный обиход установился на Москве после Смутных времен. Страна отцов как будто уже находила тогда чудесное и необыкновенное разрешение всех общественных противоречий, устанавливала удивительное царство мира и справедливости со своим государем и патриархом, Земским собором и с обиходом добродеяния. Нельзя забывать, что каждое деяние государя повторял по мере своих сил каждый московский человек…
И как передать этот удивительный образ Московии, когда в тумане, нанесенном с улиц, в тряпье и в гноище, рваная, нищая, лапотная Москва, в кафтанишках на ветру, дрожащая, со слезящимися глазами, гремящая костями на тележках, с пением стихов, вся шла в царские палаты, озираясь на роспись стен, на золотые и синие многочтимые ангельские силы и воинства, и рассаживалась за убранные столы…
А к нищей братии всея Руси выходил государь в золотой шапке с играющими алмазами, в сафьяновых сапогах, унизанных жемчугами, – как небесное видение – и садился с нищими за один стол.
Так было. Так из года в год свершалось в Москве. Именно так создавался дух Святой Руси.
И был в том залог, свет преображения необыкновенного, какое несла в себе Московия, и, может быть, донесла бы и довершила, если бы ее нетерпеливый и бурный сын, гигант с трясущейся головой, в жажде могущества не погнался бы за немецким барабанным боем, лаврами, громом пушек и фейерверками с горящими вензелями…
Обход царем темниц и острогов и царские трапезы с нищими были не «буквой», это было самое глубокое, таинственное дыхание Московии – Царства Милосердного, – и свидетельство тому хотя бы, что в Золотой палате с царем делили хлеб не какие-нибудь десятки принаряженных попрошаек, а к царю в гости приходила воистину вся нищая Москва.
Так начинались прощеные дни Великого поста.
Государь просил прощения у патриарха, у царицы. Прощались с царицей ее верховные боярыни, мамы, казначеи, постельницы, мастерицы. Государь в Архангельском и Благовещенском соборах просил прощения у гробов своих родителей.
В те дни, когда Москва просила прощения друг у друга и у отцов своих, государь прощал и освобождал колодников, «которые, в каких делах сидят многие лета».
В прощеные дни царем прощались и старые вины.
Тянулись дни Великого поста.
Наша деревенская, наша истовая страна отцов со всех краев посылала к государеву двору из монастырей ржаной хлеб, капусту, монастырский квас.
При царе Алексее Михайловиче особенно славился печением ржаного хлеба и пенными квасами монастырь Антония Синайского под Холмогорами. Со всей простодушной наивностью посылали своим государям на Москву квашеную капусту, ржаной хлебушко да пенничек Коломна и Можайск, Устье Борисоглебское и Никола Угрешский, и Звенигород…
А на Благовещение патриархом совершался чин преломления хлебов.
За всенощной в Благовещенском соборе патриарх благословлял и преломлял благодарные хлеба, а с ними разливал но кубкам вино.
Укруги хлеба, ломти калачей и кубки вина раздавались за всенощной всему народу. Первый же укруг хлеба, первый ломоть калача и первый кубок получал из рук патриарха краса-государь.
На Благовещение государь во второй раз созывал к себе за стол московскую нищую братию, сирот и калек. Это была благовещенская трапеза.
От 1664 года сохранилась запись столового счета. Какую же, действительно, сказочную, великолепную уху варили царевы повара и поварихи для его нищих гостей в громадных царских котлах! Для ухи было куплено двадцать три щуки, каждая «в три чети длиной», а три чети – это аршин с лишним. Язей же, карасей и окуней рассольных было просто «бессчетно»…
Так начиналась благостыня московская – посещением темниц и острогов, освобождением колодников в прощеные дни и двумя великими царскими трапезами для нищей братии – сыропустной и благовещенской. И свершалось так из года в год. На том и стояло царство Московское.
Подходило между тем Вербное воскресенье.
В неделю ваий свершалось шествие на осляти.
Это было всенародное зрелище смирения царя. Патриарх олицетворял образ Христа, Москва, как новый Иерусалим, встречала Его «осанной», а московский царь, пеший, вел под уздцы белого Христова коня.
Русская жажда преображения всего земного в небесное и воплощения небесного в земном была в таком сочетании патриарха на белом коне и пешего царя перед ним.
Иностранцы Маржерет, Бер, Гаклюйт, Олеарий с одинаковым изумлением описывают величие этого шествия.
Из Успенского собора выносили высокую украшенную вербу. Под нею с пением стихир шло пять отроков в белых одеждах. За вербой начиналось шествие больше чем тысячи отроков, в белых одеждах, с горящими свечами. Это было белое шествие.
Потом несли хоругви и образа. Это было золотое шествие: золотые хоругви, священство в золотых и цветных парчовых ризах. За священством в золотой парче, в алмазах и жемчугах шло пешим боярство.
Белое и золотое шествие внезапно прерывалось красным: снова шли отроки, но уже в красных одеждах. Они замечательно, назывались на Москве – пламенниками.
Пламенники сбрасывали с себя красные одеяния, расстилали их перед белым конем.
Перед конем шел государь. Он вел за уздцы белого коня. Конь был весь покрыт ослепительно белым сукном, и его голова была в московском белом капуре.
Царь вел коня под уздцы. На коне – патриарх. В его левой руке окованное золотом Евангелие, правой он благословлял московский народ.
Шествие двигалось за Спасские ворота до Покрова, к Василию Блаженному.
Хрустальные кресты и рапиды несли московские протопопы.
За протопопами шли московские соборные ключари. За ключарями, в цветных ризах, – духовенство всея Москвы.
На Лобном месте патриарх сходил с белого коня и подавал государю палестинскую пальмовую ветвь и русскую вербу.







