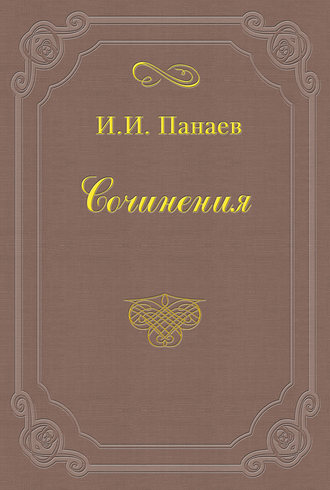
Иван Иванович Панаев
Актеон
Глава X
В то самое время, как Антон явился с докладом к Прасковье Павловне, Петр Александрыч вошел в комнату к жене своей. Эта комната, в которой он давно не был, поразила его, – так резко отделялась она от остальных комнат в его доме. Он с странным любопытством смотрел на все – и на рояль, на котором лежала груда нот, и на столы, на которых разбросаны были книги, и на письменный стол ее, на котором стоял портрет ее матери.
Ольга Михайловна сидела на диване, закутавшись в шаль и прислонив голову к спинке дивана. Она вздрогнула при скрипе отворившейся двери и с изумлением посмотрела на мужа.
Он поклонился ей, нахмурил брови и сделал несколько шагов. Он явно хотел говорить, потому что губы его зашевелились; но слова не сходили с языка… Он еще немного прошелся по комнате, остановился, посмотрел на нее и сказал:
– Вы очень похудели.
– Может быть, – отвечала она.
– Вы больны?
– Нет, я здорова…
Петр Александрии замолчал, открыл одну из книг, перевернул страницу и потом кашлянул.
– А мне нужно объясниться с вами.
– Что вам угодно?..
– Вот видите ли, я ничего вам не говорил до сих пор, а мне все известно… По целой губернии ходят об этом слухи. Я не хочу, чтоб вы имели какие-нибудь сношения с этим учителем… Этого и приличие не позволяет… и мое имя тут страждет… Уж, может, и губернатор и губернаторша об этом знают… сами посудите, хорошо ли это?.. Я ведь ваш муж… ведь на меня пальцами будут показывать… Ну, если губернатор станет надо мной смеяться, что вы тогда скажете?
Ольга Михайловна грустно посмотрела на мужа и ничего не отвечала.
– И переписку завести, – продолжал Петр Александрыч, – да ведь это что же такое наконец?
– Какую переписку? Она подняла голову.
– А вот…
Он вынул из кармана записку учителя.
– Он к вам пишет записки… Ведь у вас еще, кажется, муж не умер, живой перед вами.
Ольга Михайловна вскочила с дивана.
– Кто ко мне пишет? Какая записка? Покажите.
– Извольте…
Она схватила записку дрожащей рукой и пробежала ее.
Лицо ее вспыхнуло от негодования.
– И вы перехватили эту записку и распечатали ее?
– Нет-с, не я, а маменька.
– Что же вам угодно еще от меня?
– Больше ничего, как только все высказать вам это… Я надеюсь, что вы отвечать ему не будете.
– Нет, буду, – сказала она, смотря ему прямо в глаза.
– Как?.. На что же это похоже? Что вы будете отвечать?
– То, что я хочу проститься с ним, видеть его в последний раз.
– И вы мне, вашему мужу, в глаза признаётесь, что любите другого?
– Да, я люблю его, люблю, – повторила она спокойным и твердым голосом, – только не так, как думаете вы и ваша маменька. Я увижусь и прощусь с ним, хотя бы после этого и клеветы, и оскорбление, и презрение всей вашей губернии обрушились надо мною и подавили меня…
Петр Александрыч посмотрел на жену и подумал: «Да она помешалась!»
В эту минуту вошла горничная.
– Нянюшка, – сказала она, – просит вас к себе, сударыня; ей сделалось очень худо.
Ольга Михайловна вышла из комнаты, оставив своего супруга в страшном раздумье.
– Просто, – ворчал он сквозь зубы, – помешалась!..
Старуха няня была уже больна недели две, и в продолжение всей ее болезни Ольга Михайловна почти не отходила от ее постели.
– Что же нейдет моя голубушка-то Ольга Михайловна? Послали ль за ней? – повторяла больная.
Ольга Михайловна неслышными шагами подошла к ней.
– Что с тобой, няня? Тебе хуже?
– Ах, это вы, моя кормилица… Дай мне твою ручку… Плохо, матушка, плохо… Кажется, мой последний час пришел… Да и то сказать, зажилась, родимая; пора домой… Пошли, кормилица, за священником, да вели привести ко мне, матушка, Сашеньку-то… Последний раз посмотреть на него…
Дитя было приведено; вскоре за ним явился и Петр Александрыч.
– Спасибо тебе, кормилец, – сказала ему старуха, – что не забыл меня…
Через минуту она обратилась к Ольге Михайловне.
– Послушай, матушка… ты здесь… Наклонись ко мне… Не препоручай ничего, родимая, Антону, – шептала она, – сохрани тебя бог… и никому из дворни… кроме Петра… А где же мой Сашенька-то?..
– Вот он, няня.
Ольга Михайловна приподняла своего сына и посадила на кровать к больной.
– Голубчик мой, милое мое дитятко… – говорила старуха, смотря на него.
– Благослови его, благослови его, няня! – сказала Ольга Михайловна голосом, задушаемым слезами.
Старуха просила, чтобы ее приподняли. В комнате было как в сумерках. Сероватый осенний день едва проходил сквозь окно в комнату умиравшей, и только слабый свет лампады, теплившейся перед двумя образами, стоявшими у ее изголовья, освещал ее морщинистое лицо, исхудавшее от болезни.
– Во имя отца и сына и святаго духа! – сказала старуха, осеняя дитя своей дрожащей рукой, – будь счастлив, расти, голубчик, отцу и матери на утешение.
Няня поцеловала его и заплакала.
И у Петра Александрыча показались на глазах слезы.
Священник пришел и причастил умирающую. После причастия старуха улыбнулась и как будто с большею живостию посмотрела на всех.
– Поздравьте же меня, – сказала она, – господь сподобил меня, грешную, причаститься святых тайн.
Она несколько минут отдохнула и потом начала говорить, беспрестанно останавливаясь и совсем ослабевшим голосом:
– У меня под кроватью два сундучка стоят да две скриночки… Там вещи, которые я собирала, берегла… разные вещи… Родных у меня никого нет… я была одна, как перст… Это, матушка Ольга Михайловна, я тебе оставляю… Слышишь?
– Слышу, няня… Благодарю тебя.
– Петенька! подойди же ко мне… Петр Александрыч подошел к няне.
Она собрала все свои силы, крепко ухватила его за голову и начала целовать.
– Исполни просьбу твоей старухи, батюшка, последнюю просьбу… береги жену свою… береги ее, Петенька…
Не давай ее никому в обиду, кормилец… У нее нет здесь ни отца, ни матери… Она на чужой стороне… Она добрая, она все за твоей больной няней ходила… А где ты? ты здесь, моя кормилица… Дай, я тебя перекрещу, – сказала няня Ольге Михайловне. – Прощайте все, добрые люди… А где же Прасковья Павловна?..
Голос старухи постепенно замирал; она прошептала еще несколько невнятных слов, раза два простонала – и стихла.
Когда Ольга Михайловна вышла из комнаты няни, в сенях навстречу ей попалась Прасковья Павловна и дочь бедных, но благородных родителей.
– Что наша старушка? – спросила последняя с участием.
– Она скончалась, – отвечала Ольга Михайловна.
– Неужели?..
Дочь бедных, но благородных родителей поднесла платок к глазам.
– А нам даже и не дали знать, что она в таком трудном положении! – сказала Прасковья Павловна, искоса посматривая на свою невестку, – да и зачем? мы ходить с Анеточкой за больными не умеем, где же нам? Мы добродетельными прикидываться также не можем… В притворстве уроков не брали… Учителей у нас знакомых нет; наставлений давать нам некому…
Прасковья Павловна выходила из себя. Дочь бедных, но благородных родителей посмотрела выразительно на свою благодетельницу и едва заметно покачала головой.
– Пойдемте, дружочек Анеточка, простимся с покойницей… дай ей бог вечную память! – Прасковья Павловна перекрестилась. – Не забудьте же, душенька Анеточка, вписать в моем поминанье рабу божию Федосью…
Глава XI
Андрей Петрович, узнав, что его мальчик, посланный учителем в село Долговку, был наказан, пришел в ужасную ярость.
– На моего человека осмелиться руку занести! – кричал он, ходя по комнате и обращаясь к одному из гостивших у него помещиков, – хорошо же! это не пройдет даром… Нет, любезный соседушка, извините… Ну, уж этот Петр Александрыч, сущая баба, признаюсь… Этого я от него не ожидал. Как позволить себя опутать до такой степени!.. «Мать!» – говорит… Имей он уважение к матери – против этого ни слова, да на что же у человека царь-то в голове? как же не жить своим умом?.. Притеснили эту бедную Ольгу Михайловну так, что ни на что не похоже… выводят сплетни по целой губернии, расславили ее на всех перекрестках… да и меня вмешали в эту историю… А учитель мой человек отличный, тихий, благородный… я бы с ним целый век не расстался… Ну, да уж зато какой же я аттестат ему дам, черт возьми! в золотую рамку может повесить просто!.. Вишь, злоба какая! Осмелиться наказать чужого человека!.. Погоди, вот я все их ухищрения обнаружу; я заставлю замолчать целую губернию! Да, я таков… со мной не шути.
Андрей Петрович, который в продолжение всей своей жизни брал только перо для того, чтоб подписывать свое имя, – схватил лист почтовой бумаги и в один присест написал к Петру Александрычу следующее:
«Милостивый государь мой после таких поступков с вашей стороны каков был последний поступок с моим человеком, который принес письмо от учителя к вашей супруги, я не вхожу в рассмотрение по приказанию Вашему или вашей Матушки сделано то, а имею только честь объявить вам, что буде хто из ваших крестьян либо дворовых после сего покажется в моей деревне покровке новоселовке тож то не применет с ним последовать такоеже наказание коему у вас подвергся мой человек. – Засим имею честь быть ваш слуга Андрей Боровиков».
Письмо это не произвело сильного действия на Петра Александрыча; он даже жалел втайне о нечаянной вражде своей с Андреем Петровичем; зато оно чрезвычайно раздражило Прасковью Павловну.
– Ах он, бессовестная душа! низкий человек! – восклицала она. – Уж недаром у меня всегда на сердце было что-то против него!.. Правда, говорят, что все к лучшему, теперь я верю этому… Ну, если бы я выдала Анеточку за него, ведь он погубил бы ее, совсем погубил!.. У кого же нам теперь взять музыкантов для сговору и для свадьбы?.. Вот беда!..
Сговор и свадьба должны были совершиться в губернском городе, где пламенный жених нетерпеливо ожидал избранницу своего сердца. Прасковья Павловна целые дни проводила в сборах и приготовлениях к 26-му сентября: этот день назначался для выезда из села Долговки. Петр Александрыч приглашен был посаженым отцом, а Фекла Ниловна посаженою матерью со стороны невесты.
Дочь бедных, но благородных родителей с тех пор, как торжественно была объявлена невестой, находилась в меланхолическом состоянии. Она беспрестанно вздыхала. Ее несколько тревожило, что жениха ее зовут Парамоном, но зато это окончательно утвердило ее веру в святочные гаданья. Имя Парамона, как известно читателю, впервые услышала она полтора года пред сим, в один из рождественских вечеров, когда робко и трепетно выбегала на улицу вопрошать судьбу о своей участи.
26 сентября утром, перед самым выездом своим из деревни, невеста пришла к Ольге Михайловне.
– Ма-шер Ольга Михайловна, – сказала она, – я должна проститься с вами и поблагодарить вас за внимание ваше ко мне в продолжение всего времени, которое я жила здесь. Меня только убивает мысль, что болезнь мешает вам осчастливить своим присутствием мою свадьбу.
Произнеся это, дочь бедных, но благородных родителей скромно потупила глаза.
– Вы не сердитесь на меня, душенька? – спросила она после минутного молчания, взглянув с чувством на Ольгу Михайловну.
– За что же-с?
– Вы могли думать, что я была отчасти причиною неприятностей, которые последнее время терпели вы от Прасковьи Павловны, а я, клянусь вам, всегда еще удерживала ее, сколько могла, хвалила ей вас…
– Очень вам благодарна.
– Мне всегда так жалко было на вас смотреть; я всегда самое искреннее участие принимала в вас… Позвольте мне быть уверенной, что мы расстаемся с вами без всяких неприятностей?
– Совершенно. Желаю вам всякого счастия.
Дочь бедных, но благородных родителей поцеловала Ольгу Михайловну и заплакала.
Все было готово к отъезду. Прасковья Павловна, Семен Никифорыч, Петр Александрыч и невеста, в салопах и шинелях, присели минуты на две, как это обыкновенно водится; потом помолились; потом Прасковья Павловна начала рыдать и благословлять свою Анеточку; потом все пошли к карете, где ожидали их мрачный Антон и вечно цветущая Агафья.
В эту самую минуту Илья Иваныч, приехавший в тележечке на одной лошадке, подбежал к отъезжающим.
– Ах, Илья Иваныч! – закричал Актеон.
– Эге! Илья Иваныч, – произнес Семен Никифорыч.
– Илья Иваныч! Илья Иваныч! – пропищала Прасковья Павловна с Анеточкой.
– Мое почтение-с. А я привез вам новость-с. Село Козмо-Демьянское графа Воротынцева продано совсем, с померанцевыми деревьями-с, с фабрикой, с домом и со всеми угодьями за миллион двести тысяч-с.
– Кому? кому? – закричали все в один голос.
– Дмитрию Васильичу Бобынину.
– Вздор! – вскрикнула Прасковья Павловна, обомлев.
– Ей-богу-с. Уж и купчая, говорят, совершена-с… Да в городе вы всё сами узнаете.
Прасковья Павловна бросила значительный взгляд на сына.
– А вы куда-с едете? – спросил Илья Иваныч.
– Ах, батюшка, да разве ты не знаешь? Везу отдавать замуж Анеточку.
– Поедемте-ка с нами, – сказал Актеон, – как будет весело, какие будут обеды, ужины!.. – Он подумал: «Ай да Дмитрий Васильич! Как-то я, выручу от него деньги, отданные на филатуру?»
– Вы, Илья Иваныч, сядете там сзади, в тарантасе, с Настей и с Машей, – заметила Прасковья Павловна.
– Как же, я жене и детям ничего не сказал-с! Разве с моим мужичком послать их уведомить, что я, дескать, с вами в город поехал?
– И прекрасно. Так решились?
– Решился-с.
На свадьбе будем мы отлично пировать
И молодым всех благ и счастия желать.
Проговорив это двустишие, Илья Иваныч бросился к своей тележке, вынул из нее свой чемоданчик, отдал приказ своему мужичку и расположился в тарантасе.
В карету села, кроме четырех господ, Агафья Васильевна. Антон взгромоздился на козлы. Гришка стал на запятки. Карета двинулась, и за нею два тарантаса, нагруженные перинами, подушками и девками.
В этот же вечер Ольга Михайловна написала к учителю:
«Завтра утром я ожидаю вас к себе. Вы никого не встретите. Я одна, все уехали в город».
Но с кем послать эту записку?
Ольга Михайловна задумалась: вдруг ей пришло на память, что умирающая няня говорила о Петре. Этот Петр находился под опалой у Прасковьи Павловны и редко приходил в комнаты. Ольга Михайловна велела позвать его к себе. Он явился.
– Возьмешься ли ты доставить эту записку учителю, который живет у Андрея Петровича? – спросила она.
– Почему же нет-с? Да лучше всего, сударыня, отдать ее покровскому крестьянину, который здесь проездом у нашего мужичка Ермолая.
– И он доставит ее?
– Как же-с, непременно; наказать только ему строже.
– Так возьми же эту записку и попроси его, чтоб он доставил ее сегодня же, если может.
– Слушаю-с. – Петр ушел.
На следующее утро она встала рано и вышла в сад. Погода была пасмурная; серые тучи кругом обложили небо. Резкий ветер, поднявшийся с поля, со стоном качал полуобнаженные деревья; желтые листья грудами лежали на земле, утки лениво ныряли в пруде; на полусгнившем и почернелом заборе висело белье; по крыше разваливающегося дома лепился мох; ставни у многих окон сорвались с петель и качались со скрипом…
Она возвратилась в свою комнату и села в тревожном ожидании у окна, прислушиваясь к однообразному стуку и шипенью старинных стенных часов. Сердце ее ныло и замирало от грусти. На ней было белое платье – такое же, как в тот день, когда она увидела его в первый раз. Осунувшееся лицо ее было покрыто ярким румянцем; глаза блестели; грудь подымалась тяжело и неровно.
Вдруг раздались чьи-то шаги в тишине. Кто-то всходил на лестницу. Она начала слушать. «Это он!» – прошептала она и пошла к нему навстречу.
– Я издалека узнала ваши шаги, – сказала она, улыбаясь и протягивая ему руку. – Видите ли, как старые друзья ваши помнят вас?..
Она села на диван и указала ему место возле себя.
– Я думал, что уж более не увижусь с вами.
– О нет, нет! вы не должны были уезжать, не простясь со мною… А вы скоро едете? – спросила она немного изменившимся голосом…
– Через два дня, – отвечал он.
– Через два дня! – повторила она, задумываясь. – Наконец ваше всегдашнее желанье исполняется…
– И странно! в эту минуту, – сказал он, – я счел бы величайшим счастием, если б мне навсегда можно было остаться здесь…
Несколько минут они молчали.
– Куда же вы едете? – спросила она.
– В Италию.
– Поезжайте, поезжайте! вам будет лучше там… Я рада за вас. – Она опять задумалась. – И я когда-то думала быть в Италии… только это очень давно.
Она улыбнулась.
– И я вижу вас в последний раз? – произнес он голосом, вырвавшимся из глубины болящей души.
– В последний!
На глазах ее показались слезы…
– Да… я теперь начинаю вспоминать… вы когда-то желали услышать от меня еще раз – Шуберта… Теперь я могу исполнить ваше желание. – Она села к роялю и с минуту как будто припоминала что-то… Легкий, едва заметный трепет пробежал по ее телу… руки прикоснулись к клавишам, и раздались печально-медленные аккорды «Странника».[3]
Она пела:
…«Тихо и грустно странствую я по жизненному пути, и вздохи беспрестанно спрашивают: где же, где?»
«Здесь солнце светит на меня так холодно… цвет жизни моей вянет, речи их – для меня звуки пустые…»
«О, где же ты, где ты, моя возлюбленная страна, так мной любимая, предчувствуемая и никогда мной не знаемая? Страна, столь полная надежды, – страна, где цветут мои розы, где живут друзья мои, где восстают мои мертвые, – страна, где говорят моим языком, – о, где же ты, где ты?»
«Тихо и грустно странствую я по жизненному пути, и вздохи беспрестанно спрашивают – где она, где она?»
«Мне слышится, словно в дуновении ветра прозвучал таинственный голос: там, где нет тебя, – там твое счастие…»
Она смолкла, голова ее болезненно склонилась к груди… Это была ее лебединая песнь. Он смотрел на нее, и по бледному лицу его ручьями лились слезы….
Отдохнув, она долго еще разговаривала с ним о своей жизни в Москве, о чужих краях… Наконец он встал со стула и взялся за шляпу.
– Вы уж идете? – сказала она, сжимая его руку. – Прощайте; да благословит вас бог!.. Благодарю вас… за все… Вам я обязана лучшими минутами моей жизни… – Она едва могла договорить последнее слово; силы оставили ее, и голова ее упала к нему на грудь.
Минуты две она была в каком-то забытьи; вдруг приподняла голову, отвела от глаз свои волосы и смотрела на него долго и пристально, будто стараясь еще более напечатлеть в своей памяти черты его.
– Прощайте! – повторила она, – если когда-нибудь случится вам быть в этих местах, зайдите на мою могилу…
Она улыбнулась.
Он ничего не мог говорить: слезы задушали его, он только жадно прильнул к ее рукам в упоении отчаяния…
Она проводила его до другой комнаты… потому что силы не позволяли ей идти далее, и села у окна, которое выходило на улицу.
Он давно скрылся, но она все еще сидела у окна…
У Полицейского моста, часу в 3-м утра, офицер с серебряными эполетами и с черным султаном остановил офицера с золотыми эполетами и с белым султаном.
– Бон-жур, мон-шер, – кричал офицер с черным султаном, хватая почти насильно за руку офицера с белым султаном, – куда идешь? что ты сегодня делаешь? отчего так бледен? – Слышал новости, мон-шер?
– Какие?
– Сюда две француженки приехали, прехорошенькие, прямо из Парижа; я за одной из них волочусь… она подарила мне колечко с изумрудом… я тебе после покажу… Как она мило говорит: «Je vous adore!», ты не поверишь… А кстати, ты ведь знал Петра Александрыча Разнатовского?.. Пьер, такой славный малый? Я у него шафером на свадьбе был. Мы еще вместе с ним кутили… я у него сто тысяч выиграл последний раз, как ездил к себе в деревню, знаешь?
– Да как, братец, не знать?.. Ну, что же?
– И помнишь его жену, мон-шер? Она к Горбачевым ездила, шармант персонь была!.. Она всегда такие длинные черные локоны носила и славно вальсировала…
– Да, знаю, братец, что же дальше?
– Умерла с год назад тому… я только недавно узнал об этом, мон-шер.
– Так, по-твоему, это тоже новость?
– Еще бы! ведь ты не знал этого! А Петр Александрыч, говорят, недавно женился, и знаешь, на ком? – трудно поверить… На своей горничной Агашке… Мне пишут об этом из тех мест, мон-шер, где его деревня, – ей-богу!
– Неужели?..
– У него, говорят, всего осталось пятьдесят душ. Дмитрий Васильич Бобынин чудно обработал его! А мы сегодня, мон-шер, кутим напропалую с Костей и с Петрушей. У Дюме особый обед заказали по пятнадцать рублей с персоны, без вина… У него новый чудесный повар… О-плезир, мон-шер.







