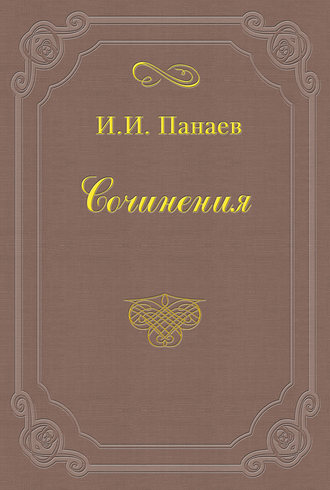
Иван Иванович Панаев
Актеон
Глава VII
Этот проигрыш был последней данью, заплаченной Петром Александрычем прошлой жизни. Он навсегда простился с порывами и с сильными ощущениями. С этих пор щекотали его только мелочные страстишки и ощущеньица! «Хорошо бы сделаться какою-нибудь важною чиновною особою в уезде», – думал он, или: «Недурно бы съездить к губернатору; его превосходительство меня ласкает; пусть видят это другие помещики». И вдруг лениво подымался он с своих кресел, в которых обыкновенно дремал после жирного обеда, приказывал готовить экипаж и отправлялся в губернский город. Он любил также поохотиться, для того чтоб пощеголять своими собаками.
Однажды так, бог знает для чего, вздумалось ему показать, что он знает толк в хозяйстве. Призвав управляющего, Петр Александрыч произнес с важностию:
– Зимний путь уж установился; отправьте же поскорей подводы в Москву с надежным человеком – во-первых, для закупки годовой провизии, а во-вторых, для того, чтоб взять у братьев Бутеноп четырехконную молотилку, веялку, плуг и экстирпаторы. Это все необходимо нужно иметь.
Управляющий, изумленный таким приказанием, лукаво улыбнулся и произнес:
– Слушаю-с.
Приказание Актеона было в точности выполнено. Означенные земледельческие орудия привезены и поставлены в каретные сараи, откуда они уже никогда и не выдвигались. В другой раз он призвал управляющего и изъявил ему желание присутствовать на так называемых посиделках. Это последнее желание уже нисколько не показалось странным Назару Яковличу… Все шло хорошо… Семен Никифорыч гостил в селе Долговке по неделям и по месяцам. Он, вероятно, перестал оскорбляться невнимательностию к нему Ольги Михайловны. Петр Александрыч играл с ним по маленькой в преферанс. Покуривая сигарку, лениво бросал он карты на зеленое сукно… Это было тотчас после обеда.
Вошедший Фомка отвлек его внимание.
– Что тебе надобно? – спросил у него Петр Александрыч.
Фомка, только что возвратившийся из уездного города, подал барину письмо. Письмо это было застраховано.
– От кого бы это?
Актеон отложил карты в сторону, распечатал и прочел письмо.
«Cher ami Петр Александрыч, – писал к нему офицер, – прости, что я беспокою тебя. Мне крайняя нужда в деньгах. Сделай одолжение, вышли мне должные тобою пятьдесят семь тысяч через две недели в Петербург (адрес мой при сем прилагаю). Если ты к сему сроку не вышлешь деньги, то не пеняй на меня, – я вынужден буду представить записку твою куда следует; а ты знаешь, что такого рода записки имеют силу. – Еще раз повторяю мою просьбу о деньгах. Не заставь меня ссориться с тобой, mon cher. – Adieu, будь здоров. Поклонись от меня жене своей и маменьке…
Твой pour toujour
Анисьев».
Откуда же взять столько денег и в такое короткое время? Управляющий говорит, что на доходы надеяться нечего, что скоро придется кормить крестьян по случаю долгих неурожаев, а большие-то доходы обещает он не прежде, как года через два.
Петр Александрыч нахмурился. – У него денег оставалось очень немного… Он уж истратил несколько новеньких ассигнаций, – нарушив честное слово, данное им самому себе, не прикасаться ни в каком случае к этим деньгам… Что делать?
«Зачем, – подумал Петр Александрыч, – я дал ему эту проклятую записку?.. Можно было бы как-нибудь отделаться от него и не заплатить… А теперь беда!..»
– За…адумались, Петр Александрыч, – сказал Семен Никифорыч, – ва…аш ход…
– Мне, признаться, не до игры, – произнес Петр Александрыч и объяснил Семену Никифорычу причину своего беспокойства.
– Де…е…ело не шуточное!
Семен Никифорыч выпустил изо рта и из носа тучи дыма и положил на стол свой коротенький чубучок.
– У кого бы занять? – подумал вслух Петр Александрыч.
– За…нять? Мм! по…просите… у Прокофья Евдокимыча; у…у него целые по…двалы денег, в землю зарывает… ей-богу… А… а…вось даст… неровен час; он и…иным и давал…
– Маменька! – закричал Петр Александрыч, – пожалуйте к нам на совет.
– Сейчас, мой голубчик… – отвечала Прасковья Павловна, выходя из ближайшей комнаты.
– Что тебе посоветовать, мой ангел?.. Ах, Семен Никифорыч! материнскому сердцу как приятно слышать это… Он, голубчик мой (она указывала на сына), видит, что я опытнее его, желаю ему добра, он без меня ничего и не предпринимает.
– Это по…похвально, – сказал Семен Никифорыч. Петр Александрыч прочел матери письмо, полученное им, и передал ей мысль Семена Никифорыча о займе денег у Прокофья Евдокимыча.
– Нечего делать, – произнесла Прасковья Павловна, вздыхая, – надо перепробовать, дружочек, все средства… Авось этот скряга, гнусный старичишка, хоть один раз в жизни покажет себя с благородной стороны… Только советую тебе, дружочек Петенька, поезжай к нему сам. Ты этим, во-первых, сделаешь ему честь, и кто знает, может, это его тронет…
– Хорошо-с; а что, маменька, правду ведь вы говорили, что в нынешнем свете трудно найти приятелей, – так и вышло по-вашему.
Петр Александрыч смял письмо офицера в комок и бросил под стол.
– Я, друг мой, никогда не говорю пустяков… Уж я все испытала в жизни: так моим словам можно верить…
На другой день рано утром Петр Александрыч облекся в дядюшкину медвежью шубу, два исполина уложили его в пошевни, Гришка присел на облучок, кучер дернул вожжами – и лихая тройка помчала барина.
Перед ним расстилались необозримые снежные равнины, середи которых изредка чернелись деревеньки, мелькали деревья, опушенные инеем, да испуганные вороны, отряхая снег с ветвей, поднимались с карканьем, тяжело махая крыльями, и исчезали в отдалении черными точками на сером небе.
В уездном городе звонили к обедне, потому что это было воскресенье… По единственной улице города, на которой торчал неуклюжий каменный дом между разваливающимися домиками и избами, – плыли, как павы, жирные разрумяненные и расписанные мещанки в малиновых штофных телогрейках на лисьем меху; за ними выступали мужья их в синих сибирках, шли ямщики в засаленных тулупах да тащились две или три старушонки в порыжелых салопах… У калитки дома, украшенного елкою, стоял приказный, облизывая губы и несколько пошатываясь, а далее мальчишки скатывались на салазках с горки, устроенной возле самой проезжей дороги…
От села Долговки до села Карташева, в котором имел резиденцию богатый старичок, считалось с лишком верст сорок. Петр Александрыч завидел издалека цель своего путешествия. Село Карташево казалось в шесть раз более уездного города, через который он проехал, и украшалось двумя каменными церквами; это село, состоявшее из тысячи восьмисот душ, принадлежало разным помещикам. Прокофий Евдокимович был один из главных: он владел в нем восемьюстами душами. Прокатив по узкой улице, в которой избы, как во всех старинных деревнях, тесно прилеплялись одна к другой, кучер спустился на озеро, мигом поднялся на противоположный берег, повернул налево, въехал на небольшой дворик, обнесенный развалившимся забором, и остановил лошадей у крыльца.
На крыльце небольшого домика стояли с разинутыми ртами и с выпученными глазами какие-то мальчишки в серых куртках домашнего сукна.
– Дома ваш барин? – спросил у них Гришка, спрыгивая с облучка.
Мальчишки молчали.
– Эй вы, щенки! вас спрашивают. Слышите?
– Кого вам надо? – сказал один из мальчиков, почесываясь. – Тятеньку, что ли?
– Какого тятеньку! Пошел, дурак!
Гришка помог барину своему вылезть из пошевней и взбежал в сени. В сенях у двери стоял чан с водой и несколько кадочек. Он начал стучать в дверь.
– Кто там? – раздался грубый женский голос. – Чаво надо?
– Гости приехали; дома ли ваш барин?
Голос смолк, и минуты через три дверь, запертая изнутри железным засовом, заскрипела и отворилась.
– Сюда, батюшка, сюда, кормилец! – сказала баба, кланяясь Гришке. – Кто вы такие?
– Да здесь ли живет Прокофий Евдокимыч? – спросил Петр Александрыч.
– Здесь, кормилец, здесь. Палашенька, скажи барину, что гости приехали.
Баба обернулась к девочке, которая выглядывала из-за нее.
– Погоди, кормилец, погоди, вот она сейчас воротится. Барин ответ даст.
Девочка минут через пять воротилась.
– Какие гости, спрашивает барин, – запищала она.
– Какие же вы гости, батюшка? как о вас сказать? – спросила баба, смотря на Петра Александрыча и на Гришку.
– Скажи, что приехал помещик из села Долговки.
– Отколева?
– Из села Долговки, дура! – закричал Гришка.
– Долговские. Вишь!
Баба ушла.
Петр Александрыч стоял в ожидании бабы, не снимая своего медведя, потому что в передней Прокофья Евдокимыча было несравненно холоднее, чем на дворе.
– Может ли это быть?.. – послышался минут через десять слабый голос во второй комнате, – где?.. Ты врешь…
– Врешь! чаво врать? – отвечала баба. – Посмотри сам, батюшка.
Прокофий Евдокимыч в теплом, изорванном и истертом халате робко выглянул в переднюю.
– Петр Александрыч!.. – воскликнул он с видимым замешательством и замахивая полы своего халата… – Вы ли это?.. Сами беспокоились… Я не стою такой чести. Милости прошу, сударь… Извините. Лакеи мои все разбежались, а я больной… Не осудите…
Петр Александрыч снял шубу и вошел в следующую комнату.
– Сюда, сюда, – говорил старичок, пожимая одной рукой руку гостя, а другой придерживая полу своего халата. – Покорнейше прошу в гостиную… Вот так, на диванчик.
Голые бревенчатые стены этой гостиной украшались двумя пятнами в рамках, которые старичок принимал за картины, диваном и несколькими стульями, обитыми черной кожей…
Петр Александрыч смотрел на все это и не верил глазам своим.
Едва он уселся, как во всех дверных щелях засверкали глаза; двери немного раздвинулись – и обоего пола ребятишки, «полубарчонки», как обыкновенно звали их в доме, начинали высовывать из дверей свои головы.
– Чему я должен приписать честь видеть вас у себя?.. – Старичок закашлялся, исподлобья посмотрел на гостя и погрозил ребятишкам, которые мгновенно скрылись. – Истинно не знаю, как вас благодарить.
Старичок поднялся со стула и поклонился гостю. Ребятишки снова показались у дверей…
– Я давно, признаться, сбирался к вам, – сказал Петр Александрыч.
– Очень благодарен… – Старичок кланялся. – Чем угостить мне вас, дорогой гость?.. Чайку не прикажете ли?.. Эй, Акулина, подай нам чаю… да и вареньица уж кстати… Не правда ли, и вареньица? – повторил он, посмотрев умильно на Петра Александрыча.
– Покорно вас благодарю… я…
– Не побрезгайте же моим угощением, дорогой гость.
Петр Александрыч не смел отказаться. Странный напиток, который старичок принимал за чай, был подан, и к нему на двух блюдечках медовое варенье, сверху посыпанное сахаром. Петр Александрыч, хлебнув немного из своей чашки и почувствовав нестерпимую горечь на языке, поморщился.
– Вареньица-то, пожалуйста, вареньица, – говорил старичок, кашляя.
– Я к вам, между прочим, с небольшой просьбой, – сказал Петр Александрыч, немного заикаясь.
Старичок вздрогнул.
– С какой, почтеннейший, с какой? Очень рад услужить, чем могу…
– Видите ли… мне крайне нужно на год или на полтора, никак не более, пятьдесят семь тысяч… Разумеется, мы сделаем заемное письмо; проценты…
– Пятьдесят семь!.. – Старичок вскочил со стула, озираясь кругом. – Боже мой!..
Он закашлялся и схватил себя за грудь. – Да отчего ж вы полагаете, что у меня есть такая огромная сумма?
– Я так думал… зная ваше состояние… Поверьте, ваши деньги будут в верных руках.
– Верного ничего нет на свете, ничего! – завопил старичок в отчаянии. – Какое состояние у меня!.. До тех пор, покуда я не продам все, что имею, до последней душонки, и не обращу всего в деньги, – я нищий, ей-богу, нищий. Неурожаи, голод…
Он опять закашлялся и начал стонать.
– Извините меня… ради бога, извините меня… Если б у меня было, например, хоть три тысячи… это я так только говорю… у меня и ста рублей в доме нет… я, чтоб угодить вам, заслужить ваше внимание, отдал бы последние; клянусь сегодняшним праздником…
– Так вы никак не можете удовлетворить моей просьбы?..
– Для вас… я готов был бы заложить все, что имею… – Старичок осмотрел кругом свою комнату. – Да у меня и вещей-то нет никаких… Видите ли, как я живу? Седьмой год домишко для себя собираюсь выстроить, и то не на что… А чайку-то не прикажете ли еще?
– Нет-с, я до чаю не охотник. Да и к тому же мне пора ехать… Я должен еще остановиться в городе у почтмейстера.
– А вареньица-то? хоть одну ложечку…
Насилу отвязавшись от Прокофья Евдокимыча и проклиная его внутренне, бросился Актеон в свои пошевни и горестно произнес:
– Домой…
– Маменьке мое почтение, супруге! – кричал старик, высовывая в форточку голову свою, на которую был напялен вязаный колпак.
Возвратись домой, Петр Александрыч тотчас пошел в комнату к своей матери. У нее он нашел Феклу Ниловну.
– Что это? уж ты и возвратился, голубчик мой! Отчего так скоро? – спросила Прасковья Павловна, смотря с беспокойством на сына.
Петр Александрыч не хотел говорить о своем проигрыше и о горестном результате своей поездки при посторонней женщине. Прасковья Павловна сейчас поняла это.
– Ангел мой, Петенька, – сказала она, – при Фекле Ниловне ты смело можешь все говорить. Она любит тебя и принимает в тебе самое горячее участие. Феклу Ниловну я ни с кем наряду не поставлю. Это я об ней всегда скажу и за глаза. Я знаю цену людям; я, слава богу, в продолжение моей жизни умела найти себе истинных друзей, – этим я могу гордиться. От Феклы Ниловны у меня нет секретов. Я прошу тебя быть с ней, как с родной.
– Любите меня, батюшка, – закричала, в свою очередь, Фекла Ниловна, – прошу покорнейше. Уж вы мне по матери дороги; к тому ж я вас на руках носила… махонький был такой…
– Ну, что сказал тебе этот гадкий скряга? – продолжала Прасковья Павловна, прерывая речь своей приятельницы, – говори откровенно, мое сердце. Фекла Ниловна уже все знает: я ей рассказала, куда и зачем ты ездил.
– Да что – плохо, маменька! Он уверяет, что у него и ста рублей нет в доме.
– Что? а? Недослышу, батюшка.
Прасковья Павловна повторила Фекле Ниловне слова своего сына.
– Ах он, проклятый грешник! – вскрикнула Фекла Ниловна, всплеснув руками. – На краю гроба, и лгать не боится. Да на том свете нет и такого наказания, какого он достоин, ей-богу; а? что? Прасковья Павловна, как ты думаешь?
– Правда, совершенная правда. Изверг бесчувственный! Вот небо-то коптит: ни себе, ни другим добра не приносит…
Впрочем, Петру Александриту от всех этих восклицаний было не легче. Он долго думал, что ему предпринять, чтоб уплатить свой карточный долг офицеру с серебряными эполетами, и наконец решился прибегнуть опять к Дмитрию Васильичу Бобынину.
Дмитрий Васильич тотчас же по приезде офицера в Петербург узнал о проигрыше Петра Александрыча. Как человек сметливый и умевший извлекать из всего свою пользу, Дмитрий Васильич отправился к офицеру и предложил ему, вместо пятидесяти семи тысяч «неверных», как говорил он, чистыми деньгами пять тысяч. Он выложил перед офицером соблазнительную груду ассигнаций. Офицер подумал немного, посмотрел искоса на ассигнации и согласился на предложение. Тогда Дмитрий Васильич заставил офицера написать к Петру Александрычу письмо, которое привело героя моего в такое замешательство. Расчет Дмитрия Васильича был верен. Он предполагал, что Петр Александрыч не обойдется без него, – и не ошибся. Он забрал в свои руки все состояние доверчивого Актеона, заложив его имение и отдав деньги на бумагопрядильную фабрику; он, в счет долга, присвоил себе его капитал, доставшийся ему после дяди; он взял с него новое заемное письмо в пятьдесят семь тысяч; кроме всего этого, он имел постоянные и секретные сношения с его управляющим. Петр Александрыч не мог нахвалиться благородным и добрым Дмитрием Васильичем…
Фекла Ниловна пробыла в селе Долговке более двух недель и уехала домой неохотно, потому что сама она, пять душ ее и четыре лошади лишились дарового корма. Во все время пребывания своего в гостях Фекла Ниловна вставала очень рано и всякое утро будила ленивых дворовых девок и баб Петра Александрыча, приговаривая:
– Слыхано ли дело вставать так поздно… а? Будь вы мои, я бы с вами справилась… Это ни на что не похоже…
Потом она обращалась к Прасковье Павловне:
– Что ты, матушка, не смотришь за здешней дворней-то? а? ведь, кажется, ты хозяйка дома… что?
– Ах, милая! – возражала обыкновенно Прасковья Павловна, махая рукою, – уж я взыскиваю, взыскиваю с них, да нет – никаких сил человеческих недостанет.
Если б я была настоящая хозяйка в доме, тогда другое дело.
Фекла Ниловна в отсутствие Прасковьи Павловны показывала невестке ее величайшее внимание и однажды сказала ей, посмотрев на нее с чувством:
– Ах, родная моя, жалкая ваша участь!.. Теперь я все своими глазами видела. Свекровь ваша заест вас, заест…
В тот же день Фекла Ниловна говорила Петру Александрычу:
– Послушайтесь моего совета, батюшка, не давайте свою матушку обижать никому; у меня вчуже сердце кровью обливается, когда я посмотрю, как жена ваша обращается с нею… а?.. что?.. Простите за откровенность, я уж такая… что делать… Мать все ближе: мать под сердцем вас носила…
Вскоре после отъезда Феклы Ниловны домой в том уезде, где находилась ее деревня, начали носиться слухи о связи жены долговского помещика с учителем Андрея Петровича Боровикова…
Наступили святки – самое поэтическое время для русских людей. В деревне, во дворе и в барском доме все пришли в движение, все одушевились… Вечера, посвященные на переряженье и гаданье, пролетали незаметно.
Для Прасковьи Павловны и для дочери бедных, но благородных родителей беспрестанно выливали олово и воск… Они беспрестанно рассматривали на тени выливавшиеся им фигуры.
– Посмотри, Анеточка, посмотри, – говорила Прасковья Павловна, – что тебе вышло. Вишь, как много народу. А вот поодаль-то стоит фигура, точно кавалер: он обнимает девицу. Увидишь, что тебе нынешний год выйти замуж, вспомяни мое слово.
Накинув платок на голову, дочь бедных, но благородных родителей несколько вечеров сряду выбегала на большой двор, не чувствуя ни малейшего холода, хоть снег, сверкавший миллионами разноцветных звездочек, сильно хрустел под ее ногами. Она подходила к забору и с биением сердца произносила:
Залай, залай, собаченька, залай, серенький волчок.
И, как будто послушные ее зову, собаки начинали лаять у дома.
«Слава богу! – думала она, – собаки лают вблизи: это хороший знак. Я выйду замуж не на чужую сторону».
В другой раз она вышла на улицу и долго стояла в ожидании прохожего. Наконец показалась какая-то фигура в тулупе, вывороченном наизнанку. Она закричала:
– Как зовут?
– Парамон, – был ответ.
Никто деятельнее ее не принимал участия во всевозможных гаданиях. Она приказывала приносить в свою комнату кур, снятых с насести, пересчитывала балясы на крыльце, говоря: «вдовец, молодец», собирала из прутиков мостик и клала под подушку и прочее.
Вечером на Новый год старуха няня также принялась за гадание. Она налила стакан теплой воды, распустила в этой воде яичный белок и поставила его за форточку. Наутро она явилась с этим стаканом к Ольге Михайловне…
– Поздравляю тебя, матушка моя, с Новым годом, с новым счастьем, – сказала она ей, низко кланяясь. – Вот я, признаться, вечор загадала на тебя, родимая; посмотри, как хорошо тебе вышло.
И старуха, весело улыбаясь, показала Ольге Михайловне стакан.
– Спасибо тебе, няня. Что же значат эти фигуры?
– Участь твоя переменится, матушка. Ты скоро будешь жить в радости.
И старуха начала по-своему толковать изображения в стакане.
– А мне кажется, няня, фигура эта похожа на церковь. Может быть, я умру нынешний год?
– Ах, сударыня, сударыня! не стыдно ли тебе говорить этакое? Сегодня не годится иметь такие мысли; выкинь их, кормилица моя, из головы. Постой-ка, мне давно хотелось кое-что шепнуть тебе на ушко. Послушай моих советов…
Старуха отвела Ольгу Михайловну в угол комнаты и осмотрелась кругом.
– Что такое, няня?
– А вот что, матушка; не пей ты ни чаю, ни кофею, когда разливает Прасковья Павловна или эта старая барышня…
– Отчего же? – спросила Ольга Михайловна, изумленная загадочным тоном старухи.
– Да так, моя голубушка, ты не бойся; они вреда тебе не сделают, а я все-таки тебе скажу к слову. У нас в деревне есть одна старушонка: вишь, толкуют, будто бы она водится с нечистою силою, – кто ее, проклятую, знает; она принесла Прасковье Павловне какое-то заговоренное питье, для того чтоб ты совсем опротивела мужу. Они и хотят подливать тебе потихоньку этого питья в чай. Он-то, мой голубчик, ничего не знает; не вини его, матушка… Он любит тебя, да его, знаешь, сбили с толку; а все эта барышня… ох, змея подколодная! Она и Прасковью-то Павловну совсем опутала. Ведь ты его любишь, родная?
Няня тяжело вздохнула.
– Ведь ты на него не сердишься?
– Нет, нет; будь спокойна, няня.
Когда старуха вышла из комнаты, в голове Ольги Михайловны мелькнула темная мысль, от которой она невольно вздрогнула.







