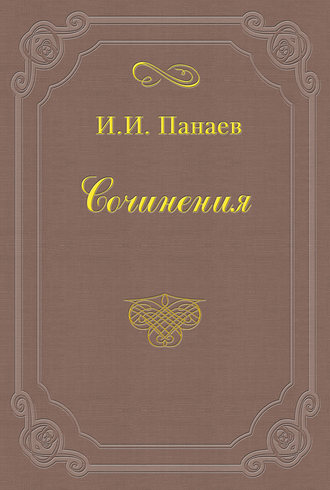
Иван Иванович Панаев
Актеон
Глава VI
Однако ни Прасковья Павловна, ни дочь бедных, но благородных родителей (при всей проницательности) не могли заметить перемены, совершившейся в Ольге Михайловне с того дня, в который Андрей Петрович угощал своих новых соседей обедом и увертюрой из «Калифа багдадского». Эта перемена в ней не могла быть уловима для их глаз: она совершалась внутри ее. Ольга Михайловна реже ощущала эту страшную пустоту, это беспредельное, мучительное сознание одиночества, которое три бесконечные года не оставляло ее. И хотя она после еще видела его только один раз и в этот раз не поменялась с ним ни одним словом, но мысль, что недалеко от нее есть человек, понимавший ее, близкий ее сердцу, – эта мысль действовала на нее успокоительно. Ее страдания иногда утишались и переходили в тихую грусть – в то эфирное чувство меланхолии, о котором он писал ей некогда, объясняя Шуберта. Душа ее чаще открывалась для звуков великого композитора, и она глубже воспринимала их в себе и отраднее упивалась ими. Под влиянием этого вдохновенного, музыкального состояния души она смотрела и на природу, окружавшую ее. И тогда все представлялось ей в другом свете, все получало для нее жизнь и значение – листы, падающие с деревьев, озеро, лениво приподнимавшее свою свинцовую грудь, над которым лентою тянулось стадо диких уток, необозримые нивы, щетинившиеся жнивою, и огонек отдаленной деревни, то ярко вспыхивавший, то потухавший… Она терпеливо сносила насмешливые взгляды Прасковьи Павловны, рассеянно выслушивала ее колкости, вполовину понимала ее тонкие намеки; не видела перемены в обращении с нею мужа и не подозревала, какими сетями приготовлялись опутывать ее. Она как будто забылась на минуту в уединенной жизни сердца. А отношения к ней Прасковьи Павловны и Петра Александрыча делались так очевидны, что скоро вся дворня перестала смотреть на свою молодую барыню с тою робкою боязнию, с какою обыкновенно смотрят лакеи на своих господ. Все наперерыв старались показать свои услуги барину, старой барыне и дочери бедных, но благородных родителей, а об Ольге Михайловне никто не думал и не заботился. Только из всей дворни одна старуха няня своим бессознательным, но сильным чувством привязалась к ней: няня по-своему понимала ее тоску – и, как умела, старалась показать ей свое участие.
– Полно тебе скучать, моя родимая, – говорила она ей, устремляя на нее свои глаза, помутившиеся от старости, и сжимая ее руку своей костлявой и дрожащей рукой, – полно, моя матушка… Бог даст, все пройдет, все переменится. Вот здесь твое сокровище (она указывала на спящего малютку), – посмотри на него, порассейся немножко, авось у тебя будет на сердце полегче. Ох-ох, моя сердечная! и я потерпела много горя на свой век, – а вот дожила себе до старости.
Однажды после обеда (это было в исходе сентября) Ольга Михайловна собралась гулять. Она гуляла всегда одна и отходила довольно далеко от деревни, невольно возбуждая этим подозрения Прасковьи Павловны и тайные насмешки дочери бедных, но благородных родителей. В этот раз Ольга Михайловна вздумала идти по дороге, которая вела к сельцу Андрея Пeтpoвичa. Дорога эта была несравненно живописнее других: она шла извилинами, то возвышаясь, то понижаясь. С правой стороны далеко раскидывались пажити, и только у самого горизонта виднелись горы, издали более походившие на облака. С левой некогда поднимался большой лес, принадлежавший к селу Долговке и вырубленный в разные времена и на разные потребности его владельцами. Остатки этого леса заметны были и теперь; еще кое-где торчали огромные пни и чернели остовы столетних деревьев, а около них начинала подниматься роща дубков и кленов… Между селом Долговкою и деревней Новоселовской, ровно на полдороге, находился глубокий овраг, поросший кустарниками, всегда полный водою и пересыхавший только в самое жаркое лето, а за ним возвышался холм, с вершины которого представлялся отличный вид на окрестности.
Ольга Михайловна незаметно дошла до оврага и поднялась на холм. Воздух дышал осеннею свежестию, гряды облаков тянулись от запада, постепенно бледнея; роща была облита багрецом и золотом; вода глухо журчала, лениво перебираясь между камнями на дне оврага. Деревенская кляча едва тащила воз, тяжело нагруженный хворостом, взбираясь на гору. Близ воза шел мужичок и затягивал заунылую песню… Она вспоминала такой же осенний вечер в подмосковной деревне своей тетки, вспомнила мысли и надежды, одушевлявшие ее тогда.
Она остановилась на холме, любуясь прощальной красотой природы, великолепным убранством ее накануне смерти… Песня мужика замирала в отдалении, все стихало; огонь в облаках потухал; все предметы сивели и становились неопределеннее… Ей стало страшно одной… Она сбежала с холма и скорыми шагами пошла по знакомой ей тропинке домой. В эту самую минуту из рощи вышел человек среднего роста с ружьем на плече. Дорога отделялась от рощи небольшой канавкой, прорытой для стока дождевой воды. Он перескочил эту канавку и остановился перед Ольгой Михайловной, которая от испуга отшатнулась назад.
– Простите меня, – сказал он ей, – я испугал вас. Это был учитель.
– Да, в самом деле, – отвечала она, улыбаясь и смотря на него, – вы испугали меня… Вы с ружьем? Давно ли вы сделались охотником?
– С тех пор как приехал сюда. Но отчего, – продолжал он, несколько понижая голос, – отчего вы здесь – и одни?.. Не случилось ли чего с вами?
– Ничего. Я гуляла и слишком далеко отошла от деревни…
– Но прежде чем вы дойдете до нее, смеркнется… В сумерках вас может испугать все – и лист, падающий с дерева… Позвольте мне проводить вас до вашей деревни.
Она отвечала ему наклонением головы, ускорила шаги и закуталась в свою теплую мантилью, потому что воздух становился резок.
Несколько минут они шли, не говоря ни слова.
– Я столько лет не видалась с вами, – сказала она, выходя из задумчивости, – с тех пор изменилось так многое… Зачем вы оставили Москву? зачем вы здесь?
– Ради бога, не спрашивайте меня о моей жизни, – отвечал он грустно.
Разговор прекратился. На его и на ее лице выражалось сильное волнение. Вдруг она остановилась на том месте, где оканчивалась роща. Они были уже в нескольких шагах от деревни… Наступили сумерки… В избах замелькали огни… В речке заблестели лунные лучи…
– Благодарю вас, – сказала она, – я теперь почти дома; но, может быть, вы сделаете нам удовольствие – зайдете к нам… Мой муж…
– Мне очень жаль, – отвечал он, – что я не могу воспользоваться вашим предложением… Я и без того немножко запоздал. Я думаю, Андрей Петрович разослал всех своих гончих для отыскания меня… Но как бы то ни было, я очень обязан случаю, который позволил мне несколько минут провести с вами…
– Это бывает редко, – продолжал он после минуты молчания, – а мне хотелось бы еще раз, только один раз в жизни услышать от вас звуки Шуберта… Наши московские вечера уже не возвратятся; но в душе моей сохранились каждый звук ваш, каждое слово, и только эти звуки, эти слова и примиряют меня с моею жалкою жизнью…
– Прощайте, добрый друг мой, – перебила она, – протягивая ему руку, которую он жадно схватил и целовал. – До свидания… Когда-нибудь я исполню ваше желание…
Лицо ее горело.
– Еще одно слово! – вдруг вырвалось у него, – вы несчастливы?
На губах ее показался едва заметный судорожный трепет…
– Прощайте, – повторила она, вырывая свою руку из его руки, – прощайте…
Он долго смотрел ей вслед и потом тихо пошел домой, беспрестанно оглядываясь… Вдруг в кустах возле самой дороги послышался шорох… Из-за куста поднялся какой-то неуклюжий исполин и закричал сиповатым голосом:
– Что… попался, молодец! в чужих лесах дичь стрелять… да еще за барынями ухаживать, ручки целовать, вот мы те сорвем шею-то, погоди…
И с этими словами исполин, вооруженный дубиною, бросился на учителя. Учитель, однако, не оробел. Он схватил одной рукой исполина за горло, а другой занес ружье над головою его…
– Что ты за человек? что тебе нужно?
Исполин, вероятно, не ожидал такого отпора, оробел и выронил из руки свою дубину.
– Ах, ваше высокоблагородие! извините! – сказал он прерывающим голосом, – ей – богу, ошибся… я думал, что это так какой-нибудь тут прохаживается… Сами знаете, след ли здесь с ружьем ходить всякому… а если б я знал, что это ваше высокоблагородие, да как бы я осмелился подступить к вам… Известное дело – барин, куда же тут нашему брату холопу соваться?.. Ваше высокоблагородие, отпустите…
– Что ты за человек? – повторил учитель.
– Ах, батюшки светы!.. да здешний, вот те крест, здешний, долговский, Петра Александрыча-с… Ихнему дяденьке служил тридцать лет, ей-богу. Меня зовут Антоном. Спросите у кого угодно: все Антона знают… Ваше высокоблагородие, не погубите… Дети… жена…
– Хорошо, я отпущу тебя; но если ты осмелишься кому-нибудь, хоть двухлетнему ребенку, пикнуть о том, что ты видел меня здесь… тогда, брат, – уж пеняй на себя. Я тебя везде найду!
– Ваше высокоблагородие… ваше высокородие! да что я за злосчастный такой, чтоб стал рассказывать?.. И какая же прибыль из того?.. Я ничего и не видал; вот хоть провалиться сквозь землю, чтоб язык отсохнул у меня, если я…
– Ну, смотри же!
Учитель выпустил Антона, и Антон без оглядки во всю прыть пустился в деревню.
Через минуту раздался страшный лай… Стая собак кинулась вслед за бежавшим Антоном…
Ольга Михайловна возвратилась домой к самому чаю.
– Где это вы были, Ольга Михайловна? – спросила ее Прасковья Павловна.
– Я гуляла… – отвечала она. – Виновата… может быть, я заставила вас дожидаться…
– Помилуйте, нисколько… Так вы до сих пор гуляли? Прасковья Павловна значительно взглянула на своего сына и на Анеточку, которая разливала чай.
Петр Александрыч молчал, но посматривал на жену искоса. Прасковья Павловна начала бить такт ложечкой по своей чашке…
– Сегодня был прелестный вечер, – сказала дочь бедных, но благородных родителей… – Вы далеко гуляли, милая Ольга Михайловна?
– Довольно далеко.
– Ах, как жаль, – я не знала, что вы идете, – а уж я непременно навязалась бы вам в компаньонки. Обожаю гулять в сумерки!
– Зачем же навязываться? – заметила Прасковья Павловна. – Может статься, Ольге Михайловне неприятно было бы гулять с тобой; ты, душенька, может, помешала бы ей… мечтать.
Ольга Михайловна ничего не отвечала на это замечание. Минуты две в комнате царствовало безмолвие, нарушаемое только всхрапыванием лакея в передней. Вдруг среди этой тишины послышался отдаленный звон дорожного колокольчика, ближе и ближе, громче и громче…
– Что это значит? – вскрикнула Прасковья Павловна.
– Ах, кто бы это? – воскликнула дочь бедных, но благородных родителей.
И Петр Александрыч оживился… Он встал с своего кресла и, начиная третий стакан чаю с ромом, сказал:
– Уж не к нам ли?
Даже у Ольги Михайловны забилось сердце при звуках этого колокольчика.
Но вот уже раздался лошадиный топот, кажется, у самого крыльца; вот колокольчик перестал заливаться, задребезжал и смолк.
Все, кроме Ольги Михайловны, бросились в переднюю.
– Здесь, братец, Петр Александрыч? – кричал кто-то на крыльце. – Дома он?
Этот голос был знаком только Петру Александрычу; Прасковья Павловна с Анеточкой выбежали из передней.
– Возьми сальные свечи со стола да принеси поскорей восковые, – сказала Прасковья Павловна, толкая в спину лакея, – слышишь?
Из передней раздались восклицания.
– Старый приятель, узнаешь ли меня, мон-шер?
– Здравствуй, братец! какими судьбами? откуда?
И Петр Александрыч ввел за руку приехавшего господина, одетого по-дорожному. Это был давно известный читателям офицер с серебряными эполетами.[2]
– Маменька, вот мой хороший петербургский приятель, господин Анисьев.
Слово петербургский подействовало магически на Прасковью Павловну и на ее Анеточку.
– Очень приятно иметь честь познакомиться с вами, – произнесла Прасковья Павловна, поправляя на себе платок, – извините, что вы нас застали по-домашнему, запросто.
– Помилуйте-с…
Офицер с серебряными эполетами поправлял свой хохол, протирал очки и расшаркивался. Увидев Ольгу Михайловну, он подлетел к ней с поклонами и с комплиментами.
Прасковья Павловна и Анеточка ушли и через несколько минут возвратились переодетые. Последняя навязала сырцовые букли, которыми она. всегда украшала себя в торжественные случаи.
– Ну, расскажи же, как ты здесь очутился? – спрашивал Петр Александрыч у офицера, сажая его к чайному столу.
– Неожиданно, мон-шер, совсем неожиданно. Скоро после твоего отъезда из Петербурга папенька скончался… старик, знаешь, мон-шер, последнее время все хирел…
– Боже мои, какое несчастие! – воскликнула Прасковья Павловна, всплеснув руками.
– А не хочешь ли, брат, вместо чаю – ромашки? это после дороги-то лучше, я полагаю…
– Как! ромашки? – спросила удивленная Прасковья Павловна…
– Да-с, – это у нас, маменька, технический термин; так мы называем ром с чаем.
Офицер с серебряными эполетами засмеялся, закрутил усы и сказал:
– Спасибо, мон-шер; это недурно… Mesdames, – продолжал он, – вы позволите мне закурить сигарку… Не будет ли табачный дым беспокоить вас?..
– О нет, – проговорила дочь бедных, но благородных родителей, закатывая глаза под лоб, – мы все привыкли к табачному дыму.
– Но ты все еще мне не сказал, каким образом ты здесь? – спросил Актеон, дотрогиваясь до плеча офицера.
Офицер хлебнул ромашки, пустил изо рту клуб дыма и растянулся на стуле.
– Очень просто, мон-шер, – сказал он. – Мне досталось наследство после папеньки… Надо же все осмотреть самому, принять все от управляющего… Я взял отпуск, да и катнул сюда… почти мимо тебя пришлось, мон-шер, ехать, немного в сторону; я думаю себе, как же не побывать у приятеля?.. И я бы давно у тебя был, да в Москву белокаменную, знаешь, как попадешь, – беда; с балу на бал, с обеда на обед, кавалеров-то нет, так наш брат петербургский там как сыр в масле катается… Меня на руках там носили, во всех аристократических домах принят был, мон-шер, ей-богу, как родной… Там же случился Костя… Ведь charmant jeune homme, надо отдать ему справедливость… с ним полтора месяца прожил, как один день!
– Вот что!
Актеон призадумался… Слова офицера пахнули на него былою жизнью, тем временем, когда еще он блаженствовал в коже Онагра…
– И в Москве, – продолжал офицер, – хорошеньких бездна. Я, знаешь, мон-шер, приволокнулся там за одной княжной… Она известна везде: юнъ боте… глаза такие живые, так и бегают… и она была ко мне очень благосклонна; взяла с меня честное слово на возвратном пути непременно заехать к ним.
Офицер затянулся.
– Ну, а ты что поделываешь здесь, мон-шер? а? хозяйничаешь? Славная деревенька у тебя… Офицер осмотрел кругом комнату.
– Се тре жоли… разумеется, в деревне для чего убирать великолепно комнаты?.. А говорят, в моем селе дом такой каменный, славный…
– Много, братец, тебе душ досталось?
– Душ-то немного, мон-шер; кажется, около трехсот, что-то этак, но денег бездна – это главное, папеньке все были должны; у него такие капиталы, что ужас! Хочу выйти в отставку. Съезжу в чужие краи. Надо же, мон-шер, свет посмотреть, – нельзя без этого. Какие устрицы были нынешней весной в Петербурге – чудо!.. А тебе, мон-шер, все наши кланяются…
Чай был собран… Офицер понемногу прихлебывал ромашку и болтал без умолку.
– А что, мон-шер, не вспомнить ли старинку? – вскрикнул он, вскакивая со стула, – не сыграть ли в банчик?
– Пожалуй.
– Если у тебя нет карт, то я свои достану. У меня всегда есть в шкатулке на всякий случай.
– Что ж ты, братец, думаешь, что мы здесь и в карты не играем? – спросил Актеон с чувством оскорбленного достоинства.
– Нет, мон-шер, я только так сказал… Вели же все устроить, как следует… Я, мон – шер, и усталости никакой после дороги не чувствую.
– А ты надолго ли ко мне приехал?
– Дня на два, на три, мон-шер, если позволит мне Ольга Михайловна и твоя маменька.
Офицер поклонился той и другой.
– Отчего же на такое короткое время? – сказала Прасковья Павловна, – погостите у нас подольше. Вы нас одушевите своим присутствием.
– Никак не могу дольше, при всем моем желании. В Москве и без того зажился, а меня ждут в деревне… Кто же, мон-шер, мечет? Хочешь, я буду метать… Человек, вели принести мою шкатулку.
Шкатулку принесли. Она обратила на себя всеобщее внимание своим изяществом… Офицер выкинул на стол пачку новеньких ассигнаций, синеньких и красненьких, от которых у Петра Александрыча разгорелись глаза…
– Вот тысяча рублей, – сказал офицер, – покуда довольно… А здесь, мон-шер, наберется еще несколько таких пачек.
Он указал на шкатулку, самодовольно улыбаясь.
Игра началась.
– Ах, как мил, как любезен!.. – шептала дочь бедных, но благородных родителей, отводя Прасковью Павловну к окну и невольно вздыхая. – Он может очаровать своей беседой… Вот что значит быть всегда в большом свете… Не мудрено, что в него княжны влюбляются. Я этому очень верю.
– Ну, признаюсь тебе, Анеточка, – отвечала ей Прасковья Павловна, – такого светского человека я редко встречала; а я таки жила в свете… так и льется, как река, – хоть бы в одном слове споткнулся. А наше-то сокровище не нашлась ему ничего сказать: сидит себе да молчит… просто за нее стыдно! Ну, бедный мой Петенька, не думала я, чтоб на него такое ослепление нашло… Признаюсь, попался как кур во щи с этой женитьбой.
Банк продолжался до часу. В этот вечер офицер с серебряными эполетами проиграл Актеону пятьсот рублей.
На другой день Актеон, чтоб веселее провести время и показать своему столичному приятелю деревенских оригиналов, послал за помещиком семи душ. Илья Иваныч явился. Его, по обыкновению, напоили; он плясал вприсядку, острил по-своему, прыгал на одной ножке и никогда почти не был так забавен. Все смеялись над ним, но в особенности офицер с серебряными эполетами. Он налил в полоскательную чашку воды, посыпал туда соли и перцу и поднес ее к Илье Иванычу.
– Ну-ка, любезнейший, – сказал он, смеясь, – выпейте; славный напиток… Это пунш, особым образом приготовленный, по-петербургски.
Илья Иваныч посмотрел на офицера и на полоскательную чашку. В Илье Иваныче вдруг пробудилось что-то похожее на давно утраченное им чувство человеческого достоинства.
– Господин офицер, – сказал он, весь изменяясь в лице, – имени и отчества вашего не имею честь знать, – позвольте доложить, что я не формальный шут, – это засвидетельствует вам хозяин здешнего дома; вы ошиблись во мне… я только иногда позволяю себе подурачиться, исполняя желание моих благодетелей. Моя нищета еще не дает вам право, милостивый государь, издеваться над отцом многочисленного семейства, оскорблять человека, который старше вас летами…
На глазах Ильи Иваныча показались слезы… Впрочем, эта вспышка тотчас же и потухла в нем… Он боязливо посмотрел на хозяина дома, казалось, умоляя его глазами не гневаться за дерзкую речь, невольно сорвавшуюся у него с языка.
Офицер с серебряными эполетами отскочил от помещика семи душ, краснея, поставил полоскательную чашку на окно и, чтоб скрыть свое замешательство, обратился к Петру Александрычу:
– Не хочешь ли, мон-шер, продолжать вчерашний банчик?
– Изволь, братец, – отвечал Петр Александрыч.
Между тем Прасковья Павловна и дочь бедных, но благородных родителей, пришедши в отчаяние оттого, что шутка офицера кончилась такою неприятностью, напали на Илью Иваныча в другой комнате. Они кричали в один голос:
– Да как вы это смеете?.. Да что вы думаете об себе?.. Вас никто в дом к себе не будет пускать… Вы с ума сошли! Знаете ли вы, что он прямо из столицы?.. Он там в первые дома ездит. Он может, если захочет, раздавить вас, как червяка… И почему вам было не выпить этого питья, что он вам давал? Не велика важность! У вас не такой уж нежный желудок, не испортился бы…
Илья Иваныч низко кланялся и просил прощения.
Весь этот и следующий день офицер и Петр Александрыч не отходили от карточного стола ни на минуту. Игра у них завязалась нешуточная. Петр Александрыч в два дня проиграл шестьдесят тысяч…
Это сильно его потревожило.
– Как же, братец, – сказал он переменившимся голосом, – я не могу тебе теперь заплатить этих денег – у меня нет столько…
– Все равно, мон-шер, все равно, после: тебе я поверю… А не можешь ли ты мне теперь отдать хоть немного?..
– Тысячи три… могу.
– Ну, все равно, хоть три тысячи, а на остальные пятьдесят семь тысяч ты мне просто дай записку, мон-шер, – напиши, что взял их у меня на сохранение до первого востребования, – вот и все.
Петр Александрыч согласился на это, и офицер на четвертый день рано утром выехал из села Долговки. Восторг Прасковьи Павловны к офицеру в минуту, однако, исчез, когда ей сказали, на какую сумму обыграл он ее сына.
– Ах, Петенька, Петенька!.. – твердила она, ломая руки, – можно ли это? шутка ли шестьдесят тысяч!.. Вот разбойник какой подвернулся!







