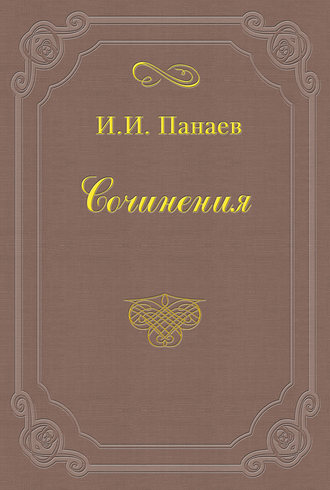
Иван Иванович Панаев
Актеон
Перед нею стоял учитель.
Он робко поклонился ей; она в ответ на его поклон наклонила голову. Они долго стояли друг против друга, не будучи в состоянии произнести ни одного слова…
– Я никогда бы не думала увидеть вас здесь, – наконец сказала она.
– Моя встреча с вами так же неожиданна, – отвечал он.
– А вы не забыли старинного нашего друга Шуберта? – снова заговорила она.
– И вы – говорят… говорят, будто и вы иногда вспоминаете его!
Она вздрогнула.
– Кто вам сказал это?
– Ваш муж…
Голова ее упала на грудь, и длинные волосы, выходившие из-под шляпки и совершенно развившиеся от сырости, скатились на ее бледное лицо, полуосвещенное светом из окон, выходивших на галерею.
– Вы очень изменились! – произнес он голосом более смелым и глядя на нее.
Она ничего не отвечала; но из груди ее вырвался звук тихий, едва слышный, что-то похожее на подавленный вздох…
– Здесь сыро… – сказала она, – меня ждут… – Она отвела от лица волосы – и рука ее заметно дрожала.
В эту минуту дверь из комнаты на галерею отворилась… Дочь бедных, но благородных родителей высунула свою голову в дверь и закричала:
– Ах, ма-шер Ольга Михайловна, вы здесь, – а мы вас ищем везде. Прасковья Павловна уж совсем готова и только ждет вас.
Сказав это, она искоса взглянула на учителя…
Ольга Михайловна рассказала дорогою своему мужу и Прасковье Павловне о неожиданной встрече с своим старым знакомцем. На Петра Александрыча этот рассказ не произвел никакого особенного впечатления, а Прасковья Павловна воскликнула:
– Что ж, матушка, мудреного? гора с горой только не сходятся, а человеку с человеком всегда можно сойтись.
– Он такой интересный, – заметила дочь бедных, но благородных родителей.
– А я, признаюсь, и не обратила на него внимания, – сказала Прасковья Павловна.
– О… он мило по…оет, – проговорил Семен Никифорыч, – то…олько заунывное, а вот у нас в полку был о…офицер, то… он все пел: «Бра…а-атцы, дружно веселую».
После этого замечания водворилась тишина, прерывавшаяся только порой храпением Петра Александрыча. Ольга Михайловна прислонилась в угол кареты и закрыла глаза. И во всю дорогу молчание было нарушено только однажды вопросом Прасковьи Павловны:
– А что, покойно ли вам сидеть, Семен Никифорыч?..
Глава V
Превращение Петра Александрыча из петербургского франта в помещика совершилось очень скоро, как и должно было ожидать. Переход от бестолковой суеты, от внешней, одуряющей деятельности столичной к животной неге и к блаженству бездействия – необыкновенно легок. Деревенская жизнь, над которою он забавлялся и на бале г-жи Горбачевой, и в кондитерской Амбиеля, и в зале Дюме, теперь нимало не казалось ему смешною. Он начал вполне понимать различные удобства этой жизни и хотя еще не причислял себя к провинциалам, но между тем день от дня все более пристращался к провинциальной жизни. Он стал пить вместо ликера – травник и ерофеич; кушал после обеда вместо желе и фруктов – оладьи, блины, ватрушки и дрочену; перестал носить черепаховый лорнет на ниточке; отрастил себе брюшко, отчего модные и узкие сюртучки свои и фраки приказал перешить губернскому портному; несколько отек в лице, сделался немного сутуловат, почему казался ростом ниже прежнего и, прикрывая лысину, которая начинала сиять на голове его, стал зачесывать свои редкие волосы кверху в виде небольшого рожка. Все это делало его удивительно похожим на жучка, называющегося актеоном, подробное описание которого заимствовано мною из русского перевода Блуменбаха и выставлено эпиграфом к этой повести. Актеон (я буду его иногда называть этим именем для сокращения) начал не шутя входить в домашнее хозяйство. Он уж по целым часам проводил на псовом дворе и в конюшнях; даже сам вздумал лечить своих лошадей по «Конскому лечебнику», найденному им в небольшой библиотеке почтенного своего дяденьки, и очень сердился на старшего своего конюха за то, что четыре лучшие лошади его околели одна вслед за другою.
День в деревне проходил для Петра Александрыча незаметнее, чем в Петербурге, потому что он почти все кушал, – а еда, как известно, чрезвычайно сокращает время. Погреб дядюшкин служил для него также большою утехою. В управление своими деревнями он вмешивался только так, как обыкновенно вмешиваются настоящие господа, то есть требовал доходов от управляющего. Назар Яковлич вел себя в отношении к нему довольно искусно и всегда льстил его маленьким слабостям. Узнав, например, что Петр Александрыч пристрастился к новеньким, цветным ассигнациям и блестящим монетам, которые хранились у него в особом ящике с прехитрым замком, Назар Яковлич беспрестанно доставлял ему такие ассигнации и монеты; когда же владелец заводил речь о счетах по имению, спрашивая о употреблении доходных сумм, управляющий отделывался общими местами, заговаривал о планах своих касательно увеличения доходов, о надеждах на будущее, о том, что под его управлением мужички начинают поправляться, и проч. Последнее, впрочем, было несправедливо. Неурожаи, продолжавшиеся несколько годов сряду, и, главное, двухлетнее управление Назара Яковлича, как замечали окружные помещики, довело долговских крестьян до жалкого состояния. Назар Яковлич, видя, что Прасковья Павловна имеет большое влияние над своим сыном и намерена навсегда поселиться в его доме, уладил так, что она приняла на себя бразды правления над женским полом и над ткачами в селе Долговке. Управляющий низко кланялся ей и говорил: «Ах, сударыня, с тех пор как вы изволите хозяйничать, ей-богу, любо-дорого смотреть на наших баб и на ткачей… так все идет бесподобно… Ну куда ж было моей жене соваться не в свое дело? Она дура, просто дура, сударыня!»
Таким образом управляющий вошел в милость к Прасковье Павловне и в лице ее приобрел для себя значительную покровительницу. Но всесильный и самый надежный покровитель управляющего – был Дмитрий Васильич Бобынин, опутывавший невидимыми и неразрываемыми сетями долговского помещика. В руках у Дмитрия Васильича находилась доверенность Петра Александрыча на залог его деревень и все его заемные письма. Дмитрий Васильич писал к нему:
«Любезнейший друг, – будьте совершенно спокойны касательно ваших долгов. Я почти все ваши заемные письма скупил, единственно с тою целию, чтоб избавить вас от докучных кредиторов. Теперь вы будете иметь дело с человеком, душевно вам преданным, а не с ростовщиками. Напрасно, живя в Петербурге, вы не были со мной откровенны и таили от меня некоторые долги ваши. Признаюсь вам, непонятно, как в такое короткое время вы успели сделать столько долгов. Главною причиною этого – конечно, карты. Большие игры надо вести осторожно и умеючи. Впрочем, ваш долг мне, – ибо вы уже никому, кроме меня, не должны, – отчасти может быть уплачен тою суммою, которая досталась вам после покойного вашего дядюшки. Сумма сия отдана мною, по желанию вашему, в верные руки, и я могу, когда захочу, взять ее. Прилагаю при сем записку оного долга мне с расчислением процентов. Положитесь на меня, почтеннейший Петр Александрыч: я устрою ваши дела самым выгоднейшим для вас образом. Я с детства привык любить вас, как родного, и потому как мне не принять участия в вас? Я странный человек: всегда дела близких мне людей озабочивают меня более, нежели мои собственные. Для своих дел я как-то ленив и неповоротлив; все собираюсь купить небольшое именьице в ваших местах и до сих пор не соберусь, а хорошо припасти себе уголок, чтоб со временем успокоиться от служебных трудов и пожить на свободе в свое удовольствие. Я завидую здесь вашей деревенской жизни. Истинно хорошо вы сделали, что решились ехать в деревню. Третьего дня заходил ко мне его превосходительство Антон Сергеич. Мы разговорились о том, о сем; зашла речь о сельских удовольствиях. Он вздохнул и сказал: „Эх, Дмитрий Васильич, лучше не говори об этом. Что наша за жизнь здесь? иной раз и в картишки некогда перекинуть: так завален бумагами! Кабы начальство не имело ко мне особой аттенции, словом сказать, кабы так не везло мне по службе, да кто, скажи на милость, принудил бы меня жить здесь? Деревня – это, братец, рай земной, там и воздух другой, да и люди совсем не те, патриархальность такая во всем…“ Это совершенно справедливо. Кстати о деревне: прекрасно сделали вы, что прислали мне доверенность на залог ваших имений. С большими деньгами можно в сию минуту сделать превосходнейший оборот. Один опытный фабрикант, Карл Карлыч Гольц, устроивает на берегу Невы в огромных размерах бумагопрядильную фабрику на акциях. По самому верному расчислению, фабрика эта должна приносить огромный доход: двадцать и двадцать пять процентов. Прилагаю у сего расчисление: рассмотрите его внимательнее. За честность, благородство и знание дела фабриканта – я ручаюсь. Капитал на учреждение этой фабрики почти собран; недостает только 600000. Вы знаете, как его превосходительство Антон Сергеич осторожен: вслед за ним закрыв глаза можно пускаться во все предприятия, а он, когда узнал о намерении Карла Карлыча, тотчас же выложил на стол 200000 руб. и сказал: „Вот вам, батюшка Карл Карлыч, возьмите 200 тысяч чистоганом, – прибавлю к этому, что в ваши руки я мильона не побоялся бы отдать, если б имел“. Заложив 1800 душ, вы получите 380000 (считая по 200 руб. на душу). Я за вас почти обещал эти деньги; поспешите же подтвердить вашим согласием мое обещание, – иначе вы упустите превосходный случай – улучшить свое дело, а это будет грех и стыдно. Вы отец семейства. Наш век положительный – мануфактурный, так сказать. Только те и получают деньги, у кого есть фабрики или заводы. Надо сделаться производителем, а потребителей, слава богу, много и без нас. С имения же, вы сами знаете, какие нынче доходы: год от года хуже. Хорошо еще, что у вас управитель малый честный и знающий. Я его всегда имел в виду для себя, – это не человек, а клад, и я ни за что не уступил бы его никому, если б у меня было большое именье. Придержитесь его: он вам будет полезен. Бога ради, отвечайте мне поскорей на это письмо, а то, чего доброго, если позамешкаетесь решением, – будет поздно… В Петербурге много охотников наживать деньги, и все они так и сторожат выгодного случая для помещения своих капиталов. Нынче все помешались на спекуляциях…
Новостей у нас много… об них когда-нибудь после. Максим Иваныч получил еще чин. Невероятное счастье! Впрочем, он человек вполне достойный… дай бог ему и еще больше. Вообразите, он на прошедшей неделе задал нам шлем. Я играл с Федором Маркычем, а он с генералом Косолаповым… У Косолапова была игра посредственная, а у него просто неслыханная: туз, король, дама, валет, десятка (пять онеров), восьмерка, семерка козырей, туз, король червей, а остальное всё старшие пиковки. Жена моя и я свидетельствуем наше искреннее почтение вашей матушке и супруге. Еще раз прошу о скорейшем ответе – и остаюсь неизменно преданный вам
Дм. Бобынин».
Актеон был очень доволен этим письмом. «Дмитрий Васильич славнейший человек, – думал он, перечитывая письмо, – чудесная душа!.. Бумагопрядильная фабрика, да это бесподобно!.. – Он зевнул и подумал: – Вот тогда у меня будет новеньких-то ассигнаций, синеньких и красненьких… У!»
Он подошел к окну.
Поперек двора протянуты были на козлах веревки, а на веревках было развешано белье, которое ветер срывал и разносил по двору… Дворовые девки беспрестанно бегали из одного конца двора в другой, поднимая его и снова развешивая. Между ними прохаживалась и Агашка. На Агашке было прекрасное ситцевое платье; талия ее стягивалась шнуровкой; ноги украшались тонкими чулками и козловыми башмаками. Она кричала на девок. Девки величали ее Агафьей Васильевной и поглядывали на нее с подобострастием; Антон, прислонясь к крыльцу людской и пощелкивая по тавлинке, вздыхал:
– Чего так разохался? – спросила его Агашка.
– Разохался! Ах, Агафья Васильевна!.. Уж вы знаете, что я имею к вам всякое уважение… – Антон почесал в голове… – Кабы вы попросили у старой барыни холстинки для моей старушонки и для деток. Совсем обносились, ей-богу. А вам барыня не откажет.
Агашка посмотрела на Антона, улыбаясь.
– Пожалуй, Наумыч, – отвечала она, – пусть Настасьюшка придет завтра ко мне. Я дам ей холстины, сколько она хочет.
– Ай да Агафья Васильевна! вот душа, можно сказать! На вас и смотреть-то любо, точно червонная краля.
Этот комплимент был заглушен криком гусей, которые поднялись с мест своих, хлопая крыльями.
Петр Александрыч долго стоял у окна и смотрел на эту картину. Он продолжал думать:
«Очень милая талия у Агаши… Сегодня же напишу ответ Дмитрию Васильичу… а у Маши глаза недурны… Непременно надо отдать капитал на филатуру… Андрей Петрович хороший человек и живет так себе, ничего – барином… Илья Иваныч презабавный… когда мне будет скучно, я пошлю за ним… Выпишу „Земледельческую газету“ и „Журнал для овцеводов“…»
Он отошел от окна и засвистал, – но это уже не был свист долгий и пронзительный, каким он оглашал свою холостую квартиру в Петербурге… Голос его потерял звонкость, движения потеряли резкость.
– Друг мой, – сказала ему Прасковья Павловна, входя в комнату… – я хочу поговорить с тобой.
– Поговорить? Хорошо, маменька.
– Сядем сюда, на диван.
Сын повиновался.
– Друг мой, ты знаешь, что вся моя жизнь в тебе, мой ангел.
– Знаю-с.
– Ну, поцелуй же меня… Давно я собиралась поговорить с тобой о жене твоей… Она добрая, тихая… но… позволь мне сказать тебе, мое сердце, что ты имеешь над нею мало влияния… Посмотри на нее, что у нее за манеры – ни малейшей приветливости… такая неласковая… Мне, например, хотелось, чтоб она подружилась с Анеточкой, – а Анеточка моя преумная и преобразованная девушка, ты сам видишь… Что ж? Ольга Михайловна совершенно оттолкнула ее от себя своею холодностию… Кажется, в столице получила образование, такого отца дочь, а не знает первых приличий… Гости приезжают, она, вместо того чтоб занять гостей, бежит от них… Помнишь, когда ты в первый раз обедал у Андрея Петровича? Фекла Ниловна так интересовалась ею, подсела к ней, завела с ней разговор. А она, поверишь ли? – я сама была свидетельница (другим бы я не поверила) – хоть бы какое-нибудь внимание показала ей. Ну, все-таки она старшая летами и к тому же уважаемая у нас целой губернией. Та спрашивает ее о чем-то, а она едва отвечает; потом сбираемся ехать домой, ищем ее, а она на галерее с учителем…
Прасковья Павловна остановилась на секунду и внимательно посмотрела на сына.
– Прилично ли это, мой друг, я тебя спрашиваю? Она говорит, что он учил ее там чему-то, ходил в дом ее тетки, – прекрасно: так со всеми учителями после этого и позволять себе фамильярное обращение; не нашла она, что ли, равных себе, с кем разговаривать? Вот Семен Никифорыч, например, гостил здесь, – во все это время хоть бы она малейшее приветствие ему оказала… Я знаю, он бы и дольше прогостил, – да говорит: что ж? я вижу, что хозяйке дома неприятно мое присутствие, – и уехал… Если она будет так отталкивать хороших людей и знаться с какими-нибудь учителями, бог знает, что из этого выйдет…
Петр Александрыч слушал свою маменьку довольно равнодушно. На лице его не заметно было ни малейшего волнения; оловянные глаза его бессмысленно упирались в стену. Беззлобный и тихий, он инстинктивно понимал превосходство жены своей над собою, предоставляя ей всегда полную свободу. Он был очень доволен ею, потому что она также нисколько не вмешивалась в его времяпровождение; безбоязненно проигрывал он в карты, волочился и хвастал. В первые месяцы брака многое, впрочем, казалось ему странным в ней: он не понимал, отчего не отвечала она на его ласки и как будто старалась избегать их; отчего, живя в полном довольстве, скучала и не хотела выезжать и отчего не гуляла с ним по Невскому в отличном бархатном капоте, который, по мнению его, долженствовал произвести величайший эффект. Но впоследствии он привык ко всему этому. В Петербурге никто не вмешивался в семейные дела их: отец Ольги Михайловны, казалось, начинавший раскаиваться в том, что выдал дочь свою против ее воли, щадил ее грусть. И тоскливая тишина постоянно царствовала в доме Петра Александрыча до приезда его в деревню.
Но уже нетрудно было предвидеть, какая участь ожидала здесь Ольгу Михайловну. Она должна была возбудить против себя и сплетни, и клеветы, и оскорбления, и участие – все эти орудия раздражительного и злобного невежества, которое тяжко и беспощадно мстит тем, кто выходит из-под его уровня…
Прасковья Павловна была поражена спокойствием, с каким Петр Александрыч выслушал ее речь.
– Что ж ты, Петенька, молчишь? – снова начала она изменяющимся голосом, – или, может быть, ты недоволен, что я начала с тобой разговор об этом предмете?.. По крайней мере я считала долгом, любя тебя, посоветовать…
– Да я, признаюсь вам, маменька, – перебил Петр Александрыч, – не понимаю, как же вы говорите, что жена моя не знает приличия… Она получила отличное воспитание, это в Петербурге все находили. Одному музыкальному учителю ее платили, кажется, рублей двадцать за урок… ей-богу. А у нее уж такой характер, знаете, мрачный. Эта ничего; что ж!
Прасковья Павловна изменилась в лице.
– Друг мой, я не стану говорить тебе, как я тебя люблю… сколько жертв я принесла для тебя в жизни…
На глазах Прасковьи Павловны показались слезы.
– Я до сих пор молчала об этом… (Это не совсем справедливо, потому что о своих жертвах Прасковья Павловна непременно упоминала в каждом письме своем к сыну.) Любовью своей к тебе я не хвастаю: смешно было бы мне не любить единственное мое сокровище, оставшееся мне после покойного… дитя, которое я носила под сердцем…
Прасковья Павловна зарыдала.
– Но если, милый мой, я не заслужила любви твоей, если я не стою твоего внимания, если ты променял меня на жену свою, если она дороже тебе, бог с тобой… Я покорюсь своей горькой участи, уеду отсюда, найму себе маленькую избушечку возле Воздвиженского монастыря… мне ни прислуги не нужно – никого, никого, кроме девки – без девки уж я не могу… надо же будет кому-нибудь накормить меня, питье подать… посвящу себя богу, – это, впрочем, мое давнишнее намерение… там же живет одна моя знакомая старушка – истинно добродетельной жизни, – она закроет мне глаза.
На лице Петра Александрыча показалось беспокойство.
– Помилуйте, маменька, да что это значит? что это с вами сегодня?
Прасковья Павловна тяжело вздохнула и закачала головой.
– Не сегодня, мой ангел, – нет; ты только ничего не замечаешь, а я многое, к сожалению, вижу.
Прасковья Павловна махнула с огорчением рукой.
– Ну, да что говорить!.. Я далека от того, чтоб заводить в доме неприятности, ссору… Это не в моем характере, сохрани господи! Но Ольга Михайловна явно невзлюбила меня – и не понимаю, не могу себе отдать отчета – за что. Я, ты знаешь, умею любить; ты сам видел, как я за ней ухаживала, просто, можно сказать, в глаза ей смотрела, как будто я невестка, а она свекровь… И какая же мне награда за это? Видно, уж моя доля такая!.. Кому ни оказывала в своей жизни внимания, кому ни делала благодеяний, никто не чувствовал этого. Вот, слава богу, вы здесь, кажется, более трех месяцев, – ласкового взгляда от нее не видала, поверишь ли? А по всему, кажется, она бы должна была во мне искать, а не я в ней: так по крайней мере я рассуждаю по-деревенски. Что делать? Я не получила модного воспитания, моим учителям не давали по двадцати рублей за урок, а, слава богу, до сих пор не уронила себя нигде, умела всегда чувствовать свое достоинство.
Прасковья Павловна встала с дивана и остановилась против сына.
– У меня есть до тебя просьба, мое сердце, – уверена, что ты мне в ней не откажешь, успокой меня, ради бога, успокой!.. Может быть, после этого я уж не стану ничем тревожить тебя. Кажется, жена твоя сердита на меня за то, что я взяла на себя хозяйство в твоем доме, а может, и за другое за что-нибудь… до поры до времени я молчу. Может, она хочет сама всем распоряжаться – и прекрасно, очень рада, – отдай ей все, пусть ее будет полной хозяйкой в доме… Мне бы и не следовало вмешиваться не в свое дело – глупо поступила, признаюсь. Я, впрочем, думала, что она еще женщина неопытная, не привыкла к деревенскому хозяйству; что я, взяв все заботы на себя, помаленьку буду приучать ее ко всему; что она ко мне, как к матери, будет приходить во всем спрашивать советов… Ошиблась, сама винюсь, что делать!.. Так ты избавишь меня, друг мой, от всяких хлопот, не правда ли?
– Помилуйте, маменька: как это можно? – возразил Петр Александрыч, – ни за что в свете… Я очень рад, что вы взяли на себя хозяйство. Вы на это мастерица, и управляющий говорил мне, что уж такой хозяйки трудно сыскать, как вы…
– Нет, нет – и не говори мне лучше об этом и не проси… Я, чтоб избегнуть всех сплетен, твердо решилась предоставить все Ольге Михайловне. Пусть она как хочет, так и распоряжается. А мне уж трудно на старости переносить огорчения – да еще при моем слабом здоровье! Мне немного и жить остается. Назначу Анеточке в духовном завещании двадцать тысяч, она за мной и за больной ходила, как дочь, и всегда была при мне, – ты, верно, против этого ничего не скажешь… Остальное, голубчик, ведь все тебе достанется, с собой в гроб ничего не возьму. Поплачешь и об матери, когда она на столе будет лежать; узнаешь тогда и мне цену!
Слезы катились по щекам Прасковьи Павловны, и голос ее дрожал, когда она произносила последние слова. Петр Александрыч также прослезился. Ему стало жаль ее, и в первый раз неудовольствие и подозрения зародились в нем против жены. Он поцеловал ручку Прасковьи Павловны и сказал:
– Успокойтесь, маменька; уж я вас ни на кого не променяю.
Она крепко прижала его к своему сердцу. И таким образом минуты с четыре мать и сын пробыли в объятиях друг друга. Прасковья Павловна после долгих и неотступных просьб его решилась оставить под своим заведованием хозяйство и вышла от него торжествующая.
Дочь бедных, но благородных родителей ожидала ее в своей комнате.
– Ну что, Прасковья Павловна?.. – спрашивала она, бросаясь к ней навстречу, – ах, как вы расстроены, вы плакали… Не хотите ли помочить виски одеколоном?
Она сделала жалостную гримасу.
– Ничего не нужно, мой друг… Благодарю моего бога, я еще не потеряла сына. Она еще не успела искоренить в нем чувства, а уж старалась, как старалась! Сначала он очень неприятно выслушал, когда я заговорила об ней, потом немного тронулся моим горем и слезами… Ну, Ольга Михайловна! признаюсь – хороша штучка!.. Ты проницательнее меня, Анеточка! Ты ее угадала с первого раза… Вот в тихом-то омуте черти водятся, правду говорит пословица. Я ему ничего не говорила, знаешь, о том, что ты мне рассказала… Погожу еще немножко; посмотрю, что будет; да и к чему теперь говорить? может, еще и получше что-нибудь узнаем… Перехитрить думает нас, столичная барыня! Нет, мы хоть и деревенские, а не поддадимся в обман.
С этого дня Прасковья Павловна начала решительнее обнаруживать власть свою в доме сына. Она выписала из своей деревни несколько дворовых семейств и этим еще более увеличила и без того многочисленную долговскую дворню; уговорила сына, чтоб он целое семейство подарил Семену Никифорычу, и ему же в подарок приказала выткать шесть дюжин тонких салфеток и четыре скатерти. Звонкий голос Прасковьи Павловны раздавался по всему дому. Она целый день была в хлопотах и занятиях, мерила холстину, надзирала за девками, сама изволила ходить за грибами с Анеточкой; сердилась, кричала на неповоротливую прислугу; для возбуждения ее деятельности употребляла иногда меры более действительные, чем брань и крики; по вечерам же посылала для своего развлечения за попадьей. Дьяконицу она не любила и называла «сплетницей». С Ольгой Михайловной виделась только во время чая, обеда и ужина; говорила ей вы и нарочно при ней еще более обыкновенного оказывала нежности своей Анеточке. Дочь бедных, но благородных родителей вела себя довольно хитро и осторожно. Она, как всегда, оказывала всевозможное внимание Ольге Михайловне, старалась даже угождать ей, и между тем была душою заговора, составившегося против нее. Прасковья Павловна играла в нем роль второстепенную и руководствовалась во всем советами своей Анеточки. В тайны этого заговора были допущены – Агашка, Антон и Гришка, которые должны были следить за малейшим движением Ольги Михайловны и обо всем доносить Прасковье Павловне. Антон, питавший прежде зависть к своему собрату, приехавшему из столицы, у которого все платье было из тонкого сукна, совершенно примирился с ним с тех пор, как Агашка приняла Гришку под свое покровительство. Прасковья Павловна, деспотически обращавшаяся со всеми дворовыми бабами и девками, – оказывала беспредельную благосклонность одной Агашке.







