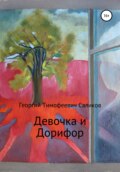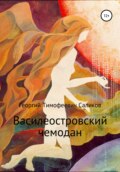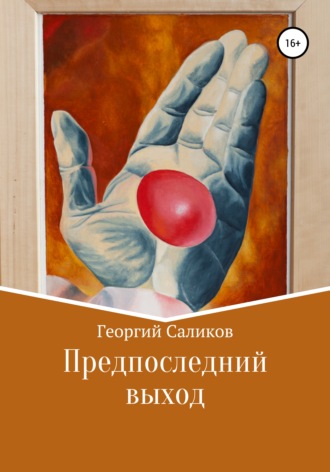
Георгий Тимофеевич Саликов
Предпоследний выход
– А другое зверьё?
– Что другое?
– Как с иными животными уживаетесь?
– Люди здесь животных не утруждают. Ну, бывает, что лишь пчёл. Ты уже знаешь про наше бортничество. Люди животных не утруждают, но правят ими. Правят, но незаметно для них. Без насилия. Дружески. И лесом – тоже. Природа ведь, – людской дом. И, как за любым домом, люди ухаживают за ним. Может быть, это вообще, звериный сад. А люди – садовники. Здесь каждое дерево ухожено, каждый ручеёк обустроен, каждый камень на месте. Тоже, ведь, видел. Но, что касается убежища животных, то всякое из них – неприкосновенно. И бытование их между собой – тоже. Животные здесь домашние в том смысле, что живут в общем нашем доме. Приходят иногда в гости. Кроме хищников да комаров. Те обходят нас далеко.
– Заметил, заметил. И ещё понял, что вы не используете животных в извозе. Сами ходите.
– О! Смекалистый ты. И это я тоже сразу понял.
К тому времени и женщины вышли из землянки в полном снаряжении. На них сидела надёжная обувка, а с плеч и бёдер свисали многообразные котомки, лукошки, кузовки, севалки, зобни, мостинки, набирухи и прочие сетева да веки.
– Туески с обечайками не забудьте, – сказала жена и, прищурив один глаз, оценивала пришельца из ГУЖиДе на предмет способностей ходока.
«Хорошо, что я и дома передвигался пешочком да пешочком, не привыкать к ходячей жизни, – как бы ответил он ей мысленно. – Но не познакомили нас именами. С неизвестной Вамварькой будто бы знаком. А эти обе, кому кто»?
– Домахата, – обратился муж к жене, – ты погоди. Дай сообразить о главном. Чай не на часок отлучаемся, – он поглядел на небо, – ты с Медозой пошушукайся, да побакульничай малость.
– Соображай, – согласилась Домахата и обняла соседку за плечи, – мы подождём.
И они отошли в сторонку.
– Ладно, Любомир, надеваем котули. Ага, действительно, мусьмовники не позабыть.
Никола-Нидвора сбегал в землянку и вернулся оттуда с плетёными вещицами.
– Держи. Он у меня запасной. Броня, понимаешь, для самого болезненного места, пусть и срамного, для того, чтобы мусьво своё защитить. Привяжи покрепче, чтоб не потерять. Хе-хе. Домохата их обечайками называет, смешилка у неё такая, – проговорил Никола-Нидвора, почти скороговоркой.
– Привязал? Молодец. Сообразил. А то, что главное, оно всегда с нами, его не забудешь, – намеренно молвил он протяжно и покачивал в воздухе указательным пальцем.
– Слышь, пока ты вчера вечером гулял, тут лосиха приходила. Я забыла тебе сказать, – крикнула Домахата, обращаясь к Николе-Нидворе.
– Та же, что в прошлом годе заходила?
– Нет. Другая. У неё нет царапин на ноге.
– Значит, опять зверюги на детишек зарятся, – Никола-Нидвора почти свирепо мотнул головой.
– Понял, да? – обратился он к Любомиру Надеевичу, – косолапые телят воруют у лосей. А мамаши потом к людям приходят. Подоить просятся.
– Сами?
– А как же. Они смекалистые. Я ж тебе говорил, что зверьё в гости к нам приходит. И просто так, и по нужде. Вот, лосихи, те по нужде. Каждый год одна, а бывало, и три жаловали к нам за помощью для своего здоровья. Лонолюдьи их доят. А потом сыр делают. Да ты же откушал сегодня эту стряпню.
– Я не понял, что это сыр.
– Хе, моя Домахата имеет хитрость готовить еду так, что не узнать, из чего она состоит.
– Угу. Теперь понял.
– А в отсутствие наше, кто лосиху доить будет? – спросил Никола-Нидвора жену.
– Поганые пусть доят. Им всегда не хватает. Асытной народ, – Домахата глубоко вздохнула.
– Понял, пришелец, какие дела? – Никола-Нидвора подмигнул пришельцу. – Так и живём. С косолапыми не дружим. Не любим мы их. Ну да, я тебя о том оповестил.
– А какой дорогой пойдём на летник? – осведомился Любомир, поглядывая на левую ладонь, где едва-едва высвечивался крест, указывая одним концом точное расположение летника, по-здешнему, юга. Он частично припомнил путешествие сквозь ледяной хребет с проводником. Тоже на юг.
– Дороги у нас накатанные, водные. По реке пойдём. Чтоб не блукать. По одной, потом по другой. Вода, почему водой зовётся? Потому что ведёт. А ведёт, потому что знает. Потому и вода. И вообще, если ты человек здравомыслящий, можешь сам догадаться про главные смыслы воды. И ведёт, и ведает, и всё про всё знает, а знания хранит вечно. Их только разгадывать непросто. Видишь: сама проста, а разгадать нелегко. Эх, Вамнам тебе бы рассказал про её секреты.
Глава 23. Вамнам
Вамнам живёт в одном из поселений на Ближнем Юге. Строже сказать, у него там основное сиденье. Потому что большую часть своего времени он предаётся передвижениям в пространстве на все четыре стороны. После воздушного крушения высоколёта, когда счастливая случайность спасла единственного его обитателя и ездока, то есть, «девчонку-немку», иначе говоря, Вамварьку, и когда она пожила в его доме достаточно, чтоб овладеть русским языком, Вамнам пошёл в ГУЖиДе. Ему необходимо было проверить её достоинства и, дав собственную оценку условий жизни человека в ГУЖиДе, оставить приёмную дочь в той обители или не оставить. И пошёл вместе с Вамварькой. Но та, после остановки у ближних соседей Николы-Нидворы, подле границы дикого мира, идти дальше не захотела.
– Посмотри один, – сказала Вамварька. Потом расскажешь своими словами, что почувствовал. Можешь даже напеть байку. Я тебе поверю. И тогда, если понравится, уйду.
Вамнам не противился. Договорился пристроить Вамварьку пока, до возвращения, в землянке у тех ближайших соседей молодой семьи Николы-Нидворы, вернее, соседки, одинокой женщины. С ней и договорился.
Вамнам и пошёл в ГУЖиДе один. Двинулся иной рекой, вдали от той, по которой спустился Любомир Надеевич. Не было намерения встречаться ни с какими вожаками. Перебрался по лабиринту ледяных пещер независимо, тем более что в том переходе служба проводницкая никем не уготовлена. Позабыта. Оказавшись на той стороне, он скоро был замечен с искусственного спутника. О нём поступили сведения в ближайшую точку оповещения, и возник самолётик. Приземлился. Вылез надзиратель и пригласил Вамнама полетать. Деваться некуда. Подчиняйтесь, господа чужаки, повинуйтесь великим договорам. Вамнама привезли в знаменитый во всём мире город, заключённый в необъятную каплевидную скорлупу, тот, что на твёрдом камне, подле заледенелого Северного великоморья. Определили законным гостем. Выдали гостевое изображение одежды, а его можно использовать и поверх собственной, выдали путёвку для посещения нескольких иных городов. А также дали предписание: в суточный срок определиться с проживанием. С чужаками из Подивози обходятся чрезвычайно вежливо. Но гостиниц им не положено. Предлагается подробный перечень местных благодетелей с обрисовкой их поступков. Выбранный благодетель берёт его в дом и обеспечивает проживание на обусловленный срок. Государство такое дело поощряет. Вамнам нехотя выбрал себе благодетеля, но тот оказался во временном хождении по Подивози. «Вечером прибудет», – сказали его ближние, – «но поселяйтесь, поселяйтесь». Он и поселился. Но пока суд да дело, сразу пошёл в ближайшую харчевню, где и подсел к столу Ятина Любомира Надеевича. Что было дальше, мы уже знаем.
Следует кое-что уточнить. Когда уладились две противоположно разные России, собственно граница между ними, иначе говоря, ледяные горы – были сплошным препятствием. Мы знаем, как они получились: путём отъёма у воды тепла. Это в наши дни тепло извлекается в основном из воды морей, а раньше именно реки представляли значительные тепловые запасы. Многочисленные их русла несут сюда тепло с юга. Были изобретены хитроумные установки, делающие своё дело. По их трубам поднималась вода вверх, отдавая тепло, сходу превращающееся в иное силовое действо. И нарастал лёд. Быстро нарастал, потому что много тепла надо было извлечь. Горы вышли довольно широкими у основания, и довольно высокими. Эти ВУПОТы (водяные установки по отбору тепла) продолжают действовать, но в качестве дополнительных. И горы прирастают, правда, не столь шибко. Но кто не знает нашей смекалки во всяких областях, особенно по части всевозможных лазеек?! Нашлись отчаянные смельчаки, причём с обеих сторон. Так, потихоньку, но с упорством были проделаны ходы в основаниях гор. Использовались и произвольно образовавшиеся пустоты, пещерки. Те всегда получаются при любой заливке жидкого материала, затем быстро застывающего. Они могут быть маленькими, в виде пузырей, а пузыри могут и сливаться между собой в довольно-таки просторные помещения. Южные реки и солнце – тоже хорошие помощники. Одним словом, потихоньку да потихоньку ходы оказались сквозными. Ясно, что все таковые дела совершалась тайно, по ночам. И в основном зимой, когда ночи длятся почти круглосуточно. Холодно, однако цель того стоит.
Поначалу незаконных перебежчиков просто ловили да отсылали обратно, замуровывая ходы. Но поскольку опасные приключения возобновлялись, и возникали смертельные случаи в тех переходах, правительство решилось на добрый поступок. Организовались законные места переходов. И каждое такое место снабжалось проводниками, до того нарочно обученными. Для их проживания построили удобные избушки по обе стороны.
Вамнам, и мы знаем, обустроенными ходами не воспользовался, уповая на Провидение. И прошёл своим путём.
Благодетелем Вамнама в ГУЖиДе оказался уже знакомый нам великий сочинитель с мировой известностью, нашедший себе наиболее вычурный вид человеческой деятельности, – образотворчество на основе дрёмы. «Грёзоискусство». Редкое занятие. Тот, следуя обещанию, появился дома вечерком, иными словами, на краешке шалониковой вырезки суточного круга. Один. Спутника своего, «поганого», по-видимому, пристроил у кого-нибудь здешних его когда-то давно бывших соплеменников. До Великого Договора.
– Познакомиться решил с вашими замками, – сказал Вамнам после молчаливого взаимного приветствия и обмена жестами, означающими приглашение к посиделкам, – нужда заставила.
– Отчего ж только нужда, – приветливо промолвил сочинитель, упустив миг представиться и забыв испросить имя гостя, – а любопытство?
– Оно почти одно и то же. – Вамнам тоже упустил из виду знакомство по именам.
– О. Стоящее замечание. А главное – образное.
– Девку одну пристроить надо. Немку. Она как-то единственная спаслась после крушения вашей искусственной птицы. Та, должно быть, летела из Евро-Гренландии в Китай-Город. Сломалась прямо над нами. Поначалу казалось, будто приземлиться хотела у нас. Но потом переломалась на кусочки. На одном из кусочков девка-то спаслась. Будто листочек падал он. Будто сам воздух его снизу поддерживал. Другое всё повалилось на гораду. Вот мы и приютили девку. Есть смысл возвращаться ей в Гужидею, или нет, – моя задача выяснить.
– О! смысл! Да поди, разбери. Я сам только что из Подивози! Целый месяц гулял. Кроме восторга ничего не имею. И горады, эти наши общие с вами давние места проживания, тоже видел. Мы-то новые горады построили, не можем без них, а у вас там только медведи живут. Но, признаюсь, жить постоянно в той стране вашей не стал бы.
– О том и речь. Девка, Вамварькой кличем её, будто прижилась, но и печаль набегает на неё иногда. Понятное дело. Вот обследовать надо ваши условия. Небось, сгодятся ей. Вдруг, просто замешкалась она у нас надолго, а родина-то – Гужидея.
– Но, говоришь, немка она. А то, что русскому хорошо, немцу смерть, слыхал пословицу?
– Так до Евроландии пешком не дойти. Я-то поначалу подумал, не в дикую ли Германдию сначала ей податься, чтоб та пока пообвыклась. Но слишком опасное предприятие. Там ведь горад полным-полнёшенько. Медведей – не счесть. Словом сказать – медвежий угол. И люди живут по законам косолапых. Убьют её сразу, на границе, за чужую примут.
– В дикой Германдии не был.
– И я не ходил. Но слухи-то ходят.
– Хе-хе. Снова образное замечание.
Посидели. Помолчали.
– Знаешь, а я тебя повожу по разным людям. Поговоришь. Подумаешь. А сначала просто поживи. Походи, погуляй.
Долго Вамнам в ГУЖиДе не задержался. Походил, погулял, поговорил с людьми. Благо, имеются тут собрания голосового общения. Сгодились. Тем не менее, нужда, ничем не отличимая от любопытства, возымела действие. «Хорошие люди есть, можно жить среди них», – оценил он его общество. Да пошёл домой. На сей раз воспользовался законными услугами. По дороге складывал усвоенные впечатления в произведение словесного искусства, чтобы подробно подать всё виденное Вамварьке. Его довезли, как и Ятина, до погранзаставы. Но проводника на месте не оказалось. Думаем, поджидал провожаемого на той стороне. По-видимому, тот, кто Ятина перевёл на авось, да и застрял в избушке, что в низке. Выходит он порой на околицу и вглядывается вдаль – не скользит ли по речке лодчёнка с гостем? Гужидеянином ли, едущим опять домой, или подивозцем, подавшимся в ГУЖиДе. Вамнам не стал ни дожидаться, ни искать встречи с проводником. Ему вожатые ни к чему. Смело двинулся по запутанным дорожкам. И вышел к устью пещеры, за которой раздавался гомон птичьего торжища. Взял запасную лодочку. Их припасено несколько штук. И всё. Поехали.
Проводник, заметив его уже вдалеке от нижней сторожки, покачал головой. «Видать, из диких», подумал он.
Глава 24. Вамварька
Вамварька, тем часом, истосковалась на чужбине и, не дожидаясь Вамнама, ушла на привычный Ближний Юг. Одна. Притворилась, будто с провожатыми идёт, с местными, а на самом деле – одна-одинёшенька. Ночевать всегда найдётся, где. Вдоль реки попадаются землянки, а меж них обязательно есть особые убежища для путников. Впрочем, любая землянка готова стать приютом для одинокого ходока. А водоразделы, по которым необходимо идти от одной реки к другой, не столь и долгие будут.
Вамварька шла теми же путями от реки к реке, что и Вамнам вёл её сюда. Смекалистая. И память хорошая. Хотя, предметы, ранее попадающиеся на глаза, предъявляли ей противоположную сторону. То есть, когда она шла сюда, примечала, так сказать, лицо, а теперь видит затылок. Но узнавала признаки сразу. А если сомневалась, оглядывалась для подтверждения. Не заблудилась.
Было время подумать. Ведь, когда идёшь, лучше думается. Правда, при помывке в тёплой купальне получше, но да ладно. К тому же, у Медозы там что-то подпорчено, водичка плохо идёт, да с подогревом нелады, а Никола-Нидвора пока не починил.
Думалось Вамварьке не о недавней жизни в её Евро-Гренландии, вроде бы родимой, где стало скучновато поживать. И даже вспоминать почти нечего, так, один-другой знаменательный случай, ну, смешных несколько штук, а в основном, просто удобная жизнь и более ничего. Думалось ей только о детской поре, вперемежку с мечтаниями о будущем. В ней, в детской поре было вволю-волюшку много приключений, по-детски важных, забавных, а то и насыщенных боязнями. И сказки о дивных местах, где происходят чудесные представления. Сказки переплетались с мечтами. Мечты же выстраивали ей будущее, полное приятных и разнообразных событий, а то и страшных, но со счастливым концом. О той детской поре, кстати, и напоминал янтарный шарик, прицепленный к кончикам волос оловянным зажимом. Прабабушка подарила. Торжественно вручила, когда предчувствовала свой переход в мир иной, то есть, уж точно последний выход. А ей он перепал от своей прабабушки, а той – от своей. Старинная вещь. Память о временах, предшествующих Великому Размежеванию, когда предки жили на берегу мелководного моря, начинающего запускать барашки прибоя далеко от берега. И леса тоже были, ёлки, сосны… лиственниц, вроде, не помнится. Впрочем, всё и без того известно и записано в мировой памяти, откуда черпают знания ладонеглядки. Но о том рассказывали и старики правнукам, а те, состарившись, в свою очередь, следующим потомкам, и так далее. В ГУЖиДе тоже пока сохраняются устные байки. Настанет время, и Вамварька поведает правнукам своим о далёком и дивном отечестве. Живым языком, а не искусственной памятью. Она звонко, но коротенько посмеялась, перекинула волосы на грудь, и пустилась дальше с подскоком, легонько подбрасывая золотистый и сквозистый шарик на ладони. И шарик передаст. Но это потом. Теперь же её окутывали всё те же мечты о прекрасном будущем. Грёзы… Она вдруг пресекла их поток, вспомнив, как те же мечты заставили её отправиться в диковинную страну, где сказки воплощаются в жизнь. И подалась. В Китай-Город. За разнообразием. За сказкой…
Глава 25. На Ближний Юг
Перед непростой дорогой ближние соседи и гость из ГУЖиДе потратили часок, и зашли в местный храм. В своеобразный храм. Он издалека привлекает взор. От каждой землянки. Высокий холм с мелкими деревьями, и лиственница над ним необычная, с кроной в начертании креста.
Снаряжённых путников священник встречал заранее. Он, видимо, наблюдательный, замечает всякого, идущего ко храму. Облачением не выдавался. Только особая накидка на нём, изготовленная недавно Николой-Нидворой и Медозой. Никола-Нидвора сплёл, Медоза вставила туда цветные кружева.
Со стороны священника последовало приглашение войти в святилище. Он поклонился прихожанам. Достойно и ласково. Все и вошли в храмовое пространство. Тихо, осторожно. Ятин мельком огляделся, и у него в памяти всплыли похожие образы. Он, когда учился в детском образовательном учреждении, набирал, так сказать, знания о различных событиях, протекавших в те или иные времена, удалённые и ближние, то видел средь всех изображений и первые святилища христиан – подземелья вдоль Аппиевой дороги под Римом. А здесь будто предстало одно из их подобий. Сходство не слишком прямолинейное, может быть даже и вовсе нет никакого сходства, но возникла некая внутренняя связь между тем и этим. И она была способна заставить человеческую память извлечь что-то важное из себя. Действительно, из кладовых мозга выплыли образы со свежей полнотой. А заодно и окунули в детство.
Из тёмных углов едва-едва поглядывали росписи живописные. Выразительно. И таинственно проникновенно. Главное сооружение в глубине. Из плетений и дерюжек. Образа на нём. Праздники. Тоже едва-едва различимы. Без зажженных лучин было вообще-то темновато, тем более, сразу после наружной яркой освещённости. Потому подробности искусства местных богомазов стались почти незаметными для свежего взгляда гостя.
Никола-Нидвора полновесно и размашисто совершил крестное знамение. Остальные, в том числе и священник, перекрестились скромно. Священник принялся, было, начинать молебен в честь напутствия, и попытался зажечь лучинки, но воевода опередил его намерения и сказал:
– Благослови нас, батюшка, да отпусти с Богом.
Тот и благословил каждого по отдельности во мраке. А потом и отпустил на свет Божий.
Когда путники отошли подальше от храма, Никола-Нидвора промолвил:
– Забоялся я, как бы не напутал он слова. Вамнам его поправлял давно. Месяца два назад. Он останавливался у нас перед переходом в Гужидею, и поправлял. Священник наш больно позабывчивый на точные слова.
А Любомир Надеевич отметил собственную забывчивость. Упустил благословения у священника для друга, упрятанного в ладонеглядке. «Ладно, будем считать, будто благословил, – подумал он в извинение себя, – я же свёл перед ним обе ладони».
Но ладонеглядка помалкивал. И словом, и светом. Ничем не проявлял недовольства. И вообще – будто отсутствовал где-то. Независимый.
Глава 26. Щепа
– Эх, – вервие-то позабыл, плоты сплачивать нечем, – Никола-Нидвора стукнул себя по лбу.
– А говоришь, память хорошая, – решил подъязвить Ятин.
– То ж не та память, не о случившемся чем, а о намерении. Позабыл обнамериться, понимаешь, предвидение упустил. Ты сам-то – много чего наперёд помнишь?
Ятин крякнул. Действительно. Снаряжаясь в путешествие сюда, в Подивозь, позабыл попросту одеться. Но есть оправдание: наперёд помнить – вообще не в манерах жителей ГУЖиДе. А заодно и не предполагал он пасть лицом в грязь перед туземцем.
– Главное, оно всегда помнится, – сказал он, пытаясь что-то обобщить.
– Ишь ты, «главное», – Никола-Нидвора хихикнул, – не знаю, что у тебя главное, а я-то его никогда не забываю. Оно вообще привязано ко мне и пребывает неотлучно. Руки. Те всегда со мной. Не пропадают. И не забываются. Тут верёвочки совьём. Сколько надо, столько и совьём. Время, несомненно, уйдёт. Непредвиденное, – он огляделся вокруг, высматривая растительное вещество, наиболее подходящее для свежего намерения. – О! – и устремился к обильному брединнику недалеко от бережка.
Ятин поглядел на свои руки и подивился. Тоже вроде всегда при себе. Но умеют лишь тюкать пальцами в разные приспособления для немедленного удовлетворения потребности на данный час. А тут нет ничего подобного. Тюкать не во что. Совсем никчёмные. Даже ладонеглядку не включить по своей воле.
Тем временем, женщины принялись искать составные части для плотов.
– Как тебя, Любомир, – окликнула Ятина миловидная Медоза, – давай-ка поспешай, тоже выскорь да валежнику припаси на бережку, – и показала образец – толстый и продолговатый сухой сук.
– Угу, – Ятин с радостью кинулся в лес, чтоб дать и своим рукам должное применение.
– Смотри, как бы зверьё тебя не помяло да не покусало. Далеко не ходи, – крикнула вдогонку Домахата.
Ятин прихватил с собою, то ли острогу, то ли бенечку.
Таким путём, никто не потратил времени зря. Пока на песчаном берегу набиралась гора валежника-выскори необходимой величины, Никола-Нидвора наплёл достаточной длины верёвочек из местной растительности.
– А почему вы лодок не строите? – вопрошает Любомир Надеевич. На лодке удобнее плыть по воде. Я, например, на таком судне отлично до вас добрался.
– Нет, ты этот сук вот к тому суку прилаживай, – говорит Никола-Нидвора, – оп-па, да нет, тот повыше, этот пониже, а вон тот им сбоку да поперёк.
Любомир подчинился слову искусника во всех ручных делах, но взгляд остался вопрошающим.
– Лодку, говоришь? Нет, берестяная ветка для нашей цели не годится. Тут покрупнее кораблик нужен. А для того ж дерево надо нарочно свалить, да не одно, потом нарочно ободрать, нарочно обтесать, да и многим чем нарочно над ним надругаться. А мы ж – народ ленивый, я ж тебе о том намекал вначале нашего с тобой знакомства. За нас природа все грубые дела делает. О, ловко сладил, давай-ка, я петельку туда вдену, смотри-ка, в самый раз. Мы пользуемся дарами природы, коль в ней живём. С ней у нас – неуловимый человеческой мыслью уговор. Вот щепа, например, я тебе говорил, что хорошая штука, всеполезная. Меж них лучшая – из дуба. А где её взять? Скажу тебе, мил человек, за ней мы и идём на Ближний Юг. Слух пронёсся, будто на Юге случилась буря. В дубовом лесу. Огромной силы – та буря. Деревьев поломало – видимо-невидимо. Надо пополнить запасы. Буря и молния нам поставляет добрую щепу. Как шарахнут обе в дуб, так и – в щепки его. Мы с бурей и с молнией дружим. Ты это, переверни сук наоборот. Ага, а тот, что внизу, чуть-чуть сдвинь. Вот. А я на них – петельку. Оп-па, и впереверток, и они будто бы всегда в обнимку проживали. Видишь, как получается, с медведем да с рысью дерёмся, а молнию да бурю уважаем. Они дают и щепу, и огонь, и валежник с выскорью. И ещё мы силу их, огненную да ветровую – тоже накапливать научились.
– Да ну? – Любомир Надеевич вовремя отпрянул от очередной связки составных частей плота, спасая палец от Николиной-Нидворовой петельки. – Объясни.
– В иной раз. А тепереча давай кончим изготовление плотов. Так. Один – с управлением. Второй – для вещей, загодя припасённых, да по пути нашедших. Третий – с крюком для задержания. Привяжем крепким ужищем плотики наши гуськом. Оп-па! Ну, бабоньки, поехали. Любомир, тебе управлять или придерживать? Ладно, ты уже сегодня науправлялся, а придерживать пока не научился. Значит, я буду управлять, Домохата придерживать, Медоза Домохате в помощь, а ты со мной около.
По дороге возникали обиталища иных жителей Дикой России. Сразу и не заметить. Но их показывал Никола-Нидвора и давал краткую справку о тонкостях местного зодчества и градостроительства. Вернее, поначалу – об умозрительной основе того и другого.
– Вообще, любые природные бедствия приносят людям пользу, – говорил он Любомиру Надеевичу. – Ливень, гроза, буря, а то и землетрясения, так или иначе, необходимы для поддержания жизни и бодрости в ней. Например, сила ветра, та не позволяет застояться воздуху. А через него – и духу. Ветер как бы намекает на постоянное движение духа в душе. С порывами аж до бури в ней. Ливень смывает всё легковесное, обнажает основу. А через него – и сердце освобождает себя от всего лишнего, ощущая главное. Ливень тоже как бы намекает на работу сердца по смыванию всякой мелочёвки. Землетрясение потрясает именно редкостью. И внезапностью. А через него – заостряется и меняется взгляд на жизнь. Землетрясение тоже намёк имеет. Гроза – природное увеселение. Через неё и ум порождает незаурядные мысли. И гроза намекает нам на существование самых ярких мгновений в жизни. Кхе. Есть, конечно, от них и прямая угроза. Однако спрятаться нам от истых угроз – возможность имеется. На то и землянки, обустроенные по последнему слову смекалки. А последствия потрясений природного основания обязательно обращаются, так сказать, в бытовую пользу. Та вообще на виду. Ливнями заполняются наши водохранилища. Надземные и подземные. Ветер освежает помещения. Гроза даёт много чего, да и щепу, за которой мы едем. – Никола-Нидвора поморгал тёплыми глазками и приумолк.
Любомир Надеевич не прерывал дикаря. Охотно поглощал необыкновенное изложение природной пользы.
– Доходчиво ты объяснил умозрительное обоснование вашего обустройства жизни, – сказал он, кивая головой в знак одобрения. – Но любопытно его приложение к делу. Скажем, устройство жилища.
Никола-Нидвора, указывая в сторону статной лиственницы на едва заметной возвышенности, стал пояснять гостю суть дела местного зодчества и градостроительства.
– С тех пор, когда мы слились со своей средой обитания, с природой, мы помогаем друг другу. Сам видел, как мы её обустраиваем. Ей нравится. И она будто мыслям нашим поддаётся. Деревья, вот, славные выросли. Давно уже. Нам в подмогу. Непростые лиственницы. Корневища у них плотно сплетённые. Много их повсюду. Для возведения жилья выбираются большие, но не одинокие деревья на бугре. Не ветхие. Желательно, в основном, имея песчаную такую выпуклость. Помещение выкапывается под корневищем. С одного бока. С какого? По чувству. Да такой величины, чтоб не повредить её жизни, да не оказалось чтоб беды в виде выдёргивания дерева бурею, вместе с корнем. Для надёжности выбираются те деревья, что хорошо защищены от ветра их собратьями. Опыт и смекалка помогают в том. Иногда, бывает, случается ошибка. Редко. Тут землянка либо одна, либо две-три-четыре в кучке. Это у кого какая семья. Мы вот с Домохатой будущим летом вторую откопаем. Да. Вокруг выделываются водоотводы в виде рвов. Благодаря их наличию, и корень дальними ответвлениями уходит глубже в землю, увеличивая устойчивость. Вход оборудуется наиболее тщательно. Чтоб и вода не попала, и ветер не сдул, и хищник не проник. Освещение – в виде отверстий в кровле с навесными щитками. Снаружи похожи на грибы-переростки. Слишком велики. Хе-хе. По ним угадываются наши домики. У каждого – свой вкус. Попутно здесь и проветривание. Зимой их застилает снег. Тепло удерживает. А свет идёт сквозь его толщу. Тускловато, но и так дни короткие. Для проветривания пригодна тростниковая дудка, да черетянка всякая. Воткнёшь её в снежный настил насквозь, и готово. Да и печь для того служит. Печь – изобретение наиболее выдающееся. Тут главное дело – дымоудаление. Собственно печь, очаг, делается из глины и размещается в наибольшей глубине помещения, имея поддув под полом. Горячий воздух и дым по дымовым пазухам от очага расходятся вдоль стен, отдавая им тепло, заодно и купальню топят, и, остывши, собираются в трубу из коры, а она крепится к стволу дерева, почти не отличаясь от него. Так дерево корнями служит устройству кровли жилища, а ствол служит устройству дымохода. Лиственница, причём нового образца – наиболее подходящее для того создание природы. У неё корни продольные и слегка сводчатые. Кроме того, у неё и ветви продольные. На них устраиваются летние полати для сна и кой-какого художественного творчества. Теперь вот щепу привезём, да наладим такую светёлочку. И стоит лиственница долго. Подолее, чем живёт человек. Выходит, что хватает ему одной избушки на всю жизнь. А, покуда он живёт и стареет, для нового поколения человека вырастает новое дерево. Ветхое – подгнивает и падает. Ветви мы обламываем на дрова, ствол истлевает на пользу леса, а пень обращается в надгробие умершему человеку в его же землянке. На пень водружается валун в знак вечной памяти. Такой вот круговорот жизни в природе. А тут уж иной круговорот начинается. Природа всё больше поддаётся мысли человека. Правда, не каждого…
Любомир Надеевич слушал, не перебивая рассказчика. И не пытался требовать подробностей ведения жизнеустройства, в том числе и об особенностях взаимопомощи с природой. И как это природа играет в поддавки с мыслью человека, тоже пока не собирался спрашивать. Тем более, местный житель обещал о том рассказать в следующий раз. Но «кой-какое творчество» вдруг остро задело его любопытство. Никола-Нидвора заметил вспыхнувший блеск в его очах.
– О чём хотел спросить-то?
– О кой-каком творчестве. Художественном.
Местный житель объяснил:
– Ну, главное – байки складные, простые и высокого полёта, и песенное искусство. Слыхал, небось, пение наших стариков. Слово, оно более всего податливо для складности. Его и помнёшь, так и эдак, и подточишь, и нарастишь. А потом и напоёшь под настроение себя и слушателей, если таковые отыщутся. И вагуды у нас есть. Поигрываем на них. Плясками тоже не гнушаемся. У каждого дома своя баланжа имеется. И художества тоже есть. Зодчество, например. Оно всё заключается в творении внутреннего пространства. А наружа всегда по преимуществу природная. И краски тут у нас, какие хош, залегают всюду, только доставай, не ленись. Холстов наплетём, да и расписываем их, кто во что горазд. Или из глины плоскость выгладим, да по ней, и мягко, и с нажимом, с бороздами. А кто – изваяния лепит. Лучшее из произведений искусства – собираем в храме нашем. Видал, небось, в ней внутреннее зодчество да росписи.
Ятин покивал головой, и соврал, потому что не рассмотрел тогда ни пространства, ни убранства храма, где получали они благословение на поход. Только сравнение с древнейшими храмами произвелось.
Никола-Нидвора помолчал-помолчал и добавил:
– А самое главное творчество ты ещё увидишь. Там, куда мы едем.
Глава 27. В лесу
Не только в движении к цели, но и в беседах, да в отдыхе, а ещё и в добыче питания – пребывали наши промысловики. Поближе познакомились, притёрлись, так сказать. Ятин уже не гляделся туземцам полным неумекой. Ходил неунывающе, временами даже подсоблял женщинам перебираться через мелкие препятствия. В нём, по-видимому, просыпались неисчезающие наследственные навыки проживания в природе, навыки многочисленных далёких предков. Просыпались и заполняли подсознание. Двигали руками да ногами в согласии с остальным миром. Наверно, и многолетняя деятельность его в области окружающей среды у себя дома, тоже тому способствовала. Есть много чего общего в делах человека, устремлённого к приспособлению в изменчивой обстановке. И ещё: многое в тех делах зависит от способности того или иного человека откликаться на внешний мир, соответствовать ему. А Любомир Надеевич и оказался человеком достаточно одарённым способностями по части отзывчивости. Он чутко соприкасался с какими угодно новыми для себя происшествиями, изменяя собственное поведение.