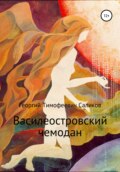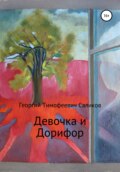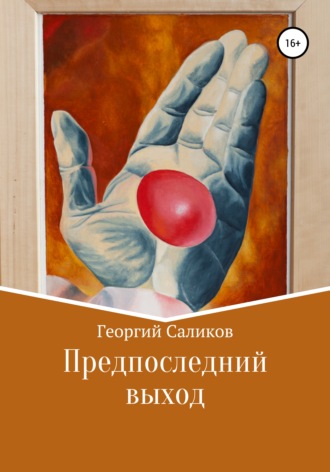
Георгий Тимофеевич Саликов
Предпоследний выход
Ятин торопливо взбежал на крутой пригорок, царапая колени о камешки и коренья. Незнакомая местность, надо сказать, его не жаловала. Пару раз он едва не вдырился в незаметные то ли ямы, то ли зажоры. Но недолго он так мучился. Впереди показалась обустроенная тропа, устланная травою. Он и ринулся туда, очередной разок спасая тело. И всё-таки упал, но ловко, на четвереньки. А по тропе, навстречу выдался Лесной человек, вальяжного виду, одетый в медвежью шкуру мехом наружу. Он добродушно и наряду с тем насмешливо настраивал багрянощёкое лицо, рассматривая нагого пришельца, опоясанного неизвестными предметами, трясущегося от холода, в положении настоящего дикаря, и цокал языком.
– Ты русский или китаец? – услышал туземец речь из дрожащих уст новоявленного обитателя дикого мира, поднимающегося в полный рост.
– Хм, конечно, русский. Где в мировом пространстве ты видел диких китайцев, кроме их иеренов? Они поголовно живут в Китай-городе. И о-го-го, далеко-далеко, так далеко, что никто его не видел. Говорят, стена больно высокая, – туземец оказался словоохотливым. – И я не иерен, даже не леший али шишок. Обыкновенный вольный человек.
– Ладно, а то я проскочил нужный поворот и вот, усомнился. Тогда окажи, любезный, гостеприимство, что ли. В твоём кусочке мирового пространства, – пришелец отряхивал ладони от засохшей хвои.
– Одет ты, гляжу, не по времени года. – Туземец снял с себя медвежью шкуру, оставаясь в исподнем, то ли связанном, то ли сплетённом, то ли из травы, то ли из берёсты. И накинул её на Ятина. – Пошли.
По пути виднелись иные обустроенные тропы, ручейки, махонькие озерца с травяными и песчаными бережками. Повсюду были заметны плоды заботливой человеческой руки.
– Заходи в жилище наше. У нас вотепло.
Любомир Надеевич, озабоченный срочным обретением тепла, толком не заметил «жилища», до которого довёл его Лесной человек по обустроенной земле, без острых камешков да кореньев, без ям и зажоров. Лиственница, высотой этак под двадцать ростов человека, а шириной кроны – с десяток пар шагов, да со стволом – почти в размах рук. И большой приземистый гриб под ней, но неестественный. Подле неё ров, обложенный камнями. Вода в нём. Впечатляет, но сходства с привычным человеческим жильём нет, как нет. По меньшей мере, в ГУЖиДе.
Лесной человек поднял край многослойной плетёной дерюжки над лазом в избу.
– Ну-ка, полезай под полог, – сказал обладатель землянки.
Ятин, не переставая дрожать, охотно протиснулся под корневище лиственницы, где и нашёл себе кратковременный приют.
Внутри землянки прибрано и уютно. Полы устланы дерюжками, плетёнными из лыка. Стены и своды отделаны плетением из ивовой лозы. Стол, сидения, кровати – тоже сплетены из растительных веществ. Посуда, попавшаяся на глаза, – всё глиняные горшки и блюда, явно вылепленные руками. И небольшой образок на глиняной доске. Сверху, из середины свода шёл свет, ровно падающий на все предметы.
– Весна, брат, вовсю прёт. А там и лето не за горами. Везде у нас вотепло будет. Ты только потерпи. Наладим тебе удобную бахотню для облачения. А пока, вот, возьми медвёдку, добрая она, совсем без вонькости, не то, что у соседей поганых. – И собственник землянки достал из гнезда в стене другую медвежью шкуру.
Ятин, заслышав не приукрашенную оценку здешних соседей, полностью повторяющей слова из рассказа недавнего иностранца про высоколёт, невольно вздрогнул. Но одновременно и остановилась дрожь.
– Не бойся. Они добрые. Вера у них другая, ненашенская. И мыться не любят. А в остальном – такие, как и мы. Только шутки у них диковинные. Сейчас вот примем по кондее-кандюшке, да покушаем жаренья. А там ты сам примешь полезные для тебя меры. – Радушный местный житель скосил глаза вбок и вверх. – Или потерпишь? Сначала помывку, а? Пойдём-ка.
Любомир Надеевич второпях переоблачился в поданную ему чистую и не вонючую медвежью шкуру мехом внутрь. Жутко неудобно. И щекотно.
В одной стене открылся узкий лаз.
– Сюда, сюда.
За ней оказалась небольшая пещерка.
– Светлячков горсточку сыпанём. Оп-па.
В скромных лучах светлячков, неясного происхождения, завидилось обширное корыто, вылепленное из глины. Внутри оно обложено подобием плетёной корзины.
– Сейчас водичку заправим.
Хлебосольный местный житель вынул затычку сверху, и оттуда полилась чистая вода.
– Подземная водичка. Родниковая. Хорошая. Добрая. И тёплая. Чуешь? Она подогревается от печки нашей.
Спустя четвертинку стрика, в молчаливом слушании журчащей тёплой воды, купальня была готова. Затычка вставлена на место.
– Полезай. Медвёдку на сучок повесь. И опояску тоже. На тёплой стеночке. Когда помоешься, вынешь заткнутие, на дне. А я пока стол обряжу.
Ятин покорился. Вода и вправду была доброй. Ласковой. Невольно припомнилась купальня своя, тоже с родниковой, но промышленной водой. Там, по обычаю, водятся всякие мысли, и залетают в голову, шевеля жизнь. Здесь же – совсем не думалось. Обрелась полная чистота в голове.
– Понравилось? – искря глазами, полюбопытствовал владелец подземного жилища, завидев гостя, вылезающего из пещерки.
Тот молча покивал головой, обтираясь внутри тёплой медвежьей шубы. Влага вошла в места между шерстинками, и тело обсохло.
И уселся на плетённое с гнутыми ножками кресло за плетёный стол. Тоже гнутые деревянные ножки стола не мешали вытянуть человеческие ноги, укрытые шкурой, мехом внутрь. Любомир Надеевич оглядел содержимое стола. Кондеи-кандюшки, о которых шла речь, показались уж очень знакомыми. Ну да, ну да. Ему же подавали бесплатный напиток на улице Фёдора Конюхова почти в точности из такой же. Сильно похожи. Кривоватой круглости, лепные, толстостенные, но с ручками, и даже художественного вида.
– Хм.
– Значитца, с благополучным прибытием из благословенной Гужидеи, – провозгласил обладатель землянки первое исполатье и поднял глиняную кондею высоко над столом, продолжая искрить восхищённый взор.
– Спасибо, – откликнулся путник, благополучно прибывший в таинственную Подивозь, и тоже поднял кандюшку, потупив озабоченный взор. Обе хлёстко зачёкнулись, подняв брызги выше краёв. – Хм. Только я первый причал пропустил, да уж и потерял надежду высадиться на берег. Но к счастью, оказался и второй. Тут.
– Ага, верно говоришь: к счастью. За это и выпьем.
Выпили.
– Бери заедку. Отличное жаренье. Нестылое. Лонолюдья моя только что, перед твоим прибытием настряпала. Будто знала про тебя, будто дожидалась гостя дорогого. А сама-то к соседке удалилась. Тут, под ближней лиственницей. Всего-то меньше часа ходьбы. На границе нашего обитаемого мира.
– К поганой? – осведомился дорогой гость. А про себя заметил: до ближней – час ходьбы, а каково до дальней?
– Не, к другой нашенской. У них ещё девица чудная живёт. С неба свалилась. На Ближнем Юге было дело. По-вашему – Летнике. Может быть, вы и умнее нас. Летник. Там лето раньше наступает. Но и юг – тоже недурное слово, тёплое. Да. Умная девица. Соседка довольна, и моей лонолюдье нравится с ней толковать. Если бы ты не прозевал своего поворота реки, обязательно оказался бы у них в гостях. Да-да-да. Одно только негоже, медвежьих шкур у них нет. Зато рысьи, женские. Не знаю, во что бы тебя одели. Хе-хе. Оставался бы нагишом. Хе-хе. Сразу меж трёх лонолюдей один и совершенно очевидный удолюд. Хе-хе. Ну, да, прозевал такой редко подходящий случай. Хе-хе. Они бы тебя обогрели по-своему. Хе-хе. Ладно, не горюй. Не слишком неотвратимая неудача постигла тебя на жизненном пути. И их – тоже. Им есть чем заняться и без тебя. Так что всё равно моя управительница нескоро возвратится. Время есть, давай ещё по одной, пока не просохло. У меня новое исполатье-заздравье появилось: чтоб тебе приглянулось у нас!
– Угу, – пришелец сделал вопросительное выражение лица, – а что это за слова такие? Лонолюдь, удолюд?
–Обыкновенные слова. Лонолюдь звучит более образно, чем женщина. И удолюд позвучнее мужчины.
– Ага. Он и она, оба люди. У неё лоно, у него уд. Всё верно?
– Верно, верно. Есть лоно природы, то есть, мать-земля. И есть удаль молодецкая, молодец-удалец, мал, да удал. И удовольствие, в конце концов. Никакой тебе пошлости, никакой брани. Всё естественно сходится по смыслам.
– Хм. Хм.
Выпили ещё по одной. Ятин заправски орудовал деревянным приспособлением в лепном глиняном горшке. Насчёт «Ближнего Юга» тоже заметил про себя: у них, возможно, смешилки такие, издевки; или охват земель определённо крупный. А по поводу другой смешилки – о неудаче выбора из бесчисленных поворотов на реке, что могла бы даже олицетворять его жизненный путь, – нисколько не размышлял и даже не смущался.
– И это бери, – сказал радушный человек, подавая гостю какую-то корку.
– Угу. Мне на днях один почтенный человек, из ваших, рассказывал про упавшую с неба девку, – сказал гость, проглотив «жаренье», и сунул в рот начавшую плесневеть корку. – Ещё в ГУЖиДе.
– Да ну? Неужто Вамнам?
– Вамнам? – гость чуть не подавился коркой, но, удачно проделав жевательные движения, проглотил её, шевельнув кадыком.
– Угу, – мужик сделал губами гримасу, подобную той, что любил покрасоваться выдающийся древне-итальянский самодержец Дучо. – В начале весны подался в вашу Гужидею. Дошёл. Молодец.
Владелец местной недвижимости широко улыбнулся и почесал затылок.
– Вамнам, Вамнам, – продолжил он, и уверенности у него прибавилось. – Пошёл без проводника. Обойдусь, говорит, для меня вестник небесный, говорит, и есть проводник, говорит, и он верный путь укажет, говорит. Так и пошёл. А мы ему сыр наш весь отдали. Дорога дальняя и тяжёлая. Немного себе оставили. Почти не оброснелый. Вот ты его давеча и доел.
– Думаешь, это он?
– Сыр, что ли? Не разобрал вкуса с удивления-то?
– Нет. Вамнам.
– А кто же? Не в каждом месте девки с неба падают. Он. Кстати, а тебя-то как величать?
– Любомир.
– О! Редкое имя в наших краях. А я Никола-Нидвора. У нас тут через каждую землянку по Николе-Нидворе. Многообразием не балуемся. А девку ту соседи с Ближнего Юга зовут иноземным именем. Варварой. Не нашей, значит, на иностранном языке. А мы её тут Вамварькой кличем. На языке нашенском. Ну, давай по третьей: За знакомство!
Выпили по третьей. Ятин резко выдохнул, затем наладил дыхание ровное и хрипловато промолвил:
– Любопытно. Откуда вы иностранные языки знаете?
– Отчего только языки? Мы всё про всё знаем.
– Любопытно, любопытно, – Любомир откинулся на гнутую спинку сидения, невольно припоминая речь его о китайском «снежном человеке», иерене. – Всё про всё. Приёмы хитрые имеете, что ли, способы мудрёные?
– Простые способы. Про Гомера слыхал?
– Скорее, читал. «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос»…
– Во. Не понял ты вопроса. Именно о слухе речь. Гомер, а лучше сказать по Пушкину Омир, ничего не писал, зато пел с утра до ночи. И те, кто слушали, перепевали его слова другим поколениям не одну сотню лет. В тончайших подробностях. Не знаю, на какой распев у них это звучало. Не присутствовал при их пении. Так что прости за вынужденную вольность в моём продолжении твоего начала про зарю. Ты это какую песнь начал? Восьмую, когда Одиссей был в гостях у Алкиноя? Или семнадцатую, про Телемаха, собирающегося утром в город? Или это в конце девятой, когда Одиссей обхитрил Полифема?
– Не знаю…
– И ладно.
Тут Никола-Нидвора начал петь, взяв сразу высокий звук:
– Кхемос ди… кхе, кхе… – он немного прокашлялся и начал снова, немного звук понизив:
Кхемос ди-кхеригэ-ниа фа-ни родо-дактилос-Эос,
Орнит ар-эксэвнис-иэрон менос Ал-киноо-ио
Ан дара диогэ-нис орто птолипор-тфос Одис-сэис
Тысин ди гемонев иэрон менос Ал-киноо-ио
Фэикон агорин-ди исфин-пара ни-юси тэ-тикто
Элтфонтэс дэ катфи-зон эпи ксэстоэ-си литфэ-эси
Плиси-он: и да-на асти метохе-то Паллас Афини
Идомэ-ни кири-ки дэфро-нос кхи-Ал-киноо-ио
Ностон кхи-Одисси-и мега-литори метио-оса
Кэ ра э-като фо-ти пари-стамэни фато мю-тфон…
– Красиво, – неожиданно вскрикнул Ятин, то ли восхищаясь, то ли желая остановить певца.
– Угу, – Никола-Нидвора действительно остановил живословную песню Гомера на очередном вдохе, не став произносить следующую далее призывную речь Афины Паллады, обращённую к вождям и советникам славных феаков. – И у нас тоже передаются все знания учёных, мудрых и песенных людей словом и слухом. В тончайших подробностях. Главное, не переврать.
– А если кто переврёт?
– Не. Поправят. Обедню знаешь?
– Обедню? Ту, что в храме сотворяется каждый день?
– Служится.
– Ну…
– Ей вообще тыщи лет, и ни одного слова не поменялось. Так и другие мудрости. Если кто переврёт, обязательно отыщется тот, кому есть что поправить.
Любомир Надеевич ощутил в себе внятную пристыженность. Пригладил волосы на голове. Похлопал руками по коленям. И снова пригладил волосы.
Обладатель землянки подметил неудобное положение гостя и решил его добить превосходством ПоДиВо над ГУЖиДе.
– Письменность удлинила память человечеству, понимаешь, удлинила и обогатила память на отдалённые века, но – всему человечеству. Человечеству, понимаешь? – вдохновился Никола-Нидвора. – Но и укоротила. У человека укоротила память. У человека. Письменность обеднила в каждом человеке личную память. Усёк? Человечеству – удлинила, человеку – укоротила. Незачем стало что-то держать в голове, поскольку удобнее хранить всё на книжных полках…
«Или во всеобщем хранилище, считываемом ладонеглядкой», – Ятин мысленно поправил рассказчика, не поддаваясь на дальнейшую униженность.
– …Письменность устранила человека и от ближнего своего. И устное слово человека сделала не доверительным. Даже в друзья люди стали брать книги. И доверяться стали им. Грамотность оказалась превыше всех добродетелей. Язык быстро исказился почти до полной неузнаваемости. И память вместе с ним тоже полностью исказилась. Стала запоминать письменные залежи. Смешно, а? Записывать в память то, что и без неё давно записано в доступные всем книги. Да многократно, да во всех частях света. И оказалось, что настоящей памяти, памяти на голос и слух, вроде бы и не надо. Представляешь? Памяти живого слова – не требуется. Вот ведь до чего дожили при письменности.
Ятин снова заметил про себя некоторые неточности Лесного человека. Например, друзья. Не в книгах они, а в ладонеглядках. Ну, да ладно. Рассуждать о пагубности записанного слова ему не хотелось, и он переключился на прежнюю канву разговора.
– Так ты всего Гомера наизусть знаешь? Омира. И в подлиннике? – вопросил гость из ГУЖиДЕ с любопытством и одновременно с лёгкой насмешкой, чтобы удержать себя с ним на равных.
– Нет. Отдельные места. Когда ты начал читать отрывок по-русски, я вспомнил и продолжил петь на подлиннике. Это место я хорошо знаю, оно торжественное. И другое, где Одиссей обдурил Полифема. Оно смешное. И третье. Хе-хе. И, так сказать, краткое изложение помню. Много кого из писателей знаю по краткому изложению. А вот Пушкина, того да, почти всего. Особенно Лермонтова.
– Что же ты, дружок? Эка прокололся. Всяко перепирал письменность, а именно её и наизусть выучил.
– Нет. Устно. У нас всё устно. Надо было наладить дела, привести, так сказать, слово человеческое в истинное служение. Были, Бог дал, в своё время добрые люди, они и привели. Письменность привели в устность. И знаешь, златоуст именно без письменности златоуст. Так что не грусти.
– А кто тебя поправит, если переврёшь?
– Хе. Там лад особый имеется. Переврать невозможно. А вот, что касается мудрости, переврать соблазн возникает. Кой у кого. Но поправят, устранят ошибки. Будь спокоен.
– Те, кто помудрее?
– Угу. О Тибете знаешь?
– Знаю. Но его давно не существует. Есть Китай-Город.
– Так-то оно так. В Тибете тоже наличествовали книги. С подходами к мудростям. Можно было их прочитать. Подходы к мудрости прочитать, понимаешь? Только подходы. Но собственно мудрость в книгу тибетцы не вставляли. Когда речь начиналась о главной мудрости, письменность заканчивалась такими словами: «спроси у Учителя». Понял, да? Учитель тебе скажет сокровенное. А когда ты станешь учителем, передашь знание ученику. Устно. И так далее. Мудрость хранится у Учителя. И переврать её никому не дано. Учитель не врёт.
– Понял, – пришелец из ГУЖиДе проделал губами всевозможные выражения, – и у вас есть учителя.
– Есть.
– Например, Вамнам? – сказал Ятин с осторожностью.
– Вамнам, да. Он много мудростей знает. От учителей своих. Но вот учениками его судьба не балует. Мы тут службу православную поминали. Так он вообще всю Библию знает. Будто Пророки и Апостолы ему обо всём рассказали. Будто он был их учеником. Начнёт петь, не остановишь.
– Как Гомер?
– Хм. Нет. Не путай. Омир был сочинитель. А Вамнам исполнитель, а вовсе не Моисей и не Пророки и не Апостолы. Пересказчик. От учителя – к ученику. И слово у него – живое. За эти дела ему все люди добрые помогают быт бытовать. И ученика толкового ищут. Только пока не нашли.
– Библию, говоришь. А он кто у вас, небось, главный священник?
– Нет. Священник свой у нас. – Никола-Нидвора повёл головой в сторону. – Недалеко. Батюшка и храм. Одна беда, забывчивый поп. Не как Вамнам. Точность в излоге забывает. И придуманными словами пытается погасить упущения. Высловьями разными. Оно и заметно. Не такие живые его собственные слова.
– И Вамнам поправляет.
– Если бы. Нечасто мы видимся.
– Гордый, что ли?
– Ты же видал его у себя в Гужидее. Говорил?
– Да. Говорил. Да. Видал. Гордости не заметил. Сосредоточен. Вот что заметил.
– Согласен. Сосредоточенный он.
– А почему редко заходит, если, говоришь, сосед?
– Да. Вамнам живёт на Ближнем Юге. От нас полную седмицу ходьбы цельными днями.
Любомир вскинул одну бровь, подтверждая мысленно свою догадку о здешнем восприятии земель и сказал:
– Хорош ближний.
– Хе-хе. А ближнеюжане наши места Дальним Севером называют. Вот как.
– Да, это даже точнее. А если и Дальний Юг имеется, он досягаем вообще?
– Есть, кто ходят и на Дальний Юг. Редко. И дальнеюжане к нам. Тоже нечасто. Они Вамнамовы края Средним Севером называют. Ближний Север у них свой.
– Угу. Понятное землеведение. А я догадываюсь. Вамнам и туда ходит.
– Он. Он везде ходит. И в Гужидею вот добрался. Хлопочет за других людей. А к вам туда из-за девчонки спасённой подался. Сам отлучился, а её оставил пока здесь. У соседки нашей. Сама напросилась. Когда вернётся, не знаем. Расписания не имеем. Такие дела. Мы вообще-то – последние на Севере. Потому-то здешние места и есть Дальний Север. Ну, не мы, а соседка наша, ближняя, хе-хе. Дальше нас с ней никого нет. Граница.
Глава 22. Начало
Встрепенулся входной закров, и за ним возникло женское лицо. Потом оно исчезло, и на том же месте появилась другая женская голова. Затем, одна за другой, вошли обе женщины, облачённые в рысьи шкурки.
– Гостью привела, – вкрадчиво сказала женщина, заглянувшая в землянку первой, по-видимому, благоверная.
– А я – гостя, – ответил мужик с похожей погудкой.
– Вижу. Опередил меня. Поели? – её голос изменился и уже не скрывал явной принадлежности к законной жене Лесного человека.
– Угу. Но я не знал, что ты для соседки с Вамварькой готовила вкуснятину, – муж, по обычаю, начал оправдываться. – Но ещё много осталось. Гость скромный. Будем продолжать застолье. Хоть и устали немного. Вы поедите, а мы на вас поглядим, – Никола-Нидвора смотрел на входной закров, будто ждал, когда произойдёт его следующее подрагивание, – а где Вамварька?
Ятин тоже мысленно вопросил о Вамварьке, не слишком зная, с какой надобностью.
– Да ты запамятовал, небось. Она ещё на прошлой седмице отлучилась к себе, на Ближний Юг. Чтобы нас потом хорошенько встретить. А что и нам как раз туда собираться надо, тоже забыл?
– Да, да, да, да. То-то я не замечал её давно, – Никола-Нидвора смутился, – ушла, говоришь? – он таким же смущённым взглядом окинул гостя. – Собираться-то не забыл. У меня всегда всё собрано.
Ятин мысленно тоже смешался, хотя не предполагал к тому заметного повода.
– Одна? – спросил муж.
– Нет. С попутчиками.
– Какими попутчиками? Поганые здесь. Я видел. Вчера. Когда совершал прогулку перед сном. Один из ихних, да, тот ушёл в Гужидею. С шутником нездешним, гужидеянином, который обошёл тут все землянки, наслушался баек наших, да подался назад. Ну, видела ты его. Тоже вчера. Пригожий такой, внимательный. Шутник гужидейный возвращался домой, так и тот поганый увязался. На разведку. Хе-хе. И Прошловодные дома. Я к ним заглядывал тогда, вечером. Всей гурьбой спать укладывались. Остальные соседи, сама знаешь, вообще старики, никуда не ходят, песни поют. Они как раз поспели полати летние на ветвях лиственницы поместить. Наверху и поют. Старики, а раньше всех успевают.
Издалека, используя прозрачный утренний воздух, доносилась бодренькая песенка на голосов шесть-семь, с перекличкой вроде эха.
– О. Слышишь?
– Ты правду говоришь?
– Ты разве не слышишь собственными ушами? Все семеро. А? И раздельные у них все семь голосов. Умельцы.
– Я Прошловодных имею в виду.
– Угу. Всей гурьбой.
– А говорила, что с Прошловодными пойдёт. Обманула, значит. Успокоила так нас. Одна пошла. Ох, и смелая девчонка.
Ближняя соседка тоже покачала головой и глубоко вздохнула. Потом переметнула внимание на пришельца, также поддавшемуся сокрушённому настроению.
– Из Гужидеи? – полюбопытствовала она.
– Из Гужидеи, – ответил Ятин и вышел из состояния сожаления по поводу поведения Вамварьки, поскольку тоже со свежим любопытством обвёл соседку мужским взором.
Она оказалась женщиной моложавой, стройной, не смазливой, но, скажем, со строгой красотой. Любомир мысленно кивнул головой, будто примечая новую знакомую на предмет дальнейшего с ней ознакомления. Вместе с тем, и мысль о Вамварьке не покидала его. Запало.
– И твой гость из Гужидеи пойдёт с нами на Ближний Юг? – спросила жена у мужа.
– Ты пойдёшь с нами на Ближний Юг? – Никола-Нидвора переключил вопрос на гостя.
– Сейчас?
– Нет, не так уж вборзе. Поедим и тронемся в путь.
– Пойду.
– Тогда ты и гужидеянина снаряди, пока мы подкрепляться будем, – предложила жена.
– Это нехитро.
И мужчины перешли в уголок снаряжаться.
– Главное – обувку наладить и оружие справить, – Никола-Нидвора доставал из гнезда в стене одну за другой полезные в дороге вещи. – О! А вот и плетёнки мои недоношенные. Поддень-ка их под шкуру. – Он подал Ятин у пару накидок то ли из бересты, то ли из сухой травы, то ли из того и другого. – Эту на плечи, эту на пояс. Там верёвочки есть. Повяжи.
Вскоре и остальное снаряжение полностью определилось. В основном – плетёные изделия. Обувь, туески да колуги с обечайками, корзинки да котули. Никола-Нидвора обул себя и гостя в добротные курпины. Из оружия он взял пару длинных тростниковых стволов со стрелами и рогатину. А Любомир добавил себе собственное опоясанье с мешочками. На всякий случай.
– Выйдем, пока лонолюдьи кушают, – сказал Никола-Нидвора, – я научу тебя стрелять.
Ятин даже обрадовался редкому в последнее время предложению и охотно побыл учеником. Лесной человек, глядя на его усердие, морщился, кривил рот, хохотал, но, в конце концов, заслуженно похвалил.
– Ладно, – сказал он, – видно, что не баляба, дуешь крепко и метко, значит, будешь запасным стрелком. А ещё я дам тебе острогу. И беньку новую.
– А другого оружия у тебя нет? – Любомир Надеевич глубоко вздохнул, будто для очередного выстрела. – Ножи, топоры, коса, наконец, или меч. Купил бы.
– Зачем тебе? Обрезание, что ль делать? Но ты вроде не басурман и не поганый. И потом, что значит, купил? Мы народ не продавной и не покупной. Торговлей не увлекаемся.
– Удобные были бы орудия, вот что я хотел сказать, – а в мысли пробежала строчка «всё бесплатное неудобно».
– Ты Робинзона Крузо знаешь?
– Знаю. Был такой. На необитаемом острове.
– Угу. Помнишь, он пилой да топором орудовал. Доски делал. Из одного дерева одну доску. И другие вещи тоже вожгал железяками.
– Помню.
– Так он же, как у них говорят, «цивилизованным» был. Ему обязательно пособлять надобно. Посредник ему нужен. Железяки. Природа ему – чужая тётка. Ему с ней бороться надо. Поэтому и железяки. Или другие люди. Без них он никто. А мы всё голыми руками могём. Собственными руками. Раньше вот, могли наломать бредины для плетения полезного добра, сук отщипнуть, и щепу наготовить, и ружьё духовое, стрелу да острогу. И конопель броснуть. И верёвки свить из неё. Да волокна всякие жилистые, иной какой растительности, чтоб нитки толстые да тонкие извлечь. И сплести из этого всего да связать, что хочешь. А природа поддавалась, подкидывала нам, что полегче. Не боролись чтоб.
– Робинзону повезло на пилы да топоры. Нелегко представить его жизнь без железных орудий. А вы, значит, без посредников трудитесь, да живёте вообще без них?
– Хе. Вопросик у тебя, видать, с подвохом. Есть посредник. Да ещё какой! Природа, вся вкупе – вот наш посредник, помогает силой огромной. Она и наша среда обитания. Какова среда обитания, таков и посредник.
Ятин слегка призадумался. «М-да, а у нас вроде бы тоже посредник является средой обитания. Пожалуй, всё сходится. У них природа, у нас ремесловое искусство. И что-то вспомнил.
– Ты говорил, что именно раньше вы из корья голыми руками добывали всякое сырьё для плетения да витья. А нынче? – полюбопытствовал Любомир Надеевич.
– И нынче тоже бывает. Редко. И запасы имеем. Но появились вокруг нас новые виды растений. Почти готовое сырьё, как ты говоришь. Видал, небось, травяные берега вдоль озёрец наших. Особые травы. Жнутся легко. Из них и вьём да плетём. Руками, конечно. Голыми. – Никола-Нидвора выставил ладони с гибкими и чуткими пальцами.
– Голыми руками, – Ятин почесал затылок и помыслил вслух, – вот и драка голыми руками тоже всегда являлась честной. А если кто применит что дополнительное, оказывается нечестным.
– Угу. Только вот сама драка зачем? И что в ней честного?
– Чтобы выяснить, кто прав.
– Угу. А мы вот правами не балуемся. И обязанностей нет у нас, в нашей области обитания. Хе-хе.
– Понятно. – Произнёс Ятин. – Но всё-таки дерётесь вы. И даже некую долю природы изводите. И больно заметную, как я погляжу. Разве можно убивать что-либо в своей «области обитания»? – Пришелец указал на шкуру медведя. – И честно ли так поступать?
– Угу. Вот с медведем у нас отношение отдельное от остальной природы. Они сами какие-то отдельные. Косолапые, вишь, и гораду обжили. Там никто кроме них не живёт.
– Гораду? Так она была на Ближнем Юге. Вамнам твой о ней рассказывал.
– И у нас есть горада. Их много кругом. Там таких железяк видимо-невидимо. Косолапые охраняют эти горады от нас. Справедливо делают. Мы сами когда-то ушли оттуда, ну, не мы, деды наши, прадеды, и не надо нам блазны туда возвращаться. А если мы встретимся в лесу, то, брат, тут уж кто кого. Обычно побеждаем мы. И шкуру снимаем. Всё-таки не любим мы их. И они нас.
– Без железяки?
– Чего без железяки?
– Шкуру снимаете.
– А щепой.
– И камнями тоже не пользуетесь?
– Камнями? Только чтоб искру выбивать. А для другой нужды – нет. Мы народ ленивый. Делать орудия для изготовления иного орудия, или, как говорится, производить средства производства – не наш смысл. И потом, не в каменном веке живём.
– В деревянном.
– А? Ну да, в деревянном. Хе-хе. И в огненном пока. Но дерево потихоньку научается тепло да шибкую горячесть давать из себя. Берёт от солнца, отдаёт нам. Вскорости не надо будет дерево жечь, чтобы обогреваться.
– И поганые тоже? – Гость не вник в слова об особых способностях дерева, потому и не стал любопытствовать по поводу подробностей да уточнения, а перевёл речь на иное.
– Что?
– В деревянном веке живут.
– Они-то? Не, у них именно каменный век на дворе. Отсталый народ. И обменом занимаются. Исподтишка. К дальним соседям ходят. Не могут отвыкнуть от страсти к наживе. Но не столь часто, всё реже да реже. Наше воспитание. Скоро научатся быть настоящими людьми.
– Настоящими, значит, всё делать только руками, не изготовлять и не применять средства производства? Таковы ваши главные устои обитания в природе.
– Правильно понял. Не изготовляем средства производства. Никакие. И всяких особых подсилок для удобства не делаем. Только приспособлениями пользуемся. Да и те нам природа подносит. Чего повторять одно и то же. Не горюй. И тебя научим. Норов у тебя хваткий. Вона как скоро стрелять научился.
– В медведя, небось, попаду, – сказал Ятин, посмеиваясь над своей сноровкой в стрельбе из тростникового дула. – Если я верно понял, медведи облюбовали себе все горады вообще. Они там, как дома. Владельцы, одним словом.
– Метко понял. Горады заполнены берлогами. Но мы туда не ходим. Мы на косолапых не охотимся. Обороняемся порой, это да. Если нападут. Ну, и – того – приходится убивать. Но только не мечку ихнюю, матуху. Она хоть и нападёт, никогда не убиваем. Лучше самим уйти подальше. А ещё косолапые наши борты с мёдом находят и разоряют. Мы-то с воросками дружим, а те полностью снимают мёд. Мало им горад, нарочно оставленных с большими запасами наживы. Всюду лезут, одним словом. Но за эти безобразия мы их не бьём, гоним только. А нынче горад на нашем пути не встретится. Стрелять будем, если случится такая беда, то в рысь. Она коварная. На дереве сидит, и вдруг, бац, тебе на плечи, и давай шею грызть. Лучше будет, если мы её наперёд обставим.
– Тоже нарочно не охотитесь?
– Нарочно – нет. Вынужденно только. И лишь в походе. Всё равно, что на комара. Тот ведь тоже норовит куснуть да кровушку пососать. Прихлопнул, и все дела. Охота – не наше занятие. Лес и так всё даёт для пропитания, одежды и убежища. Среда.
– И часто вас зверьё вынуждает себя убивать?
– Комары?
– Нет, хищники покрупнее.
– Случается. Бывает, что приходится защищаться от них решительно. Потому-то и орудия на то имеются. Оборона обязана быть сильнее нападения.
– Оно видно. Женщины-то у вас в рысьих шкурах.
– Заметил. Молодец, образованный. У нас манера такая: удолюды в медведях, лонолюдьи в рысях. Они и стрелять, порой, лучше удолюда умеют. Моя – нет, хуже меня стреляет. А другие удолюды аж стыдятся: подарить лонолюдье нечего на выходные, сама добывает.
Любомиру Надеевичу всё не давало покоя поражение в споре о преимуществах здешнего образа жизни. Вот и решил взять отмщенье.
– Да, но с комаров-то вы шкуры не снимаете и не пользуетесь ими. Как, по-твоему, понимать сравнение убийства хищника с убийством комара?
– Пристыдить хочешь? Давай, давай, стыди. Дикие мы. Действительно используем шкуры врага. Всякий хищник – ворог. Медведь это ж лесной чорт, понимаешь? Только не ради того мы их убиваем. Одёжка-то у нас есть и другая, растительная. Основная. А это, – Никола-Нидвора ткнул пальцем в своё верхнее одеяние, – это, если хочешь, память о победе над лютым хищником. А заодно и тепло.