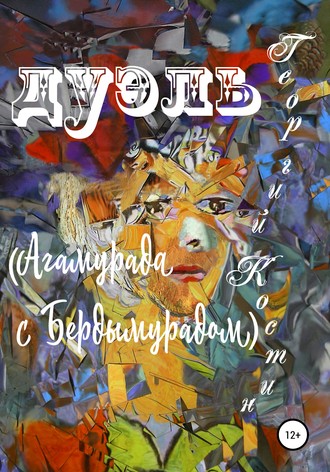
Георгий Костин
Дуэль Агамурада с Бердымурадом
Эпилог
Прорыв во взрослую жизнь
11
Оставшись один, Агамурад несколько раз протяжно вздохнул, жадно втягивая в расправившиеся легкие изумительный коктейль озерных запахов и звуков. Затем решительно направился прямиком к дальним озерам по высокому нехоженому рдесту, уверенно подминая босыми ногами жесткие, похожие на проволоку в виниловом изоляторе длинные стебли. Бердымурад вознамерился возвратиться в поселок напрямую, и решил переплыть русло, держа одежду и портупею в руках над головой. А когда переплыл, почувствовал себя вконец обновленным, будто искупался в сказочном кипящем молоке. Одеваться не стал, а пошел по водохранилищураздетым, приятно ощущая жесткую траву под босыми ступнями, отвыкшими за последние два с половиной года от ходьбы босиком. Но еще более приятно было чувствовать, что ему вновь позволено заходить ТУДА, и что он, коли захочет, то может зайти ТУДА прямо сейчас… Но более всего ему было радостно от усиливающейся уверенности в том, что его страдания, связанные с муторной тошнотой и ужасающими образами раздутых мертвых сомов – остались позади, на том берегу русла, которой он переплыл.
А тут, на этом берегу, его душа была вновь чиста, свежа и доверчиво распахнута окружающему миру, как в далеком счастливом раннем отрочестве и детстве. И теперь он сполна остро, подробно и обстоятельно вчувствовался в присутствие обрадованно столпившихся вокруг него озерных запахов. И которых, как обычно, доминировали терпкий медовый запах отцветающего рдеста и запах застоявшейся воды, тяжеловатый, но таинственный и магически-многозначительный. И, конечно (как же без него!) – присутствовал запахразлагающейся рыбы. Но не ужасающий, как прежде, тяжелый и ядовитый, а как бы разбавленный свежим ядреным воздухом – сладковато-приторный, будто тянущимся из далекого счастливого детства. Смешиваясь в изысканном коктейле, все эти запахи походили то ли на запах сладко преющего силоса в силосных ямах, то ли душной испарины на материнском теле. Когда она в его раннем детстве, наработавшись на огороде, склонялась над ним, и ему в нос шибал интимный запах её подмышек. От которого у него кружилась голова от неописуемого счастья и бесконечно глубокого покоя…
Сладостно жмурясь, Бердымурад вдыхал открывшиеся ему запахи осторожно и обстоятельно, как если бы заново учился вдыхать их. Надышавшись и опьянев до легкого головокружения, он стал обстоятельно вслушиваться и в сладостные звуки, которые, будто на качелях, игриво раскатывались над водохранилищем. Сердце его сладостно щемяще замирало от протяжных и заунывных криков щурок, кружащихся в пронзительно чисто-синем поднебесье. Сладко, аж до наркотического опьянения, вкатывались в его слух взрывной азартный, несколько приглушенный дальним расстоянием собачий брех. А вместе с ним – и напористые петушиные крики. А следом – и рев мотоцикла, и шум проезжающей по асфальту автомашины, и мерное тарахтение работающего движка, качающего воду в поселок. Все эти обычные и привычные звуки были сейчас до глубинной истомы милы его сердцу. А когда он привык к шумам и перестал замечать их, то его уши наполнил чудной и таинственный внутренний шум и звон. И трудно было определить, что это – нимбом роится густая мошкара вокруг его головы, или это горние ангелы специально для него запели звенящую тонким колокольчиковым звоном песню обновившейся жизни.
Возникло желание продлить как можно дольше это благостное состояние духа, чтобы обжиться в нем до полной уверенности. И потому дойдя до пойменного обрыва, Бердымурад не стал подниматься наверх, чтобы выйти на центральную улицу поселка, а свернул налево, к каналу и пошел в поселок по его берегу. Но теперь он не отдавал безоглядно все свое внимание звукам и запахам, а готовился к встрече с людьми. Дабы и с ними быть таким, каким только что он стал, и каким его привыкли видеть люди до его службы в армии. Дойдя до места, где впервые в своей жизни ловил рыбу с прикормкой и после той рыбалки стал Рыболовом с большой буквы, он приостановился. И продолжая чувствовать распирающую изнутри радость и воодушевление, неудержимо потянулся до смачного хруста в позвоночнике и… – невольно глянул ТУДА. И уж совсем для себя неожиданно увидел ТАМ сазана. Сазан был огромным – килограмма на три с половиной, а то и больше. И он был один, и он был у берега, и широким упругим рыльцем он вяло ковырял дно, отыскивая червячков…
Мощный рыбацкий азарт взрывом ударил в голову Бердымурада, кровь отчаянно застучала в висках, а лоб мигом покрылся обильным потом. Смахнув его шершавой ладонью, Бердымурад приоткрыл рот, чтобы можно было часто, но при этом бесшумно дышать. Осторожно положил одежду на примятый рдест. Решение привадить этого сазана прикормкой, а потом попробовать поймать его на удочку – пришло само собой. Более того, оно даже и ничуть не удивило, да еще, как это бывало только прежде, до армии, в мгновение заставило его успокоиться. Сердце перестало громко биться, а испаряющийся под ветерком пот приятно охладил лоб. Бердымурад спокойно определил, что для вываживания такого сазана нужно будет подготовить довольно много свободного пространства. И определив, сколько именно, немедля, полез в воду, чтобы выдергивать из дна длинные и толстые, как переметный шнур, стебли рдеста, наматывая их по одному на ладонь, а потом медленно выдергивая с корнями из рыхлого дна. Старался он все это делать плавно и как бы при замедленной киносъемке, потому как знал, что сазан, особенно такой крупный, чрезвычайно любопытная рыба. И коли его не напугать резкими движениями или громким шумом, то он останется на месте и будет из-за слабо колышущихся нитевидных стеблей рдеста наблюдать за человеком, пока тот будет возиться в воде…
Вскоре, как это всегда бывало прежде, Бердымурад перестал ощущать время, оно как бы исчезло, потому как его собственное внутреннее время влилось во время внешнее и сполна в немрастворилось. Одновременно перестали различаться между собой реальность этого мира и мира ТОГО. Эти две качественно различные реальности тоже как бы слились воедино. Бердымурад самозабвенно рвал и рвал, накручивая на ладони, толстые скользкие стебли рдеста, делая это медленно и плавно, избегая резких движений. Нарочитая замедленность движений плавно убаюкивала его самого и вводила в транс. Он чувствовал, что все больше и больше растворяется в ТОМ, еще пару часов назад недоступном для него мире. И что он, Бердымурад, вновь становиться органичной частью ЕГО. Такой же равноправной частью, как и находящийся от него поодаль матерый сазан, неотрывно наблюдающий за ним большими красноватыми глазами. Более того, Бердымурад отчетливо чувствовал, что именно ТОТ мир и управляет сейчас его действиями. Исподволь подсказывая ему, как нужно рвать рдест, как сворачивать в комок вырванные из донной илистой глины длинные водоросли с жесткими листьями. И как, не поднимая волн, выноситьэти свернутые водоросли, прижимая их к груди, на сухой берег. Именно ТОТ мир и сообщил ему, что настала пора остановиться, потому как свободное от водорослей пространство сделалось достаточно просторным, и теперь тут без опаски можно будет вываживать любую крупную рыбу. Так же из ТОГО мира Бердымураду пришло решение и прикормить это место. Он степенно оделся и пошел в магазин за хлебом, стараясь оставаться быть ТАМ. И уже в магазине ТОТ мир деловито подсказал ему купить заодно и новые снасти для рыбной ловли. Потому как сазан, которого он собирался прикармливать, может порвать ветхую леску на его удочках или на худой конец разогнуть, а то и даже поломать маленький крючок. И там же, в магазине, услышал донесшийся до его сознания из самой глубины души еще одну ценную подсказку ТОГО мира. Купить длинную рыболовную резинку, сплести её в шнур, и сделать из него амортизатор, дабы погасить им опасные – резкие и сильные рывки подсеченного сазана…
Купив все это, Бердымурад вернулся на канал, накрошил хлеб на землю, добротно замешал его с прибрежной глиной, слепил шары величиною с кулак. Но бросать их в воду не стал, как это он сделал в первый раз на этом месте. А опять неторопливо разделся и, медленно раздвигая ногами теплую воду, стал относить подкормочные шары на середину расчищенного от водорослей водного пространства. Пригибая колени, погрузился в воду по самое горло и бережно опустил их на рыхлое дно… А когда вышел на берег с чувством добротно выполненного дела, к пущему своему удовлетворению почувствовал себя таким, каким был до армии: степенным, солидным и обстоятельным. Следом четко почувствовал и то, что это вернувшееся-таки состояние духа еще слабо, и ему теперь надобно будет снова обживать его и как бы учиться ходить в нем заново. Однако это Бердымурада не расстроило, но и обрадоваться возвратившемуся вожделенному душевному состоянию он себе не позволил, боясь сильными чувствами потрясти и хуже того покоробить его.
Придя домой, Бердымурад первым делом принялся сооружать удочку: выбрал самое прочное бамбуковое удилище, приладил к ней купленную только что леску, поточил о брусок с мелкой наждачной насечкой толстый крючок, привязал его к леске, и чуть выше крючка приделал грузило из мелкой картечины. Затем сплел из резинки шнур длиною с метр и обстоятельно приделал один конец его синей изоляционной лентой к удилищу, а другой конец надежно привязал к леске, с расчетом, чтобы резиновый шнур имел возможность растягиваться в два с половиной раза, но ни в коем случае не больше. После чего, вполне довольный собою, пошел ужинать. Степенно уселся на кошму напротив пьяного уже отца. Мать по обыкновению молча поставила перед ним фарфоровый чайник. Поблагодарив её кивком головы, Бердымурад налил себе в пиалу свежезаваренный чай и, отхлебнув его – зажмурился от удовольствия. Он и забыть забыл, что чай может быть таким опьяняюще вкусным. Жмурясь и стараясь продлить удовольствие, отломил кусочек свежеиспеченного и горячего еще чурека, куснул его: упоительный хруст на зубах и бесподобный вкус детства вконец опьянили его. Бердымурад непроизвольно улыбнулся детской счастливой улыбкой. Спохватившись, хотел было сдержать её, но не сумел. Губы непроизвольно растянулись на все его счастливое лицо…
– Вижу, ты с удочками возился. Опять рыбачить пойдешь? – Заплетающимся, но подчеркиваемо добродушным голосом спросил у него отец. Желая отечески побеседовать с сыном, он раздумывал, открыть ли еще одну бутылку водки, или довольствоваться выпитой, а в родительской беседе пить из пиалы только свежезаваренный зеленый чай. – Я давно, когда ты еще только вернулся из армии, собирался поговорить с тобой, как отец с сыном, как мужчина с мужчиной. Но все никак не выпадало подходящего случая: то у тебя было плохое настроение, то у меня. А это тема серьезная, говорить о ней с плохим настроением – заранее погубить разговор. Ты мне вот скажи прямо: ты готов сейчас серьезно говорить с отцом? Если нет, я не обижусь, я могу потерпеть еще… Я, вообще – человек необидчивый… Но, понятное дело – алкаш… Алкаш разве имеет право обижаться…
– А о чем ты хочешь поговорить? – Продолжая внутренне улыбаться, добродушно спросил Бердымурад. Он сейчас любил все: и себя, и отца, и весь окружающий его мир. Ему было хорошо и естественно хотелось поделиться этим настроением с близкими людьми. Но тем не менее какое-то нехорошее предчувствие вспыхнуло-таки в его душе небольшой искоркой. И что-то пока ему непонятное (похожее на слежавшуюся ветошь) исподволь затлело вдуше. Бердымурад непроизвольно напрягся, чтобы выдавить из души эту затлевшую ветошь и проветрить душу от отравляющего ядовито струящегося дымка. Но сделать это ему не удалось, потому что отец таки огорошил, перенаправив течение мыслей и устремлений в другую, опасную сейчас сторону…
– Я хочу поговорить о твоей женитьбе, сын. Я, конечно – алкаш… – Обстоятельно и даже вроде как немного протрезвевшим голосом, заботливо заговорил он. А заметив, что сын тут же внутренне засопротивлялся ему (потому как действительно говорить сейчас о женитьбе Бердымураду совсем не хотелось), уверенным напором продавил его слабое сопротивление. – Не перебивай меня, пожалуйста. Дай сказать отцу. Да, я алкаш. Это знают все. И я это не скрываю. Но я хочу, чтобы мои дети были благополучными. Я хочу, чтобы мои дети были не хуже, чем у других. Чтобы они, когда подойдет срок, тоже обзавелись семьями, и чтобы у них были дети. Не скрываю, я хочу внуков, сын. А для этого тебе нужно жениться. Невесту мы тебе с матерью найдем. Но понадобится, ты сам это знаешь – калым. А ведь свободных денег, ты это тоже знаешь – у нас нет. Все деньги пожирает проклятая водка. Ну, может быть, мать где и хранит деньги в заначке на черный день, но все равно на калым их не хватит. На калым не хватит и твоей рыбнадзоровской зарплаты. Я давно хотел сказать, что заработать на калым можно только, если ты опять начнешь ловить и продавать рыбу, как это ты делал до армии. И вот сегодня, наконец, увидел, что ты сам это понял… Так что могу вздохнуть облегченно: к следующему лету у нас будут деньги и на калым, и на свадьбу. Ну, необязательно должна быть шикарная свадьба: я ведь, ты это знаешь, никогда не стремился быть лучше всех, но и не хочу быть хуже, чем другие…
– Да, рано мне еще думать о свадьбе, отец… – Продолжая по инерции улыбаться, мягко возразил Бердымурад, усиленно соображая, как бы ему тактично уйти от разговора на неприятную, а сейчас и чрезвычайно опасную тему. Он чувствовал, что восстановившийся в душе лад с самим собой и окружающим миром еще никак не согласуется с его женитьбой и работой рыбнадзором. Потому как в ТОМ мире, куда ему сегодня вновь открылся свободный вход, нет пока места ни его женитьбе, по крайней мере, в отцовском понимании, ни его работе. И не известно будет ли когда-нибудь, вообще, ТАМ место для того или другого. А коли он сейчас даже ради почитания отца оторвет свой внутренний взор от входа в ТОТ мир и перенаправит его на женитьбу, или на работу, то есть озаботится насущными проблемами этого мира, то вход ТУДА для него вновь закроется, и теперь может быть навсегда…
– Ну почему же рано, сын? – С напористым чувством собственной правоты возразил отец. – Тебе двадцать один. Все твои поселковые сверстники – женились до армии. Это, конечно, на мой взгляд, не дело. Жениться, а потом на два года оставлять молодую жену одну… Я еще могу понять тех, кто откупился от армии. Но, тем не менее, в поселке остались только двое неженатых парней: ты и этот идиот Агашка, который лазит с острогой по болотам в одних трусах. И ладно если бы он продавал рыбу, а то – раздает её бесплатно… Как будто кто-то за него так же бесплатно отдаст невесту…Но да ладно, он нам не пример. – Отец замолчал, шумно отхлебнул остывший чай из пиалы, лихо выплеснул остаток его на землю, налил нового. И не чувствуя теперь возражений со стороны сына, продолжил по-отечески поучать его. – Вот что я тебе скажу. О тебе сейчас сложилось плохое мнение в поселке. Но я лично тебя поддерживаю, ты поступил правильно, что устроился рыбнадзором. Теперь ты единственный и полноправный хозяин рыбы на водохранилище. Сам теперь можешь назначать цену и не только на рыбу. Конечно, если тебе будет удовольствие – можешь и порыбачить удочкой. Я сам до того как стал алкашом, страшно любил это дело. Сидишь себе, смотришь на поплавок – что может быть в жизни лучше этого?.. Но все-таки самый лучший заработок – это бомбить браконьеров. Ты снял у них сети и переметы, так пусть они и выкупают у тебя их обратно. Ну, скажем, за полцены. Они же их все равно будут покупать снова, а те, кто вяжет сети, понятное дело, запросят полную цену. Или когда ты их поймаешь с уловом – пусть расплачиваются: рыбой или деньгами… Опять же половина наполовину… Половину им, половину тебе…Так и на калым себе соберешь за год. К следующему лету и справим тебе свадьбу…
– Нет, отец, я не буду этого делать. Это не по закону будет… – Совсем уже вяло улыбнувшись, ответил Бердымурад. Дымок, который тянулся из глубины души, приобрел отвратительный запах гниющей рыбы, и к горлу подступила тошнота. Бердымурад зажмурился, сжал зубы, хотел было еще и тряхнуть головой, но сдержал себя, подумав, что это его движение заметит отец и не так воспримет. Но, сдерживаясь, он изо всех сил, можно даже сказать чрезмерно напрягся изнутри. От этого напряжения что-то в нем продавилось, что-то не особенно прочное ухнуло куда-то глубоко вниз, и через этот обвал, как через проем, словно из распахнутого зева какой-то ужасающей бездны, дыхнуло на него спертым омерзительным до удушения запахом, от которого муторно повело в голове. А в следующее мгновение, он, растерявшийся вконец и потерявший бдительность, невольно заглянул внутренним взором в разведшуюся бездну и там, на дне души, на гадкой черной воде вновь увидел лежащих кверху раздутым брюхом мертвых сомов, под темной кожей которых густо копошились гадкие белые трупные черви…
– Ну, зачем же ты так… – Стараясь оставаться добродушным, тихо протянул отец. – Кто сейчас живет по закону?… Вон Назар, который устроился в милицию… Так он, говорят, две ночи выслеживал местного наркоторговца. И поймал-таки его с поличным. Тот ему сказал: «Молодец, тебе удалось меня поймать. Пойдем в дом». Дома высыпал перед Назаром в две кучи деньги и золото. На глаз ладонью разделил поровну ту и другую кучу. И сказал: «Бери там и там половину»… Теперь Назар – человек богатый и уважаемый… Все сейчас так живут…
Тут уж Бердымураду стало невмочь сдерживать себя: он судорожно зажмурился, громко заскрипел зубами…И оказался сразу в кромешной темноте, в гуще невыносимого запаха. Задыхаясь, пронзительно почувствовал, что именно отец – и есть его сейчас самый главный враг. Что это именно из-за него, и таких, как он и передохли сомы в водохранилище… А в следующее мгновение вслепую, словно в тире скоростной стрельбы, рука Бердымурада автоматически потянулась к кобуре, чтобы с неизъяснимым сладострастием и ненавистью разредить в своего главного ВРАГА, принявшего сейчас облик отца полную обойму. Не нащупав кобуру на месте, ошеломленно опомнился, но и сдерживаться не стал, а, гневно вскинул на отца выпученные от ненависти глаза – процедил сквозь стиснутые зубы:
– Да лучше удавиться. Чем жить так, как ты говоришь…
12
Тут же решительно вскочил на ноги, демонстративно давая отцу понять, что разговор между ними закончен. Быстро отошел от кошмы вглубь двора в направлении пристройки, в которой жил. И пронзительно почувствовал, что ему сейчас и в самом деле ничего больше не остается сделать, кроме как удавиться в тесном дверном проеме. Тошнота и омерзительный запах, вызывающий её, сделались невыносимыми. Раздутые трупы сомов стояли перед внутренним взором так близко, что казалось даже, будто белые трупные черви копошатся в его собственных глазах, раздражая их до невыносимой рези. Избавиться теперь от всего этого возможно было только вместе с собственной жизнью. К тому же такая жизнь, которую нарисовал отец, а другой жизни (Бердымурад знал абсолютно точно) в поселке у него и быть не может – не имела, да и не могла иметь для него никакой ценности. «Все! Удавлюсь! Удавлюсь на фиг!» – В мгновение принял он непоколебимое решение. В его сознании тотчас услужливо возник подготовленный загодя способ повешения в дверном проеме с подогнутыми в коленях ногами. А в следующее мгновение отец многократно усилил это его решение. Взбесившись от последних слов сына, он суетливо схватил бутылку водки, враз отковырнул пробку, спеша, отпил из горлышка несколько глубоких жадных глотков. И теперь уже выпучив глаза от бешенства, крикнул в спину Бердымураду: «Ну и удавись! Испугал! Лучше вообще не иметь сына, чем такого, как ты, а тем более, как твой друг детства, идиотик Агашка…»
Бердымурад содрогнулся от отцовских слов, рука его вновь автоматически метнулась к левой подмышке, где у него должна была быть кобура. Но опомнился, криво улыбнулся: и его напористая решимость обернулась сосредоточенным смертельным спокойствием. Но дойдя до дверей пристройки, подумал, что прямо сейчас ему удавиться не позволят. Мать через пару минут непременно пойдет за ним следом, или пошлет кого-нибудь из младших сыновей проведать его. А, возможно, и сам отец, в бешенстве допив вторую бутылку, пойдет к нему драться… Потому решил отложить самоубийство на позднее время, приблизительно за полночь, а еще лучше под утро, когда родные будут спать особенно крепко. А чтобы вовсе усыпить их бдительность, механически взял подготовленную для завтрашней рыбной ловли удочку и, стараясь сделать голос спокойным, крикнул матери: «Пойду, порыбачу!» «Но ты же ничего не ел. – Обеспокоенно ответила ему в спину мать и, торопливо подойдя к нему, добавила. – Зачем же ты так с ним… Все-таки он – отец. Добра тебе желает…» Бердымурад напрягся спиной и, собравшись, сдержанно ответил: «Да, конечно, отец… Извини, не сумел сдержаться…» Чувствуя, что для разговора с матерью у него больше не осталось душевных сил, дернулся и стремительно пошел в темный проем дворовых ворот.
Придя на подготовленное с вечера место, отчаянно упал спиной в густой рдест и бездумно уставился в темное, как бархат, усыпанное яркими звездами небо. Мыслей не было. Сознание казалось выжженным, словно луг, на котором выгорела сухая трава. Не было и тошноты. И ужасающие образы мертвых сомов не беспокоили больше. Казалось, что он уже умер в самом себе. И осталось за малым – убить собственное тело. Но такая мерная пустота держалась недолго. Скоро исподволь душу стало наполнять деятельное беспокойство. Почувствовал, пассивно лежать, ожидая утра, становится невмочь. Стремительно поднялся на ноги, принялся ходить, заложив руки за спину, по густой траве рдеста туда и обратно. Опомнился, подумал, что со стороны его ходьба выглядит совсем нелепо. Потряс головой, чтобы мобилизоваться. Но сознание оставалось пустым, и ничего придумать не удавалось. Зато взгляд, автоматически упав на удилище, высек-таки мысль. Хотя и странную, даже нелепую, что ему лучше всего сейчас ожидать утра, делая вид, что удит рыбу. Никаких других мыслей у него так и не возникло. Подстегиваемый нарастающим внутренним беспокойством, он, усмехаясь, взял в руки удочку. Размотал её, и хотел было забросить голый крючок с грузилом в середину освобожденного им от водорослей водного пространства, похожего сейчас на темную полынью. Тут высеклась в сознании и вторая мысль, что удить рыбу с пустым крючком так же нелепо, как и ходить. Решил насадить на крючок хлебный мякиш. Непослушными и почему-то кажущимися невероятно раздутыми и тугими пальцами отломил хлебный кусочек. Огромным усилием воли выработав во рту вязкую слюну, поплевал на него, размял, насадил горошинкой на крючок. Автоматически, будто робот, забросил наживку в середину просторной полыньи и собрался делать вид, что удит рыбу, хотя бы часов до трех ночи…
В спокойном ожидании собственной смерти скоро забылся, провалившись в тягучую вязкую темную пустоту, похожую на бред. И потому никак долго не мог понять, почему удилище, которое он по выработавшейся привычке цепко держит в руках, дернулось и чуть ли не выскочило из рук. Не понял он, почему оно, словно ожив, заходило ходуном в его руках и почему стало норовисто изгибаться. Чуя, что нечто не предполагаемое своевольно ворвалось в его установившуюся в мозгах программу и теперь пытается её разрушить, Бердымурад резко затряс головой. Отчаянно забарахтался в самом себе, будто пьяный до беспамятства человек, пытающийся высечь в сознании хотя бы проблески какой-нибудь мысли… Наконец заставил себя огромным усилием воли посмотреть хотя бы внутренним взором на то, что с ним происходит. Но опять увидел мертвых раздутых сомов, в которых копошились белые черви. Однако теперь ужасающий образ не сопровождался омерзительным запахом и не вызывал в нем тошноты… А приглядевшись к нему внимательнее, обнаружил, что это вовсе не черви, а белые мальки, которых в сомах становилось все больше и больше… И скоро место мертвых сомов заняли прыткие серебристые мальки, которые копошились в одном месте, словно были в каком-то специальном чане.
И только теперь его ослепительно осенило негаданной мыслью, что сохранять рыбу можно не только, защищая её от браконьеров, но и, что гораздо важнее – разводя её… Почти одновременно с этим он так же ослепительно понял, что удочка его дергается потому, что подсекся сазан, которого прикормил. Вмиг эти две ослепительные мысли вступили в отчаянное противоборство. Каждая устремилась обратить именно к себе все его пробудившееся деятельное внимание. Но тут же и какая-то неизвестная внешняя сила вмешалась в это противоборство, и Бердымурад отдал предпочтение первой мысли. И потому, не обращая совершенно внимания на дергающееся в руках удилище, он позволил развиваться в сознании именно первой мысли. А она обрадовано мигом привела его к, вообще, неожиданному решению, что ему нужно будет прямо завтра поехать на рыбзавод по разведению мальков пресноводных рыб, который открылся недавно в области. Чтобы просить и даже умолять принять его на работу в любом качестве. А проработав там год – поступить на заочное отделение в институт рыбного хозяйства…И как только он, в мгновение воспарив духом, согласился с этой мыслью, его внимание властно притянул к себе пылающий уже в нем во всю мощь рыбацкий азарт…
Опомнившись, как если бы проснулся после глубокого крепко сна, Бердымурад резко задрал удилище. Для подстраховки решительно вошел в воду по колено, намочив туфли и брюки. И когда сазан, отчаявшись прорваться к водорослям или порвать леску, стал делать в темной полынье безопасные круги, Бердымурад пришел в себя полностью. Сосредоточился и даже удовлетворенно отметил себе, что приспособление с резинкой сослужило ему добрую службу. Не будь её, сазан прорвался в водоросли, и там, запутавшись в них, конечно бы, сошел с крючка. Теперь же оставалось сделать то, что было привычно для Бердымурада. Он по обыкновению посмотрел внутренним взором через толщу воды на сазана и увидел его, огромного, сильного, но уже растерявшегося и где-то даже покорного судьбе. Привычно почувствовал, что рыболовная леска и удилище связывают его сейчас не только с сазаном, но и со всем ТЕМ миром. И что ТОТ мир желает, чтобы он выудил сазана. И сазану ничего не остается, как подчиниться ТОМУ миру… Где-то через полчаса привычной борьбы с рыбой Бердымурад спокойно подтянул её, замученную и всплывшую кверху брюхом к пологому берегу. Взял бережно в обе руки, отнес на берег и, уложив в рдест, удовлетворенно закрыл глаза. Успокаиваясь и унимая непроизвольно дрожащие ноги и руки, погрузился в сладкое неподвижное безмолвие.
Вскоре в его чистое, как у счастливого ребенка, сознание вновь всплыло принятое им решение поехать завтра устраиваться работать на рыбзавод. Он радостно и облегченно улыбнулся этому решению. Поскольку оно действительно разом решило все его накопившиеся за последние месяцы проблемы. Затем как-то обыденно вспомнилось и то, что он час назад на полном серьезе собирался наложить на себя руки. Тут же пронзительно, до каждой фиброчки своей души отчетливо прочувствовал, что, не попадись ему сейчас на удочку сазан, то он наверняка бы сегодня убил себя… Его обдало ужасом, но тот быстро развеялся, словно это сгорел порох, оставив после себя приятный запах дымка. Бердымурад улыбнулся еще раз. Но теперь не мечтательно, а – собранно – по доброму и деловому. Бережно взял скользкого и вяло шевелящего жабрами сазана в руки, поднялся, зашел с ним в воду по колено. Медленно опустил его к самому дну, разжал пальцы. Сазан вяло шевельнул плавниками, тихо поплыл в водоросли. «Ну, будь счастлив. – Вдогонку тихо сказал ему Бердымурад. – Ты мне сегодня подарил жизнь, и я в ответ возвращаютебе твою жизнь тоже…»
Удовлетворенный и повзрослевший в одно мгновение на полтора десятка лет Бердымурад вышел на берег. Увидел валяющуюся в рдесте удочку, понял, что больше никогда в своей жизни не будет удить рыбу. Захотелось даже в порыве вспыхнувших неведомых ему еще взрослых чувств, сломать удилище пополам, как это он сделал с луком, когда чуть ли не убил горлинку. Но подумал, будет лучше, если удочку найдут пацаны. «Пусть они теперь половят ею сазанов. – Счастливо улыбаясь, подумал он. – Для меня отрочество, а теперь вот и юность закончились навсегда…»
На обложке авторская (Георгия Костина) работа в стиле фотоживописи – «Синтетический портрет вдохновенного модерна»
Дизайн обложки – Георгий Костин




