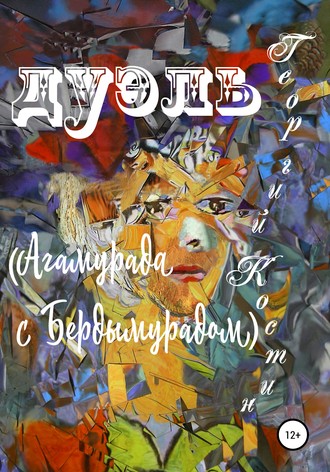
Георгий Костин
Дуэль Агамурада с Бердымурадом
5
Сережа замолчал, и вновь, будто проснувшись после долгого глубокого сна, зажмурился от яркого света. Ему захотелось легкомысленно потянуться, как он это обычно делал, когда просыпался в постели, но сдержался. Только порывисто и сильно, что побелели пальцы правой руки, сжал запотевший ствол ружья. Милые звуки и запахи водохранилища густо обрушились на него. Он порывисто вдохнул в себя приторные запахи испарений, высыхающих водорослей и цветущего рдеста, Душа его обрадованно открылась жадному чмоканью карасиков и заунывным жалобным стонам кружащихся над водохранилищем щурок. Сердце отозвалось и запело тоже, а точнее – нежно и уютно замурлыкало, словно маленький котеночек, свернувшийся калачиком.
– Это была первая настоящая охота в моей жизни. – Радостно улыбаясь охватившей его от сладкого воспоминанияблагости, сказал Сережа. И вновь порывисто что есть силы непроизвольно сжал ствол ружья. – Охота она не всегда завершается добычей. Ты ведь не хуже моего знаешь, в охоте добыча – не главное, а главное – азарт. Из-за него, из-за азарта, из-за переживаний, в которые нас затягивает азарт – мы и любим охоту…
– Любим?! – С обычной вспыльчивой ершистостью пылко возразил Агамурад. – Да я, блин, без охоты жить не смогу теперь ни дня. Для меня летом острога, а зимой ружьё – как игла для наркомана. Пару дней подряд не схожу на водохранилище, или озера, и – ломает. Но зато кайф – это да! И такой кайф – ни одному наркоману не снился. Я как-то по дури пробовал покурить травку – полное говно: это, конечно, тоже уход ТУДА, но такое, блин, ощущение, словно тебя засовывают ТУДА за шкирку и цепко держат, пока кайф не выветрится. Я, едва словил тогда такой кайф от травки, и мне сразу же захотелось от него избавиться. Не то, Серега, полное не то. Нет там свободы и раздолья. Другое дело – охота! Тут и азарт, тут и упоение, тут и наслаждение такое, что, наверное, лучше всего этого ничего не бывает в жизни… Я, если честно, не могу взять в толк, как ты можешь жить в городе? Как можешь обходиться без охоты? Понимаю – учишься, ты из всех нас, может быть, самый башковитый: и тебе высшее образование – нужно. Может быть, станешь большим человеком. Кстати, опять скажу тебе, ты – бесподобный рассказчик. Вот ты только что вспоминал вслух, как вы шли по поселку и по водохранилищу, а я все это видел так отчетливо, будто тоже шел вместе с вами. У меня даже, блин, мурашки от холода по всему телу бегали… И так кайфно, будто бы заново все это пережил. Да, конечно, охотничий азарт – великое дело…
Агамурад задумался и лицо его осветилось внутренней улыбкой. Тонкие темные губы натянулись и чуток покраснели. Видно было, что ему тоже захотелось сладостно потянуться. И чтобы сдержать себя от такого легкомысленного действия, он привычно судорожно растопырил пальцы на левой руке. А потом резко сжал ладонь – выступившие костяшки его кулака выражено побелели. На лице это напряжение не отразилось – оно осталось быть безмятежным и мечтательным.
– А ты знаешь, – уже другим – мягким и как бы обволакивающе журчащим голосом заговорил он снова, – а я таки сумел тогда, в отрочестве, убить цаплю. Правда, не из лука. Стрелою мне удалось убить всего пару горлинок. И то – потому что подкрался к ним на полтора метра. Палкой было бы легче их убить, чем из лука. Не, лучная охота – это не охота. То ли мы не умели делать луки и стрелы, то ли лучные охотники из нас хреновые…А вот рогатка – это, конечно: да! Это настоящее оружие охоты для подростков! Огромнейшее спасибо Алеше Кононову, и дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни за то, что он модернизировал рогатку, сделав её пригодной для охоты. Конечно же, скажу без ложной скромности, я – придумав жестяные наконечники для стрел, сделал шаг от детства в направление к настоящей охоте. Но Алеша Кононов – сделал в этом направлении десять шагов. Его рогатка – это произведение искусства. Ничего лишнего! Рогачек – из гребенчукового куста: вкладывался в ладонь и прирастал к ней, будто родной. Расстояние между рогатульками – как прорезь мушки, не больше трех пальцев: целиться просто прекрасно! А на резину он резал велосипедные камеры – полоски длиною сантиметров по тридцать: и чем толще они, тем убойнее рогатка. Правда, потом мы стали пользоваться резиной, разрезая маски списанных противогазов: на них резина лучше – не рвется и растягивается равномерно. На кожу, куда закладывалась галька – Алеша приспособил кожаный язычок от старого ботинка. Разрезал его узкой полоской, чтобы в него можно было вложить камешек с воробьиное или при солидной охоте голубиное яйцо…
Я, когда тоже сделал себе такую рогатку, уже в первый день убил пять воробьев и удода… Помню, с каким кайфом мы с этим Бармалеем, – Агамурад кивнул в сторону Бердымурада, – развели на задах костер из настоящих саксауловых дров, которые утащили из дома, и на пышущих жаром саксауловых углях пожарили первую в моей жизни охотничью добычу. Сейчас, когда вспоминаю это – смех разбирает: дрова взяли, а соль с хлебом забыли. Да и зажарили крошечные тушки воробьев, нанизанные на гребенчуковый прут – так, что потом ели одни угли. Но с каким кайфом ели!..
Нет, что ни говори, а охотничий азарт – это что-то! Ни с каким другим кайфом его сравнить невозможно. Он растворяет тебя. Ты вроде и есть, и вроде бы тебя нету. Тела своего не чувствуешь, мыслей у тебя нет никаких –как будто бы у тебя напрочь нет ни того ни другого. Да и превращаешься ты из тела в какой-то поток: в тебя втекает какая-то сила и несет тебя. Ты сливаешься с чем-то невообразимо огромным: а затем и сам становишься этим огромным, и это нечто огромное становится тобой. И тогда начинаешь чувствовать и видеть то, что обычные люди не могут чувствовать и видеть. Да и сам ты, когда у тебя нет охотничьего азарта, это чувствовать и видеть не можешь. А при этом еще и не знаешь, ты ли это чувствуешь и видишь, или это чувствует и видит в тебе это нечто невообразимо огромное. А ты своим органами чувств всего лишь присоседился к этим нечеловеческим чувствам…
Я это особенно отчетливо пережил и понял, когда убил-таки из рогатки серую цаплю. Но убил, понятное дело, не на водохранилище: там к ним на убойное расстояние и ползком подкрасться невозможно. Я убил её на Большом озере. Она охотилась за мальками на мелководье под берегом, прилегающим к пойменным буграм. Я там охотился за ходулочниками и чибисами. Пару штук даже успел подстрелить. Цаплю ту увидел в проеме камышовой стены. Вмиг отпрянул назад, за камышовую стену, чтобы не спугнуть её. Сердце, можешь представить, заколотилось, как заводное: меня словно шарахнуло молнией – я пронзительно почувствовал, что мне выпал СЛУЧАЙ, который бывает раз в жизни! Я или прямо сейчас убью из рогатки цаплю, или, вообще, никогда не смогу её убить. Потому как понял, что к ней из-за плавучего камышового островка вполне можно будет подкрасться на убойный выстрел. Сразу рассудил, что убить её смогу только прямым попаданием в голову, и с одного выстрела. Теоретически, конечно, мог бы и перебить ей крыло, но прицельно попасть в кость крыла – это невозможно. А потому взял с собой только одну гальку, самую лучшую, почти идеально круглую. Я её берег для особенного случая, и вот дождался…
Был полдень. Над головой, как помню, роилась мошкара… Её мелодичный звон обычно вводил меня в транс, и я шел, слушая его, покачиваясь, как пьяный. Теперь же, когда вмиг провалился в упоительный азарт, звон мошкары странно видоизменился и стал напоминать далекий шум морского прибоя, ритмично накатывающего на песчаный берег… Да и солнце отчего-то вмиг как-то поблекло, словно вдруг сразу после ослепительного знойного полдня наступили вечерние сумерки, когда солнечный диск спустился к горизонту и утратил режущую глаза жгучесть электросварки… Я снял майку, за пазухой которой держал отобранную для выстрелов гальку, свернул её комком и спрятал в разлапистом кусте верблюжьей колючки. Прямо тут же лег на колючую солончаковую землю и пополз на пузе к камышовому проему. Понятное дело, кололся и царапался (потом заметил на животе и ногах глубокие царапины), но ничего не чувствовал. Наверное, со стороны был похож на варана, ползущего на водопой.
Но перед тем как заползти в воду, я, чтобы освободить руку, одел рогатку на голову так, чтобы её кожа оказалась на макушке, а рогачек на подбородке, под самым ртом. Если намочится, то только ручка, главное, чтобы сухой оставалась резина и кожа. Единственную гальку, понятное дело, взял в рот: больше её негде было держать. В воду сполз тихо, прижимаясь к правой стороне камышового проема, морщась от уколов об острые поломанные или согнутые тростинки. Тем не менее сполз бесшумно, и тем более – не подняв волн. Миновав камыши, повернул сразу направо, в противоположную от цапли сторону, чтобы она не насторожилась. И чтобы окружным путем добраться до плавучего камышового островка, из-за которого собирался подкрадываться. А когда углубился настолько, что можно было поплыть – поплыл, чуть отталкиваясь от рыхлого илистого дна ногами. И все это время на цаплю не смотрел: опасаясь, что она почувствует моё внимание и насторожится. Даже когда с дальнего берега озера стал заходить за плавучий островок, все равно поборол в себе искушение посмотреть на цаплю. Ведь вполне могло быть, что она, заметив меня, давно уже улетела, а может быть – улетела и просто так, сама по себе. «Но ежели улетела – значит, улетела, значит, не судьба», – подумал я тогда и не посмотрел-таки в её сторону. Зашел за камышовый островок, и, хоронясь уже за него от цапли, пошел по дну, проваливаясь едва ли не по колено в рыхлый ил. На подходе к островку, за десять метров до него, снял с головырогатку, вынул изо рта гальку и вложил её в сухую кожу. Затем для пущей маскировки наложил венком на лысую голову желто-бурую тину. И на изготовку стал приближаться к островку вплотную. Но только теперь решил посмотреть через тонкие камыши островка на месте ли цапля.
Она была на месте… Она, подтянув одну длинную ногу к туловищу, мирно отдыхала. Может быть даже дремала. Отчетливо помню, что глаз у неё был чуток прикрытым. А серый хохолок на гладкой маленькой голове чуть шевелился. Возможно, мне это показалось, потому как ветерка тогда вроде не было. Её тяжелый длинный острый клюв выглядел солидно, словно это был вынутый из ножен здоровенный охотничий нож. Сердце у меня заколотилось так сильно, что виски, казалось, превратились во внутренние колокола. Помню четко, что пот в мгновение залил лицо, следом обильно вспотела спина, и даже та её часть, что была под водой, стала потеть, как будто в бане. От пота больно зарезали глаза. Смахнув мокрой ладонью пот с ресниц и бровей, я наклонил голову и, широко раскрыв рот, стал ожидать, когда успокоюсь и обсохну. Я не знаю, откуда у меня взялись силы суметь сдержать себя, находясь в восьми метрах от цапли. Но потом вдруг на меня нахлынуло какое-то совершенно неожиданное равнодушие. Мне стало все, как говорится – бир–бар. Я перестал потеть, сердце перестало биться, словно исчезло куда-то. Для пущего форса я подождал еще пару минут, пока обсохнет пот на лице и спине. Потом спокойно распрямился, чуть отстранился в спине и, увидев вновь цаплю через редкие тростинки, прицельно подвел прорезь рогачка, словно мушку ружья, под птичью голову, уверенно натянул резину и выпустил из пальцев кожу…
И ничуть не удивился, и даже не взволновался от радости, увидев, как цапля на моих глазах обмякла, и, будто в замедленной киносъемке, обронила голову на заламывающейся длинной гибкой шее, раскинула крылья и завалилась набок. А я, будто убил своего пятисотого воробья, спокойно вышел из-за укрытия и пошел к добыче, не заботясь теперь о бесшумности и поднимая ногами волны. На ходу сбросил с головы ненужную теперь высохшую тину. Взял в руки теплую тушку цапли и напрямик направился к камышовому проему, держа высоко над водой в одной руке рогатку, в другой убитую цаплю. Голова её раскачивалась на длинной шее, как на веревке, словно маятник, и длинный тяжелый клюв, касаясь острым кончиком воды, окрашивал её, словно фломастер, в слабый розовый цвет…
Агамурад резко замолчал, будто осекся, будто увидел что-то неожиданное и ошеломившее его. Хотя чувствовалось, что он вошел в азарт рассказчика и не собирался останавливаться. И это действительно было так. Он, опережая произносимые слова, отчетливо видел в своем воображении калейдоскоп ярких картин, вспыхивающих круговертью в его памяти. И обязательно рассказалбы, какое он тогда устроил пиршество для поселковых пацанов. Как, чувствуя себя взрослым человеком, он на задах у старого полуразрушенного кирпичного завода неторопливо и обстоятельно ощипывал цаплю от длинных пушистых серых перьев. Как развел небольшой костерчик из сухих веток тамариска и черкеза, от которых сначала пошел бесподобно ароматный белый дым, а потом образовалось небольшое, но очень жгучее пламя. И как держа добычу за длинные крылья и лапы, опаливал жиденькое тельце, поворачивая его то одним боком к жгучему огню, то другим. Кожа тушки на огне магически шипела выступающим жиром и стягивалась. А когда тушка сделалась компактной и равномерно почерневшей, он тяжелым отцовским охотничьим ножом почистил её от прилипших угольков и золы. И прицельно одним ударом отрубил сначала от неё неощипанную птичью голову с длинным развевающимся от прохладного ветерка хохолком, а потом и длинные жилистые зеленовато-коричневые лапы с тонкими слегка перепончатыми пальцами.
Потрошить опаленную тушку пошел на канал, чтобы сразу же и помыть выпачканные кровью руки. И когда делал это, решил подарить поселковым пацанам взрослый праздник – приготовить из цапли плов. Маленький казанок, репчатый лук, морковь, рис и полбутылки хлопкового масла он взял у себя дома. Бердымурад принес с собой посуду и две большие, завернутые в халат, только что испеченные в тандыре лепешки. И когда их ломали на куски, приятно грели пальцы, а их запекшаяся корочка одуряющее вкусно хрустела на зубах. Сережа захватил с собой в авоське зелень: петрушку, укроп, кинзу и, конечно же, свежие овощи: помидоры и огурцы, что нарвал прямо с грядок своего огорода. А Никита и Вадик, поглядев на такое дело, побежали домой. Достали из заначек личные деньги и купили в магазине по бутылке дешевого крепленого вина, а для пущего форса еще и баночку шпрот.
Плов на правах хозяина готовил Агамурад. Это тоже был самый первый плов в его жизни. Агамурад прежде только наблюдал, как его готовил отец, и кое-когда помогал ему, подкладывая сухие дрова черкеза под закопченный черный казан. А теперь он сам, не доверяя это дело никому, вырыл отцовским охотничьим ножом в земле очаг под казанок. Сам развел под ним огонь, сам вылил в него масло, и, разогрев его до пышного кипения, стал жарить в нем разделанную на мелкие кусочки добытую им тушку дичи. А вот чистить и резать репчатый лук, а затем и морковь доверил-таки Бердымураду… Сережа, помыв овощи и зелень, готовил салат, Никита и Вадик оживили костерчик, на котором Агамурад опаливал цаплю, и кипятили на нем в пузатой тунче чай. Все это делалось по-взрослому неторопливо – немногословно и обстоятельно… Поселковые пацаны впервые в своей жизни чувствовали себя полноценно взрослыми людьми и старались как можно глубже переживать это долгожданное солидное чувство…
Но ничего этого Агамурад рассказывать так и не стал, хотя ему очень хотелось заново попереживать те незабываемые сладосные минуты приготовления своего первого в жизни плова из первой добытой им солидной дичи. И замолчал он, хотя чувствовал, что друзья ждут продолжения рассказа потому, что вдруг во время воспоминании об охоте на цаплю его неожиданно осенило. Вспоминая о том, как тяжелый клюв капли безжизненно болтался на длинной гибкой шее из стороны в сторону, задевая острым кончиком воду и окрашивая её в розовый цвет, Агамурад увидел в своем воображении, как этот клюв превратился в длинный нож. В тот самый нож, который ему привиделся, когда он слушал Сережин рассказ о таинственном сновидении. И этот превратившийся в нож клюв цапли так же болтался, как маятник: качнувшись влево, он сделался похожим на отшлифованный беззубцовый штык остроги; качнувшись вправо, становился плоским и тонким… И тут Агамурад понял, что в правой позиции нож из колющего штыка превращается в режущий инструмент, которым срезают поверхность пчелиных сот, прежде чем поместить их в медогонку. И тут Агамурада осенило: это ему ОТТУДА подсказывают, что он, когда настанет время прощаться с острогой, вполне может стать пчеловодом. И быть им до глубокой старости, и тем самым сохранить в себе свою главную в жизни способность – входить ТУДА.
– А ты знаешь, что я сейчас подумал? – После большой паузы, улыбаясь, обратился к Сергею Агамурад, – Твой отец ведь тоже знает вход ТУДА. Я как-то забрел к нему на пасеку. Мы попили чайку, поговорили, впрочем, не о чем. Он спросил, куда я собираюсь устраиваться работать? Я тогда только что вернулся из армии. Ответил: не решил еще. Не скажу ведь ему, уважаемому в поселке солидному человеку, что намерен остаться, как и был до армии – браконьером. Он помолчал задумчиво и сказал: а заведи пчел. И добавил, что мол, может пару ульев продать мне по дешевке, да и поучить пчеловодскому делу. Мне тогда показалось, что он предложил это просто так, ради вежливости. И я ради вежливости тоже не стал категорично отказываться. Сказал, подумаю. И он тогда предложил: а пойдем, я тебе прямо сейчас и покажу, как живут пчелы. Не забоишься? Я засмеялся: это я-то и чего-то там забоюсь? Ответил: пойдемте. Он хотел дать мне свою защитную маску, но я отказался. Он опять улыбнулся и сказал: ну, как знаешь… Подходя к ульям, я как обычно бывает на охоте, вошел ТУДА. И увидел, что отец твой тоже – ТАМ. Я почему-то не удивился, а только подумал: надо же и, работая с пчелами, оказывается, можно бывать ТАМ. Потом заметил, что отец твой может даже разговаривать с пчелами… Они ему что-то вроде говорят, и он им тоже что-то вроде отвечает… Интересно было, скажу тебе…
А что? Когда мне станет совсем стыдно голышом лазить по болотам и озерам, пойду в пчеловоды… Может быть, даже напрошусь в ученики к твоему отцу… Кто знает, кто знает: это ведь уже четко прослеживается, что одно плавно переходит в другое. В детстве мы входили ТУДА, играя во всякие игры; в раннем отрочестве – когда охотились с луками, правда, почти безрезультатно; в зрелом отрочестве – когда стали стрелять из рогаток мелкую, но таки дичь: горлинок, жаворонков, дроздов, куликов. В юности – когда стали охотиться на рыбу с отрогами. А ведь смотри, нужно опять огромное спасибо сказать Алеше Кононову. Это он следом за рогаткой усовершенствовал острогу. До него, понятное дело, люди тожебили сазанов острогами. Но – варварским способом, когда бывал икромет, и сазаны, метая икру, стадом выскакивали на мелкие места, чтобы потереться о прибрежные заросли. Алеша превратил острогу в настоящее орудие настоящей охоты. Во-первых он стал делать трезубые отроги, а потом и вовсе – без зубцов на тонких штырях, чтобы не разрывать сильно рыбу. Ведь все равно, пробив ими рыбу, прижимаешь её ко дну. И пока она на остроге, надеваешь на кукан. Но главное, Алеша стал первым охотиться за чмокающими сазанами. А они чмокают, считай и весной, и летом, и осенью… И такая охота не каждому по зубам.
А потом, едва нам исполнилось по шестнадцать лет, мы все приобрели настоящие ружья. И когда шли стрелять уток на утренней или вечерней зорьке, заведомо знали, что идем ТУДА. А Никита, вообще, стал ходить ТУДА с охотничьим ружьем в четырнадцать лет. И его нашенские взрослые охотники признали за своего. Хотя ему нужно было еще два года расти до паспорта, и, понятное дело, до охотничьего билета. И признали не потому, что он выглядел старше своих лет: он телом такой же щупленький, как и мы все. Его признали потому, что он стрелял из ружья уток и лысух так, что никто из взрослых в поселке не стрелял. Я был несколько раз с ним на зорьке. Ему в этом отношении повезло. Дом его на берегу озера. Спустись с пойменного бугра и стреляй налетающих по заре уток. Понятное дело, взрослые занимали лучшие места на озере, и у них были там свои засидки. А мы с Никитой хоронились за разлапистым гребенчуковым кустом. Куда утки налетали редко, да и те, которые налетали, были напуганы до смерти от выстрелов и носились они, как артиллерийские снаряды – стремительно и молниеносно. Но если налетали-таки на убойное расстояние, Никита их сбивал. А если налетали не поодиночке, а растрепанной стаей, то он стрелял дуплетом и сбивал сразу двух уток. Первая – наверняка: она падала комом, заламывая голову и крылья, и почти нам под ноги. Вторая могла быть подранком, но это тоже редко, обычно – тоже падала наповал, но чуть подальше, в камыши. Взрослые охотники даже отечески шутили, что за Никитой лучше не становиться: все равно не пропустит ни одну утку… А я тогда наблюдал за ним и балдел от него. Он так преображался, что казалось, будто ружье – дополнительный орган его тела, будто он родился с ним, как с руками и ногами. А порою даже чудилось, будто он и не человек, а вот такое вот живое ружье, которое умеет само ходить и думать. Понятное дело, что он ТАМ и был таковым, как и я, входя ТУДА, автоматически превращаюсь в живую думающую острогу…
Агамурад замолчал. Но чувствовалось, что он свою мысль не завершил, и теперь подыскивает слова, чтобы договорить её. Однако, похоже было, что это дается ему с трудом: что-то не пускает его думать дальше, упрямо и настырно противодействует. И он никак не мог взять в толк: что же именно ему противодействует и, главное – почему? Эта внутренняя борьба неожиданно для него вывела его из благостного душевного состояния и ввергла в раздражение. Но, удивительное дело, в раздраженном состоянии он сразу же отыскал нужные слова, и заговорил:
– Но я вот что не понимаю. Ежели детство естественно перетекает в отрочество, а отрочество в юность, а юность, понятное дело – во взрослую жизнь, то тогда все взрослые должны уметь входить ТУДА, как, наприме это умеет делать твой отец. А ведь таких людей в поселке, как твой отец, еще пару человек и все. Остальные забыли уже, что в детстве наверняка входили ТУДА, и им ТАМ быть нравилось. А на тех, в частности, на меня, кто до сих пор способен входить ТУДА, словно из одной комнаты в другую – смотрят как на сумасшедших. Да и не нужно далеко искать примеры. Взять нашего с тобой друга детства – Бердышку. Он ведь, голову даю наотрез, умел, как ты и я – входить ТУДА, а теперь – разучился. Почему? И мало ему этого, у него теперь навязчивая идея: и меня тоже отучить входить ТУДА…
Говоря это, Агамурад невольно кинул взгляд на идущего рядом Бердымурада и осекся, увидев, что тот как-то странно улыбается сам себя. И похоже было, последних слов, относящихся к нему лично, он не слышал. Агамурад непроизвольно вгляделся в друга детства попристальнее и тут же отдернул от него взгляд, заволновался, потряс головой, и постарался напрочь забыть то, что увидел и особенно то, что ему вдруг пронзительно почудилось. А едва оправился, заговорил с Сергеем совершенно другим тоном и совсем о другом:
– Но вот смотри. Как ни раскладывай: а все равно получается, что входить ТУДА можно на природе, то есть в сельской местности. Как же ты можешь жить в городе, обходясь без ЭТОГО? – И не дождавшись от Сережи и ответа, сам же и предположил его ответ. – Хотя я слышал, ты пишешь там что-то. Рассказчик из тебя, это я знаю – бесподобный. Наверное, ты такой же и – писатель. Но тогда мне вот что скажи: а когда ты пишешь, тоже входишь ТУДА?




