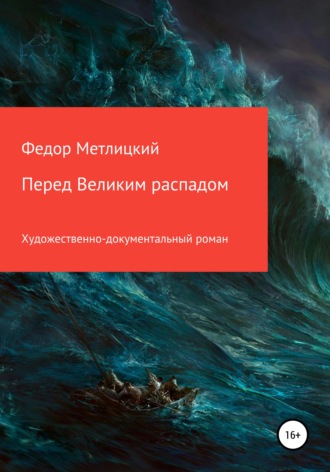
Федор Федорович Метлицкий
Перед Великим распадом
13
Представителей общественного движения «За новый мир» пригласили на партконференцию района. Там царила атмосфера приближающейся катастрофы. Сидя в президиуме, озабоченный грузный секретарь райкома предлагал:
– Главное сейчас – вопрос о власти. Нельзя уходить от экономики. Нужен упор на территориальные ячейки. Ведь нет других сил, те себя уже показали. Значит, надо опираться на низовые парторганизации
Рядом приглашенный член ЦК нахохлился:
– Противник захватил власть, но оказался слаб. В другие партии мало идут. Надо использовать!
Из зала откликнулись:
– Никто не знает, сколько на парткорабле гребут к социализму, а кто – к капитализму. Надо размежеваться.
– Гнать надо пассивных! Пусть уходят.
– По месту жительства нас никто не знает. Нужно обязать коммунистов участвовать не только по производственному принципу, но и по территориальному. Тогда не будет уступок демократам.
– Парторганизация потеряла власть в районе, перешла в оппозицию. А значит, оценка нашей работы неудовлетворительна.
– Сегодня наблюдается отрезвление у населения. Надо воспользоваться – не слабостью, а реальным положением дел.
Встал руководитель силовых органов:
– Милицию порочат, хотя инсинуации не оправдываются. Милиция гибнет! Нет в ее рядах перестройки.
От имени ЦК ВЛКСМ выступал мой приятель, перезрелый комсомолец Матюнин, он был испуган:
– Многие комсомольские лидеры растаскивают собственность комсомола. На Ленина свалили все недостатки. То же происходит и в партии. Я голосовал за ленинскую коммунистическую. Нужны новые модели организации молодежи. Хотят менять название, но мы, ведь, не знаем иного стратегического пути, а менять название – многое можно тогда поменять.
Выступали с мест. Ректор института был встревожен.
– Как со стипендией студентов, если цены по прогнозам будут расти в 2,5 раза? А куда им устраиваться на работу? В новом году не будет финансирования – и в науке, и в отраслях. Научные коллективы создавались десятилетиями, а развалили сразу. Нужно не покупать технологии, а – инвестиции в науку.
В общей тревоге слабым писком прозвучали слова чиновника, ответственного за культуру:
– Ужасное отношение к культуре! В нашем районе двадцать организаций по культуре и искусству: Литературный институт, Центр Грабаря, цирк, Дом художников. Культура всегда идеологична. Наступление на культуру: налоги, даже на землю, на художников, на продажу картин за рубеж. Выбрасывают из мастерских художников. Базар около Третьяковки. Ужас!
Представители Совета директоров производственных предприятий были требовательны:
– Вопрос не о власти! Партия обязана заставить нашу систему работать эффективно. Войти в структуры советов, доказать практикой нашу эффективность. Главное, наша полезность, достижение устойчивости в экономике.
В заключительных словах грузного секретаря впервые впервые звучала человеческая искренность:
– Уход партии с политической авансцены не был продуман. Придется переносить и покаяние, и искупление.
Странно, коммунисты призывают к согласию. Скрытые причины: в этом их политическая выгода. Везде власть – еще у них. И можно сыграть на согласии.
14
1991 год
По телевизору показывали траурный юбилей похорон Ленина. Сцена беззаветной отдачи людьми себя, своих мыслей кумиру эпохи, словно в массах найден выход, облегчение, и не надо было уже напрягаться думать. Какое же чувство будет у массы, когда, наконец, сбросят административно-командную систему, всю эту проклятую колею, обузу, и наконец настанет полная свобода?
Я с удивлением прочитал в «Литгазете» слова Фазиля Искандера: Ленин боролся против трех китов мирового духа: религии, культуры, морали. То есть против разума человечества. Эксперимент: родина обойдется без разума. В его книгах – лишь ненависть.
Его слова дальше меня задели – в них было что-то против моего романтизма: у государства – бешенство мечты, графоманское. Немедленно! Хоть с пьянством покончить. Воспаление мечты связано со страхом перед реальностью. Власть призывает народ стать поэтами, жить будущим. Но у народа своя генетическая задача – улучшать условия своего самосохранения. Хотя сейчас этот инстинкт серьезно поврежден. Дело поэта покинуть государственный департамент оппозиции. Его дело – помочь Акакию Акакиевичу полюбить жизнь, а там он сам за себя постоит.
По телевизору показывали Юровского, палача царской семьи. Он жаждал, чтобы не отняли пальму первенства в убийстве семьи царя. Для него это – пик жизни.
____
Мы подозревали, что нет денег – на существование целой нации.
И от рассказов осведомленных в правительстве людей ощутили перед нами бездну. Президент Горбачев убеждал западных коллег в необходимости предоставить экономическую и финансовую помощь Советскому Союзу: «нужны десятки миллиардов и политика взаимодействия при выходе такой огромной страны в новую систему… Речь идет о таком проекте – изменить Советский Союз, чтобы он достиг нового, иного качества, стал органичной частью мировой экономики, мирового сообщества не как противодействующая сила». Западные политики, получившие немало выгод от его внешнеполитических инициатив, прохладно отнеслись к отчаянным призывам, не пришли к нему на выручку. Все ограничивалось лишь одними обещаниями, под конкретные условия.
На иностранные кредиты Горбачев мог рассчитывать только в том случае, если бы он привез с собой программу. «Вот первое: завтра я разгоняю КПСС, коммунистическую идеологию запрещаю. Второе: такого кабинета министров тоже не будет. Союз распускается. Ну, и самое главное: да, я строю капитализм».
Президент разрывался на части, пытаясь подписать союзный договор, спасти реформированный Союз от «предателей и изменников, неуемно жаждущих только единоличной власти». Он предупреждал, чтó произойдет вследствие разрушения созданной предками многовековой империи: начнется вакханалия и передел мира, семьи разорвут на части.
Соратник Горбачева Шеварднадзе был встрепан, как перед близкой угрозой неминуемой героической смерти: есть правые силы, готовые сделать диктатуру! Это мы чувствуем ежедневно.
И вот это грянуло! Угрюмая ведущая в телевизоре объявила о чрезвычайном положении в стране. Власть взял Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В августе 1991 года произошел путч – с целью не допустить подписания союзного договора. Снова вылезло мурло прежнего застывшего времени, что могло уничтожить меня вместе с нашим Движением.
Увидели на улицах вооруженных солдат. Говорили, что военным поступила команда готовить операцию по задержанию Ельцына на его даче в Архангельском. Спецназ оцепил его место жительства, но почему-то команды на задержание не поступило. Спецназ блокировал Белый дом, куда перебрался Ельцин и его сторонники.
Запертому путчистами во время отдыха в Форосе Президенту СССР Горбачеву удалось вылететь в Москву вместе с Раисой Максимовной. Он вышел из самолета бледный и растерянный.
Мои соратники преобразились, услышав отчаянно смелую речь Ельцина с обращением к гражданам России: «Мы считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют СССР перед всем миром, подрывают наш престиж в мировом сообществе, возвращают нас к эпохе холодной войны и изоляции Советского Союза. Все это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет (ГКЧП). Соответственно объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета».
Потом увидели знаменитого музыканта Мстислава Ростроповича. Спешно вернувшийся из-за границы, сбежав от родных, он появился в Белом доме вместе с защитниками Белого дома с автоматом в руках. Со слезами на глазах услышали его слова: «Какое счастье присутствовать здесь при переломе событий! Я посмотрел на этих людей в их глаза, и понял: теперь Россию не может победить никто. И то, что я увидел, мне дает силу жить».
По призыву Гайдара по телевидению мои соратники решили идти к Белому дому на защиту новой власти.
В море разлившихся по улицам людей – наверно, больше миллиона, кто-то восторженно спрашивал:
– Это новая революция?
– Нет, это потому, что разрешили.
____
Жена встала перед дверью:
– Не пущу! Там будут стрелять.
Я на дух не принимал путч, возвращавший к угнетавшему прошлому, и решился пойти на историческое событие – защиту Белого дома. Но колебался, не потому, что боялся массового расстрела. Если пойду защищать Белый дом, узнают участники нашего Движения и оно развалится, в нем и так разброд: одни тянут назад, к установлению порядка железной рукой, а другие требуют свободы. Я, как Горби, хотел охватить в объятиях всю пеструю профессуру и примкнувших к ней, чтобы идти к единой согласованной цели.
Или не верил, как верили все мои соратники, что это историческое событие будет реальным переломом эпохи? Только в голове раздавалась грозная поступь шагов командора, который сметет «души прекрасные порывы» людей с хорошими глазами. И никакие сегодняшние события не повлияют на эти шаги.
Позже я понял, что меня мучает совесть, и будет мучить до конца моих дней.
Друзья, придя в офис, рассказывали:
– Миллионы людей! – восторгался мой зам Игорь. – Окружили весь Белый дом.
– Такое чувство, что ты в кино! – изумлялся уставший и растрепанный Гена Чемоданов. – Абсолютно карнавальная атмосфера! Вот-вот произойдет что-то страшное, начнут убивать, и эйфория – не произошло!
– Взрыв вулкана! – припадал на левую ногу Толя Квитко.
– Второй Чернобыль! – ворковал Юра Ловчев.
Вот они, шаги командора! Я вдруг осознал неотвязный образ, возникающий в моей голове.
____
Появление на улицах Москвы танков вызвало протест у населения, это оскорбляло достоинство людей. Впервые за многие годы мы увидели пролитую кровь. Это было похоже на шизофрению. Жертвами путча стали трое молодых романтиков.
А был ли путч, поднявший население, на самом деле переломным в судьбе страны? Была ли это измена, по сути, всей верхушки руководства страны?
Я следил за начавшимся судебным процессом. Интересно, была ли дружба между ними, или неприязнь, как у меня с некоторыми сослуживцами? И удивлялся – дело шло к прощению. Доброта ли это следствия, или испугались, что расстрел поднимет волну расстрелов в республиках и регионах?
Это уже были не старые беспощадные поборники идеологии, сказались тридцать лет относительно мирной жизни после смерти Сталина. У них был страх пойти на кровь и жертвы среди протестующих. Основной зачинщик председатель КГБ Крючков, ставленник Ю. Андропова, увидел из окна лимузина бесчисленную толпу восставших, и понял, что армию использовать нельзя, и ГКЧП проиграл. А на допросах, как и вице-президент СССР Янаев, он говорил, что ничего не знает, «косил под дурачка». Министр обороны Язов, маршал Советского Союза, с дубовым лицом типичного служаки, отозвал войска из столицы. Он не носил никакого оружия, писал стихи, был удивительно наивен для руководителя такого ранга, добровольно взялся мыть пол камеры руками, без швабры. Он попросил Горбачева: «Простите меня, старого дурака».
Главнокомандующий сухопутными войсками Варенников в камере спросил у следователя:
– Какой у вас чин? Вам известно, что я нес Знамя Победы? И получил Героя за афганскую войну?
А дальше разговаривал записками.
Бывший председатель правительства Павлов был человеком отнюдь не недалеким, в камере попросил принести из дома двухтомник Витте. Он вызывал уважение достойным поведением, не стал просить прощения.
– Вы не знаете этих людей: Горбачев делает то, что ему взбредет в голову, а Ельцын – что говорит его команда.
Он жил в скромной квартире с казенной мебелью, единственной роскошью было огромное количество чемоданов с подарками в знак уважения – наборами дорогих спиртных напитков.
Я думал: если даже эти мятежники не посмели стрелять в людей, то значит, время изменилось.
Съезд народных депутатов РСФСР наделил полномочиями Председателя правительства реформ Б. Н. Ельцына. Большинство сторонников верило в реформы, но другие голосовали за то, чтобы Президент в условиях физического выживания страны «сломал себе шею», и тогда они разберутся с ним.
Съезд провозгласил суверенитет России.
Депутат, бывшая дальневосточная прокурорша Горячева цедила: если бы были тридцатые годы – вас расстреляли бы!
Советский и американский историк, эмигрант А. Янов воодушевился: Россия перед бурей! Есть еще время создать международный штаб переходного периода, способный определить форму и степень участия в нем мирового сообщества.
15
Профессор Турусов отдалился от исполнительного комитета Движения «За новый мир», вел свою игру. В Институте философии и истории привычные споры приобрели трагический оттенок.
Интеллигенты подняли вопрос об интеллигенции, как-то не осознавая, что говорят о самих себе. Общее убеждение было: в народе зреет мощный пласт национализма, а интеллигенция молчит. Полный развал России был полуторавековой мечтой интеллигенции – она всегда была в оппозиции сатрапам. Сейчас ее пассивная позиция перед коричневыми – страшнее большевизма. Бедность и горечь по утраченному величию – условия рождения фашизма.
Известный математик и философ-самоучка, защавший диссидентов, с безразличием мудреца возразил:
– Гонения интеллигенции на Пастернака были оттого, что тот проигнорировал ее жизненный принцип – подорвал доверие властей к интеллигенции, штрейкбрехер, и все они оказались в сомнительном положении. А Солженицын еще и перцем мог раны моральные посыпать.
Он высказывал выношенные мысли:
– Интеллигенция претендовала на реорганизацию общества по своим моделям, поэтому государство тотально преследует ее. Сегодня она получила возможность построения очередного светлого будущего. Но увидела несостоятельность либеральной идеологии, и стала перед проблемой кардинальной смены всех привычных культурных и идеологических кодов.
По его мнению, миф, что лишь власть мешает все устроить нормально, породил другой миф о всеохватывающей тотальной структуре в нашей стране. Тотальным общество не было, а лишь по отношению к интеллигенции. Все другие были гораздо более свободны. Тотальным государство было недолго, с 30-х до середины 50-х. Потом – это уже авторитарное общество, со слоем рационализированных и прагматических людей. КПСС уже стала прагматичной, готовой к европейским ценностям. Против этого слоя и пошла интеллигенция. Будет очередной поворот «красного колеса», новый идеологический ветер. Смятение, поиски виноватых приведут к распаду и вытеснению российской интеллигенции с социальной сцены. Произойдет перекодировка культуры, смена ценностной иерархии. «Высокая культура» освободит место массовой. И начнется процесс элитариации того, что было «высоким», породит элитарного интеллектуала. И лишь тогда начнется интеграция с западной цивилизацией.
Я читал подобные нападки на интеллигенцию в прессе. Она, мол, все возвела в статус идеологии. Юношеский романтизм и неумение увязать с возможностями. Убегает в элизиум – подальше от подлой жизни. Там формирует универсальные подходы, узурпируя функции Творца, увязывая с ролью реализатора. Поэтому западный принцип секуляризации власти и парламентаризм – не переваривается русским желудком. Если выходит реформатор – в среде интеллигенции рождается мститель. Политический, культурный инфантилизм. Благодаря упорному неразличению политической и духовной власти вновь и вновь возвращаемся к ситуации абсолютной сакрализации политической власти и тотальному режиму.
И никак не мог принять новую точку зрения на интеллигенцию, лишающую ее «божественного» смысла. Изначальное в ней – мечта об ином, справедливом мире. Это еѐ ум и знания прокладывают дорогу в будущее. Хотя рациональное, холодное – и в ней, и в других слоях родило бездушную тотальную систему. Может быть, это историческая реакция на неудачу эпохи Ренессанса?
Удивительно, но это были отголоски дореволюционных споров. Ораторы странно напоминали интеллигентов, изображенных Горьким в его эпопее «Жизнь Клима Самгина». В ней видны все тонкости вползания идеологии в души тогдашних людей. «Новый тип русского интеллигента», – думал Клим о большевике Кутузове. Я понимал: и тот устарел, как устарели дореволюционные интеллигенты, холившие свою личность, которых Горький, поборник коллективизма, искусственно и тенденциозно принижал.
Но теперь интеллигенты уже не казались мне сухой листвой в порыве революционного ветра, а личностями в заново переосмысленной эпохе, увидевшими в простоте убеждений большевиков – открывшуюся черную бездну.
Неправда, что всегда сомневающаяся интеллигенция неспособна взять власть, и в ней нет твердых убеждений, то есть решительного выбора, ибо она всегда ищет истину. И все же в моей голове тяжко шагала неведомая сила, которая вопреки нам все равно вывернет руль истории в одно и то же русло.
И вообще, нынешнюю структуру общества никто по-настоящему не знает. Да, есть народ, обыватель, верящий в мнения, подхваченные ветром революции, в накрывшую его диктатуру, несомую как ритуал. Люди встроились в систему не потому, что коллаборационисты, а что-то есть в такой жизни вынужденно необходимое людям – все живет в сотворении жизни и страхе ее потерять, и поэтому приспосабливается, делая что-то полезное.
Известный достоевсковед, член Межрегиональной группы депутатов, был суров:
– Степаны Трофимовичи – интеллигенты легкомысленные, болтливые, слабые, не умеющие ничего. Потому их злобно ругают новые циники и прагматики. Может, и я не люблю их, но не от злобы. А вот Петруши – люди дела и поступка.
Публицистка с лицом состарившегося ребенка критиковала советских продолжателей классиков. Литературная вина этого поколения – в подмене ценностей, вместо ожиданий нового дали нормативную колею. К. Федин быстро ушел с молодо проложенной тропы («Города и годы») на прежнюю ухоженную дорогу. Советские классики должны были войти в классику составной частью. Имитация – якобы, литература продолжается. Но Федина читали! Его герои, уверенные в прекрасном будущем, были на порядок тоньше, чем у других неоклассиков, с нормативной русской речью, что тогда была в цене (роман «Костер»). Советский читатель знал, что ждать от советского писателя – и другого не ждал. И это еще было радостью. Вырождение классиков выразилось в эпигонах с их толстыми романами «секретарской литературы». Только «Доктор Живаго» освобождал сознание современников.
Меня не утомляла классика. Что утомляло, так это повторение мыслей, вернее, устаревшие мысли, что наличествует у классиков. Хотя все в истории повторяется.
Бывшая лагерница, екатеринбургская историк-архивист, ядовито высмеивала сталинские фильмы («Падение Берлина и др.). Это фильмы голливудского типа: атмосфера социальной удачи (40-е – 50-е годы), должное поведение в должных обстоятельствах, идентификация с героями, в конце обязательная награда. Энергия социального оптимизма. Классические социальные сказки, лишенные тревоги, полные физических опасностей, утверждающие стабильность и ценность мира, возможность социальной удачи. Примитивность – закон жанра. То есть, общество было хоть и «зазеркальным», но оставалось человеческим, с набором социальных потребностей. Иную потребность стал обслуживать «Андрей Рублев».
Опасность киносказки не в ней самой, а в преуменьшении дистанции между ней и жизнью. Эти фильмы претендовали на уподоблении в жизни, стремились потеснить социальную жизнь, заставляя жить в сказочном пространстве, условном спектакле.
К концу 50-х настала иная эпоха соотношения знания и незнания, дозволенного и запретного, что привело к жесткому конфликту в мире ценностей, его неразрешимости. Не стало никакого социально одобренного пути к успеху. Советская «фабрика грез» заработала вхолостую. Успехи были лишь в изображении любовных сцен, то есть, в пространстве личности, а не в социуме.
Я молча восхищался изможденной старушкой с седыми остатками волос, падающими на лоб, стыдливо умалчивающей о своих страданиях лагерных лет. Но как быть с враньем? Примирением с дьяволом? Когда внушают мысль о нас как «перегное» для будущего человека. Это страшно. Человеческий дух лепят, как глину, но в нем все равно светит надежда, как бы ни лепили. Нужно ли мне смотреть на человека непримиримо, радикально?
Мужиковатый, с густыми бровями и бородкой кинорежиссер вмешался:
– Нам свобода не нужна, а – лишь бы заколачивать деньги. Кино – самое растленное из искусств. Партия переписала историю, а кино – ее внушило. Гении внушали! Уходить от обычного счастья – ради участия в эпохе. Готовность к растлению. Это сталинский мир создал миф. Время удивительной роскоши, счастливых лиц, залитой огнями Москвы. Да, нищета, разница в положении, но был, мол, и иной мир. А хватают и сажают – это не здесь. Хочу снять кино, как человек проходит через разные миры. Сталин дьявол, но про него не написали правды, как и про Павла Первого, историю которого писали убившие его.
– Из всех движений, – возбудился он, – выламывается свободная от всего культурная часть, в нетерпении стряхнуть все путы. На смену бесхребетному идеалисту-либералу приходит циник-бесхребетник. Либерализм сменяется нигилизмом.
Он говорил слишком серьезно, как будто был неспособен иронизировать:
– Распространилась эпидемия разоблачений, исповедей, кокетства с прошлым коллаборационизмом. Все, мол, сволочи, все бесы в тоталитарном мире. Люди любят свои грехи. Бесовщина забавна, почти мила. Какое там раскаяние – лишь бы покрасоваться на экране. Никто из идеологов еще не устыдился своей прежней роли растлителя. Никто не делает драмы из заблуждений своего ума, ложного пути. Ложь всех революций: они уничтожают только, якобы, современное зло. Само же зло, еще более увеличенным, берут себе в наследство.
Филолог и теоретик искусства, высокий, модно небритый, высказал вообще крамольную мысль:
– Культуру творит не народ, а интеллигенция. Взаимопонимание между искусством и народом – труднодоступно. Оно зашифровано, это, может быть, специфический путь интеллигенции к Богу. Бесполезно нести культуру в массы! Посвященных всегда мало, она элитарна. Почему человек должен платить за то, что ему непонятно, скучно? Люди готовы платить за массовую культуру. Зал чумеет не от сохранившегося плеча фигуры из фронтона Парфенона, а от рок-н-ролла и обнаженной груди. Не надо обличать масскультуру. Просто она обслуживает иную группу, большинство. Зрелище древнее искусства (соотносятся как мать и дочь). Культурная революция – чепуха. Кстати, наука – элемент культуры, и тоже очень трудно смотреть в ее магический кристалл. И она не нужна большинству, ему нужен миф. В масскультуре место науки занимает мифотворчество, астрология и проч. Она доказательств не признает. Раньше миф бы предзнанием, нынешний предпочитает сказку. Человек таков, и просветительство не поможет сложности культуры – в мучительном поиске резервных сил адаптации.
Философ-эмигрант с взлохмаченной редкой шевелюрой и пронзительным твердым взглядом на скорбном лице, подтвердил:
– Нужно то, что читает интеллигенция, культурная элита, ищущая в печатном слове то, чего нет на ТВ. Как передать на ТВ Монтеня, Чехова, Розанова? Газета должна быть дневником, journal человечества, а не заместителем подлинного знания.
Строгий писатель-фронтовик вздохнул:
– Интеллигенции трудно найти свою нишу. Она всегда была мало религиозна, а ее увлечение мистикой говорит об отсутствии культуры. Народ умнее, чем кажется, потому фашизм не пройдет. Слишком через многое прошли. Настоящие солдаты – окопники – никогда не были консерваторами. Они еще тогда поняли сталинскую жестокость, что такое коммунизм. Уничтожив интеллигенцию, мы остались без благородных и порядочных людей. Породили культ должности, власти, без нее – не человек. Вот все и рвутся к власти. Ложь всех революций в истории: они уничтожают только современных носителей зла – само же зло берут себе в наследство, еще более увеличенным.
Я вспомнил слова Булата Окуджавы, который однажды посетил наш Центр дискуссий. Фронтовики, с которыми он был вместе на войне, превратились в мрачную консервативную силу. Да, воевали, противостояли нацизму. Но не секрет, что их использовали как рабов. Мы увидели, что не совершенны, примитивны, ничего не умеем. Значит, еще вылечимся.
Да, как все повернулось! Ностальгия по себе прежним, по своему, якобы, совершенству.
***
На «круглом столе» нашего Центра дискуссий мы с моими соратниками с удивлением внимали спорам о судьбе культуры.
Представительный доктор филологии из Института гуманитарных исследований, вскидывая голову с разделенной надвое шевелюрой, несообразно осанистому виду взвизгнул фальцетом:
– Трагична судьба культуры! Ненастоящее образование, искусство, наука, – все стало полукультурой. Пропаганда насилия, рок-музыка, порнография. Пляс со скелетом – издевка над тайной смерти. «Развращение народа до себя» (Достоевский). Настоящая культура дорого стоит, и отдачи сразу не дает. Даешь подлинную интеллигенцию! Предлагаю общественному Движению «За новый мир» программу «Возрождение культуры».
Мне казалось, что этот доктор смотрит из своего непрочного положения директора НИИ, и страшится зыбкого нового. Я тоже из тех, кто завороженно смотрит в рот говорящему, отключив анализ. И тоже вижу все эти «полу-» чем-то чужим. Плохо понимаю новое искусство, поэтому вижу в нем кривляние, а не боль и поиски иного выхода. Оттого и рок-музыка кажется масскультурой.
Литературный критик, носатая и с усиками, тоже была в тревоге:
– Кончается великий роман художника и власти. И прогрессивные художники, жертвовавшие собой «ради истины». Вместе с освобождением слова и образа пала последняя преграда, отделяющая их от рыночной ситуации. Миновало «единство культуры внутри храмовой ограды». Она должна быть свободной от религии и этики. Искусство перестало быть органоном небесных истин, стало органом смятенной человеческой души, которая через искусство достигает самосознания, берет на себя ответственность за поиски. Сейчас надо сохранить связь искусства с судьбой человека, самого мира. Найти дорогу к небу.
Да, я всегда думал, что все идеологическое советское искусство – узко, и надо прорываться над, в неиделогическую высоту, поверяя ее глобальной иронией.
Художник-диссидент с впалыми щеками и густой бородой до груди, участник известной «бульдозерной выставки», тихим голосом выдавал откровения, обдуманные в тиши сидения на Западе:
– Наш гротеск карнавала помогает почувствовать трагедию не только сегодняшнего мира, но и всего мира в его прошлом и будущем, во всех его измерениях, во всех меридианах. И на Западе так же попахивает катастрофой того же сорта –моральной, эстетической, экологической. Наступление техники обездушивает мир.
Меня обрадовал мужиковатый, с бородкой кинорежиссер, он упирал на стиль. Не найдя в мире мифологической завершенности и гармонии, герой обретает эстетическую – краски веселой осени дают то, что не в состоянии дать Париж и прошлое. На место мифа как организующего начала нашей жизни водворяется стиль, придающий ей гармоничнсть другого качества. Мы пытаемся отвязать сюжеты от реальности, а надо лечить, возвращать вещам излучение и тайну. Для этого нужна альтернативность сознания.
Я вспомнил свои мысли о стиле, как самовыражении, – вопле страдающей души, а не пресных споров о соборности и личности.
Подслеповатый поэт-абурдист с крестьянским лицом бросил:
– Жизнь нельзя просто выбросить – это жизнь, пусть и мусорная. Ее надо оформлять этически, а не с избыточной ненавистью или отстранением (я – яхонтовый, а вокруг кошмар). Гораздо интереснее, что ты не общечеловек, а тутошний, советский. Уникальная страна, уникальный опыт – и он-то всем интересен.
Это был укор мне. Я думал об этом, но – как вырваться в этическое, когда попросту злюсь на иждивенцев? Как сделать чужое мне, ужасное – эстетическим? То есть, не переживать ужасное, а оценивать его со стороны. К политикам, обычным людям я отношусь слишком лично. Может быть, надо вырваться в другое измерение. Есть люди по профессии занятые небесным, и занятые земным. Как распутать этот узел, в моем положении?
Самоуверенный уперто-насмешливый музыкальный критик, с легкой небритостью лица, нагло развалившись в кресле, заявил:
– В американском роке человек раскрепощен, сбросил все путы. Главный инструмент – ритм, непристойные движения – протест против организованной религии, морали, родительских устоев. Эпатаж – величайшая сила сбрасывания чужого. Вольнолюбивый и радостный западный рок, и – наш рок, задавленный пороками нашей системы.
За столами возмущенно шумели. А музыкальный критик веско бросал слова в зал:
– Наш рок – от тотальной несвободы и тотальной неправды. Сугубо антигосударственное явление.
И усмехался:
– Но не волнуйтесь, сейчас наблюдается агония нашего рока. Его лишают нерва.
Пожилой литовский композитор, выглядящий холеным иностранцем, вздохнул и сказал с акцентом:
– Музыка, особенно поп-, молодеет, я уже чужой. Сейчас вакуум заполняет мусор, талантливые люди потакают низким вкусам толпы. Свобода – творите! И выставили товар одноразового пользования. Не надо путать свободу, подразумевающую личный выбор, и личную ответственность – с богадельней, где все хорошие и никто ни за что не отвечает.
Симпатичный молодой композитор-додекафонист удивленно заметил, что упадка в музыке нет. Новая музыка возникает на великом переломе культуры. Просто нужно ее открыть слушателю и позволить ему самому разобраться, что происходит в музыкальном мире.
У меня на даче, на втором этаже, я устроил выставку – прикнопленные к стене цветные картинки, вырезанные из иностранных и отечественных журналов, чтобы рассматривать их лежа на кровати.
Поражала картинка: широкое море, а посреди – огромный красный стул со спинкой, и с сиденья мирно прыгает вниз головой ныряльщик. В этом есть что-то, что меняет устоявшееся представление.
А картинка – единственная неизбывно одинокая светлая капля чистой воды в мрачном космическом безграничье, падающая в огромный, мертвенного цвета, океан, вызывает чувство последней катастрофы мира.
Рядом вырезки из журнала «Америка» непризнанного художника-авангардиста – утонченность световых вибраций, поток, в котором бурлит яростная энергия живописи, полет поверх барьеров. Его пейзажные акварели – световые потоки первозданных ощущений, с едва заметным касанием кисти. Агония экспрессии, и снова световое поле покоя.
Что это – выход в новые мировые горизонты? Расцвет нового искусства? Почему натурализм так люто зарубил это в мрачные годы? Из-за самосохранения некой окостеневшей глубоко внутри силы?
Я вспомнил, как с трудом достал билеты на выступление британской рок-группы «Пинк Флойд», заехавшей в нашу страну. Приоделись, Катя надела вечернее платье, как на солидный концерт.






