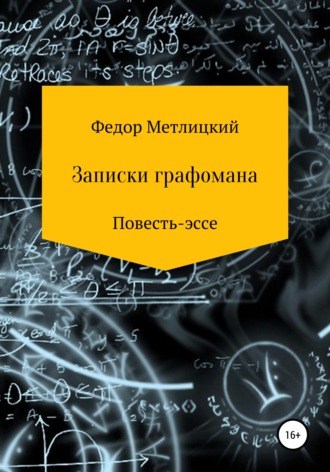
Федор Федорович Метлицкий
Записки графомана. Повесть-эссе
«Каждый хочет изменить человечество,
но никто не задумывается о том,
как изменить себя».
Л. Толстой
1
Зачем я пишу эти записки? Кому они сейчас нужны? В этом мире, разделенном на нации, угрожающие одна другой ядерным оружием, на большинство и меньшинство, на олигархов, средне обеспеченных, и на болезненно раскинувшиеся по нашей стране и миру бедность и нищенство.
Одни стремятся к безопасному и комфортному существованию, опасаясь изменений, другие рискуют, включаясь в борьбу за лучший мир. Профессионалы (узкие и широкие) взваливают ответственность на себя за поддержание жизни, а прилипалы искусно маскируются около них, раздувая щеки. Чиновники способствуют засорению отходами земли, под собою не чуя страны, а общественники-экологи беспомощно машут руками, нуждаясь в уплывающих мимо носа государственных ресурсах. Семьи забаррикадировались от соседей в своих квартирах, даже на одной лестничной клетке. Дети расходятся с родителями, не понимают друг друга. И, наконец, люди, разделенные в единстве противоположностей на мужчин и женщин, перестают сохранять это единство гендерных различий, воюя за свои права, за однополые браки.
Тем более сейчас, во время бушующей пандемии вируса «икс», которая не изменила, но еще более усугубила изоляцию человеческих страт. Мир распался на культурные резервации. Положительные эмоции и смыслы существования создаются только в среде себе подобных. Они создают свой круг, отдельный от внешнего зла. И только там сердце может вздрогнуть от горя, когда узнает, что сгорел от «ковида» один из «наших». Может, где-то есть и моя страта?
Любовь к своему, ненависть к чужому. Чужие – это на самом деле наивные искренние люди, просто живущие и радующиеся жизни; или непоколебимые патриоты, или хорошо устроившиеся в новой жизни бывшие оппозиционеры в молодости, изменившие соратникам из-за того, что поддались страху от падения великой державы, поневоле сами подталкивая ее к обрыву; или большинство – униженные и оскорбленные.
Если посмотреть иначе, люди разделены на две неравные половины: застывшие во времени, еще не созревшие до знания, что есть боль и страдание, и – ощутившие бег времени и боль расставания с близкими. Одни, опасливые к переменам, живут в мире вертикальных связей и во всем видят мировой заговор, другие – в мире горизонтальных связей, где живут всеядные люди мира, без родины.
Нужно ли пытаться соединять своих и чужих во взаимопонимании и сострадании? Чтобы как в семье, где люди могут проникнуть друг в друга так, что это становится близостью и любовью. Сочувствовать и жалеть всех, растворяясь в людях, видя в них свою настоящую боль, судьбу. Родину всех. Тогда остальное – установление справедливого распределения благ, приложится.
Если разделение людей будет продолжаться, то ответственность за состояние мира в целом развалится, и будет всеобщая катастрофа.
____
Меня всегда возбуждал вопрос: что – мне? Не нейтральному, а убиваемой судьбе? Не чем-то чужим – вот в эту минуту, а чужим – всей моей судьбе. У В. Пелевина вопросы еще круче: «Кто – я?», Где – я?», «Кто – здесь?»
Откуда во мне это беспокойство, чего хочу от мира?
Почему моя жизнь оказалась такой надломленной? Может быть, причина в нынешнем состояния общества, потерявшего национальную идею и смысл существования?
2
Я – выходец из советской системы, до сих пор, в XXI веке, с неустранимой темной сутью мечтателя о том, когда «народы, распри позабыв, в единую семью соединятся».
Я – оттуда, где первобытное племя на востоке было отрезано от других культур, кроме своей мистической фольклорной культуры. Отрезано от мировой культуры, литературы и искусства («Бстракт!» – презирали наши чужую культуру). Тогда невежество на окраине, вытирающей зады газетой, было естественным, не внедрено насильно, не то, что в более просвещенном центре, где дух был заперт диктатурой. И в моем детстве люди казались живущими в однотонном мире.
Я болен болезнью дикаря,
Вокруг которого – небо и море.
Как чистый лист,
первозданно восходит заря,
Но племя стоит,
затеряно в вечном просторе.
В молодости верил в романтические абстракции, в город Солнца. Тогда еще не читал догадки мыслителей, что эта вера на деле расчищала путь трупами чужих жизней – корень нашего жертвенного романтизма, не осознаваемый до конца и не описанный до сих пор. Романтизм родился в средние века, и выродился в пустые иллюзии, даже в мистику фашизма.
____
По типу мышления люди делятся на технарей и гуманитариев. Физиков и лириков. Так ли это, не знаю, ведь, многие технари пишут стихи и становятся бардами. У меня явно развито правое полушарие. Мою пустую душу естественно заполнили классики. Смотрю на них сейчас, на книжных полках моего кабинета-спальни, во всю стену. Пушкин, Достоевский, Чехов и другие, пробившиеся новые писатели, которые есть в библиотеках всех приличных интеллигентских квартир. Любимые авторы стоят обложками впереди, чтобы ласкали взгляд, когда просыпаюсь, а нелюбимые, плохие, спрятаны сзади. Когда открывал эти книги, не надоедающие тексты, от них исходила чудесная энергия. Правда, не понимал, как это им удается попадать в самое сердце читателя.
Думаю, что в моем воспитании было не только влияние любимых классиков. Что-то было во мне самом.
Жизнь моя началась,
как замысел вечности – с моря,
где жило первобытное племя –
пароходом, засевшим на скалах подводных,
и на берегу – дарами банок с томатной пастой,
и стеклянных шаров от сетей.
Я жил в не обычной для многих реальности. Как-то мы, школьники, всем классом совершали экскурсию – на катере выплыли из тихой бухты родного городка и очутились в океане, высадились на острове Буян. Там был райский пляж, над которым нависали сосны со странными широкими иголками-листьями вместо колючек, и вдали в бухточке стояли три высоких столба – утесы.
Вся усталость, когда карабкался на утес, исчезла. Когда удалось забраться на вершину одного из них, нам открылось нечто небывалое. Все тело трепетало, уходя в безграничную массу воды, казавшуюся неподвижной в светлой мгле, и одновременно текучей, как энергия. Вот-вот взлечу и унесусь в исцеляющую бездну.
На краю земли или в космосе –
Высоко над бездною вод,
В новизне небывалой утесы
Одиноко встречают восход.
Как народы, здесь травы склоненные
Жмутся вместе, а ветры метут!
Одиночество во вселенной
В новизну ли уйдет, в пустоту?
Только чайки парят над утесами,
Только ветер, лишь ветер поет.
Что ж туда – уже не вопросами,
А печалью неясной влечет?
Я шепчу: уте-е-сы, у-те-е-сы-ы…
И всегда возникает одно –
Вечный ветер, и травы причесанные,
Шепот вечности, не одинок.
Отсюда я видел целый мир. Это не мир иллюзии, не метафора, а реальность, что не знает голой предметности, не замечающей вокруг себя никого и ничего. Там нет бегающего глазами тщеславия, жадности слепого благоустройства, не видящего бездны. Реальная и притягательная энергия, в которой заключается все – и благоговение перед природой и жизнью, и глубокая печаль краткости, и боль потерь, и одинокий парус, ищущий чего-то в стране далекой, и неистребимая вера в бессмертие. Энергию океана можно изобразить словами, как что-то конкретное.
И много позже, когда засыпал, иногда, словно по мановению волшебной палочки, вставала иная, не обычная реальность. Стоял на высоком утесе, где шелестели никем не виданные высокие травы, и открывался океан детства, в его раскрытом безмолвии мира было все, о чем мечтал, и загадочная печаль.
____
Когда я приехал из провинции в центр и поступил в институт, то здесь жизнь представилась мне пресной, в которой недоставало чего-то.
В автобусе какая-то тетка, сидя с раздвинутыми в стороны толстыми ногами, спрашивала: «Как проехать к Матронушке?» И высадилась у могучего краснокирпичного здания монастыря-новодела, на кресты которого молилась большая толпа верующих. Наверно, ей больше некуда было пойти со своими семейными неурядицами.
На площади высилась большая горделивая елка, вся в цветных светодиодных игрушках, во дворах хлопки салюта, пьяное кружение гуляющих, – все это показалось мне проявлением детского незрелого сознания.
На улице люди в доспехах космонавтов бежали за убегающей группой людей, видимо, демонстрантов, били их дубинками. Мне тоже пришлось спрятаться в подворотне.
Поселился в общежитии, большом и многолюдном, студенты из моей комнаты сидели в ярко освещенном коридоре у двери на кипах книг и скучно зубрили учебники по скачанным из интернета экзаменационным билетам – это была ночь перед экзаменами.
Ярко освещенный широкий и длинный коридор не замыкался, был сквозной, проходя по всему периметру нашего этажа, и потому был очень уютным домашним местом для занятий прямо на полу и гуляний влюбленных парочек. Более того, парочки могли уединяться на пыльном захламленном чердаке под мощными стропилами крыши.
____
И я быстро забыл свой городок у океана, рыская вместе с приятелями в поисках любви и развлечений в ночных клубах. Гулял вдоль набережной реки с девчонкой, обнимал, прижимая гибкое тело к парапету, мучая ее и себя. Лихорадочно зубрил учебники – только перед самыми экзаменами. Я, одинокий нищий студент-провинциал, жил отчаянными надеждами, осиянными отблесками знания.
Внешняя, общественная жизнь, не внушала нам, студентам, большого интереса. Когда смотрели «телеящик» в комнате нашего общежития, в нем не было событий, которые нас бы интересовали, одни происки доминирующей мировой державы и «развлекаловка», или «жареные факты».
На «ток-шоу» яростные люди с ненавистными взглядами обвиняли оппозиционеров, представлявших угрозу их неплохому положению в иерархии общества. Это в отсутствие самих оппозиционеров, не могущих дать сдачи. Клевали только либерала, приглашенного в качестве мальчика для битья, – толстяка с модно не бритым лицом, когда-то занимавшего видный пост в прежнем правительстве. Он снисходительно смотрел, из неведомой высоты, на недоброжелательные лица, изредка пытался мощным голосом подавить неразумных, но его забивали криками.
Я чувствовал на себе наглую усмешку красотки ведущей, перебивающей противника наглым голосом. Странно, как влияет идеология на интерес к женщине! Брр… Мне было противно подумать об отношениях с ней.
Телеведущие в фирменных кителях и костюмах, осенив себя крестом перед невидимым милосердным богом, вели ток-шоу, заполненные распрями потомков известных людей из-за наследства, горестями разлученных семей, брошенных в младенчестве детей, по всей географии страны, видно, для поучения гражданам. Соболезновали страдающей молодой матери, брошенной мужем и изгнанной из дома и общежития, которой пришлось подбросить ребенка в детский дом. Наверно, в жизни, а не на экране, таких случаев гораздо меньше.
На экране были и жизнерадостные события. Показывали пионеров-участников военно-патриотического лагеря, они дружно пели:
Вы скоро, наверно, на Марс полетите,
Космический мир покорять.
Пожалуйста, нас с собой захватите,
Мы тоже хотим все узнать.
Мы просиживали часы за компьютером в кабинете информатики, получая сведения о мире в интернете. Там мир был разнообразным, независимые каналы и блоги казались более правдивыми.
***
Как и все иногородние студенты, я существовал на скудные деньги, которые исправно присылали мне родители на прожитие. Все еще не привык к новой реальности. Все удивляло, и поэтому все принимал. Как говорится, был вне политики, как эстрадные певцы и артисты, воспевающие любовные томления. Общество, требующее быть патриотом, мужчиной, воином-победителем и т. п., не мешало мне. Но не хотел, чтобы навязывали, как жить. Чего же хотел? Не знал, я был всеяден.
Меня почему-то увлек литературный кружок, который вел коренастый поэт в шерстяной кепке набекрень, под Маяковского.
Нас, бездельников, было много, пишущих о заре, полевых цветах, птицах в небе. Он поражал жестким выражением лошадиного лица:
– Ничего нейтрального нет! Посмотрите на лес, – показывал за окно. – Вообразите, что за ним… Освенцим. Какие у вас будут краски, настроение?
Я писал стихи. То есть изредка из меня нехотя выходили какие-то строчки, словно не мои, а кем-то надиктованные.
Сила воображения оживляется, когда задумываешься, сочиняя стихи. Стихами мог лучше выразить смутное видение: что – мне? Потому что перед глазами сразу возникала не картинка, а сама судьба, с тревогой и печалью глядящая в будущее. Все мое мироощущение – как на тарелочке. Органная мощь нутра, глубинное шевеление гениальности. Сложная ткань текста, а не что-то плоское, социальное. Дух рождается на вершинах мук и наслаждений.
Площадка поэзии – целый мир, а не мое конкретное место у книжных полок библиотеки. То есть, дело в «охвате всего», а не в изображении картинки.
У всех времен распахнута душа,
И в «формуле весны» грядет наука,
И сквозь пропеллера стрекозий шар
Дивишься, бездной кривизны испуган.
Так что, до мысли об изменении общественного устройства, о котором мечтали мыслители, я еще не дорос. Но чувствовал, что зависимая жизнь моей податливой натуры – это страшный удар – в самое сердце! – по человеческому достоинству. До сих пор испытываю странную ностальгию от песни «Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля…», обнаруживая в себе «совка». Во мне тоже сидит «дорогое прошлое». Перелеты наших летчиков в Америку, челюскинцы, Тимур и его команда, Любовь Орлова. И недосягаемые высоты подвига людей в отечественную войну, и полет Гагарина в космос. И в то же время море на окраине земли, классики литературы, раскрытый мир школьных друзей.
Это не расходилось со временем, и к тому же так ощущать его было безопасно. Но я уже чувствовал какой-то обман, и сердце было сухим.
Что-то здесь не так. Ведь, всегда хотел жить в «родине всех».
Я лимитчик без родины вечной.
Не она ли – бескрайний блеск
На краю земли этой вещной,
Там, где детства прозрачный всплеск?
Но давно распах изумрудный
Бухты детства канул в годах,
И в моем лимитчестве трудном
Что излечит, какой же распах?
Сколько было свободы простора
Уходить в бездонность стихов,
В безоглядном любовном напоре
И в отверженных зорях садов.
Жизнь неважно, наверное, прожил,
И не вышел в расправленный век.
Что мне надо? Лишь снятия ноши,
Тяжкой ноши на сердце у всех.
И в какие б ни канул свободы,
Все томит меня ноша, как грех —
Одиночество без заботы,
Что излечит лишь родина всех.
Почему моя жизнь отделена от жизни всех? Или единой боли всех нет? Может быть, мое одиночество – совсем не в метафизическом заторе сознания?
Редактор молодежной газеты упрекала:
– В твоих стихах есть что-то безвоздушное.
3
Окончив институт, я вышел в мир, раскрыв «варежку».
А на улицах шумел важный серьезный мир, выше моего понимания. Люди в основной массе, как и мы, студенты, мало обращали внимания на политику, на то, что делает власть. Человек в своей социальной жизни вложен в Систему. Вся страна живет в одной Системе, как во времена моих родителей. Все знали, что ее надо укреплять, и родная власть делает все, чтобы нас защитить от окруживших нас ракетами врагов. Хотя бродили зловещие мысли, что она нуждается в изменении, а лучше в полной замене. Почему бы в Системе не иметь места всеобщей близости и пониманию?
Люди жили настоящей жизнью, в своем обыденном сознании, – вне политики, радостями и заботами о своих семьях и родственниках, о продолжении рода в потомках. Сторонились или подлаживались под власть, обладающую дубинками насилия, что опасно или губительно для них. Люди казались немыслимо сложными в оттенках изворотливости, фальши, равнодушия, ненамеренной жестокости и тупости. Хотя было что-то детское в отношениях, как в двусмысленных шуточках по поводу притяжения полов. Был поражен, как простые и грубые интересы некоторых служивых людей открыто прикрываются преданностью родине, патриотизмом, защитой государства, осажденного врагами.
И все чувствуют нестабильность, переходящую в истерику. Тут не нужна поэзия.
Почему люди не хотят выйти за пределы своих обычных забот, обыденного сознания? Неужели это страх за свою жизнь, перешедший в стокгольмский синдром? Ведь, я ищу, потому что задыхаюсь! Во всяком случае, недавно искал. Зачем заставлять людей искать что-то еще? Гамлет говорил о бедном Полонии: «… ему надо плясовую песенку или непристойный рассказ, иначе он спит».
Короче, я столкнулся с обыденной реальностью, рациональностью мышления. Это была другая способность видеть, отличная от той не обычной реальности, которую испытал.
Я самонадеянно считал, что обыденное сознание, в отличие от моего, – это то, когда обыватель знает обо всем понаслышке, не интересуясь глубиной событий. В его душу проник лишь один источник информации о мире, который только и был доступен для него и переродил сознание – государственный «телеящик», и он, уверенный в его непогрешимости, отвергает альтернативные источники, например, интернет.
Один из представителей народа фыркал:
– Оппозиционеры? Они все предатели.
– Можно узнать, почему? – спросил я.
– Ты что, телевизор не смотришь! – грозно сказал он.
– Я интернет…
– Помойка – ваш интернет!
Избегание ответственности, унижение достоинства – мотив любой формы коллективизма (тогда я читал психолога В. Франкла, бывшего узника Освенцима).
Люди верят в иллюзии, идут ощупью не зная куда, и цепляясь за спасительные общие истины. Потрясения могут их убить, и потому им хочется только приятного, развлечений. Оттого они смешны и даже милы. Я почему-то сострадал и жалел наивных людей. Всегда страшился только тех, кто ведет их насильно, убежденный с своей жестокой правоте.
Давным-давно отодвинулись куда-то годы войны, когда люди были собранными, плоскими и однозначными, ответственными за страну, отлитыми из цельного куска стали. Если бы была война, я тоже был бы чистым и цельным, «пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать».
Люди расслабились, вспомнили о хорошей жизни, и захотели пожить, иметь блага, выбиться на другой уровень. Брать на себя ответственность, любить и ненавидеть, – слишком тяжело. Все приспосабливались, как встарь, иначе человек не выживет. Возжелали престижных вещей, удовольствий и развлечений, что дает развитие компьютерной техники, искусственного интеллекта, создание биороботов взамен себя, отчего теряется чувство ответственности за сохранение рода, развивается эгоистичность и лень.
И я такой же, хотя во мне есть красная черта, ниже которой не позволяет опускаться совесть. Хотя иногда не удерживался от мелкой подлости особенно когда изменял подруге, но потом всегда помнил, и при воспоминании обжигал стыд, как нечто постыдное и страшное.
Короче, мы лишаемся способности мыслить и трудиться. Зачем, если работу за людей выполняют машины, автоматические линии и роботы? Пусть это не отменяет неравенство в использовании ресурсов и уровня жизни таких, как я, нищий студент.
Как пишут ученые, в результате научно-технического развития снижается рождаемость населения. Человечество, избалованное комфортом, растеряет в оранжерейных условиях данный ему природный инстинкт продолжения рода. И дети, которые родятся к 2080 году, станут последними жителями Земли. Рождаемость снизится до нуля. Я не мог вообразить, как это? Любовь, а значит, и дети будут всегда.
Неужели когда-нибудь все закончится? И не нужно будет оставлять что-то после себя? Разве миллиарды умерших, оказавшихся сзади нас, и все гении истории, проложившие путь человечеству, не исчезнут вместе с планетой, которую может уничтожить пандемия, или сами нынешние поколения?





