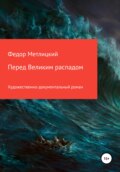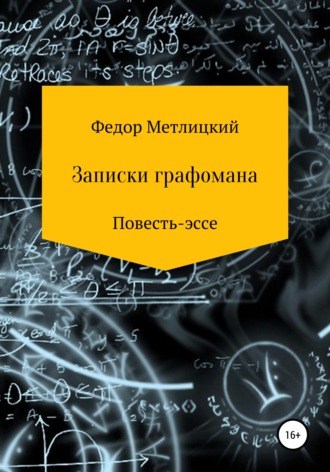
Федор Федорович Метлицкий
Записки графомана. Повесть-эссе
6
А за пределами моих устремлений вершилась жизнь.
Я стал работать в одной из общественных организаций, которую сразу при создании объявили международным общественным объединением. Тщеславие или способ выжить в конкуренции требовали называть организации межрегиональными, всенародными, переименовывать институты в университеты и академии, школы в европейские и специализированные.
В Совет объединения вошли люди с неопределившимися идеями, как у меня. Бывшие депутаты, политологи, руководители независимых партий и общественных организаций, – все те, кого отвергла официальная власть. Мне показалось, что тут не очень чисто, потому что тусовка, учреждавшая наше объединение, вынуждена была думать единым коллективом.
У нас толкалось много народу, хитрые и отчаянные, из разных союзов, фирм, кооперативов, даже из южных народностей, привычных к взяточничеству в виде гостеприимства. Сразу начались споры с агрессивными напористыми членами Совета, которые хотели стать директорами отделений, центров, издательства.
Меня закрутила необходимость вынужденной работы, хотя было желание находиться в гуще торжества общественных форумов. И будничные дни шли мимо того дрожащего зайчика света, в котором только и есть исцеление. Несмотря на разнообразные события и попытки что-то найти в книгах, до подлинно исцеляющего смысла было далеко.
Я писал проекты постановлений и решений Совета общественного объединения. По всей стране стали приходить просьбы от местных общественных организаций стать отделениями.
К нам приходили плохо одетые люди с идеями, в которых ощущался легкий оттенок безумия. Я был удивлен, что не один такой особенный.
Рыхлый человечек с непримиримым взглядом навсегда обиженного прибыл с проектом возвращения этики и прав человека в государственное управление.
– Исключили гуманистическое содержание! – зло кричал он на нас. – Задавлены науки гуманистического содержания! Вытравили ориентацию на индивидуальные способности детей и взрослых!
Христообразный армянин философ, два года без работы, развернул целый проект международного парламента («сделал открытие!»).
Доктор технических наук из развалившегося института пришел с предложением изготавливать экологические энергоносители для применения на пастбищах, вместо загрязняющих дизельных установок.
Студент заика скороговоркой предложил организовать конкурс на экологические технологии для сельского хозяйства.
Моряк из Калининграда зачитал петицию: выливают топливо в Балтику, невозможно терпеть!
Какой-то кооператив явился с замечательным устройством, делающим автомобиль экологически чистым, превосходящим электромобиль Илона Маска.
Немолодой фрилансер принес прибор для определения загрязнений воды.
Еще некий докторант Крузе предложил организовать центр экологической помощи.
Пришла даже дама с проектом конкурса на детский экологический рисунок.
Впрочем, я был рад встречам с такими людьми, они мне нравились. В них была возможность чистоты отношений, общность творчества. Что-то от меня: несмиренность и романтический замах на неосуществимое. Особенно понравились инвалиды, кормящие беспризорных собак. Они просили помочь связаться с магазинами и предприятиями, чтобы поставляли корм для собак, они варили еду у себя дома. Хотя их лица ничего из себя не выражали, но словно светились изнутри святостью.
Я влезал в разнообразные дела, разные мелочи по выпуску плакатов, календариков, заключал договора. Встретился с заросшим бородой художником Бурковским в его мастерской, с которым заключил договор на создание эмблемы нашего объединения.
Вскоре, из-за старательности новичка, взвалил на себя всю техническую работу. В междоусобной борьбе верхов нашей общественности я неизменно оставался их тягловой силой – исполнительным директором. Они свалили на мои плечи всю черную работу, пока красовались перед властью, на телевидении и средствах массовой информации.
Так не по своей воле стал руководителем. Власть свалилась на меня из-за неумения верхов работать, уничтожавших в борьбе за власть самих себя. Как говорят, революция пожирает сама себя, и победителями приходят негодяи.
Но я не был захватчиком власти. Само руководство чем-то глубоко противно моей натуре – надо было тянуть воз общественной организации, ставшей известным общественным движением, зарабатывать на хлеб, обеспечивая неумелых работников зарплатой.
В сущности, на работе я хотел решить тот же вопрос: для чего все это? Почему занимаюсь не тем, что хочу? А что хочу? У меня была та же идея творчества, что и в институте. Хотел внутренней честности и чистоты в целях организации.
Мои сотрудники, по-моему, были такие, как и я, чем-то интересовались, но не нашей работой. Одним мы отличались: я хотел из скучной обузы создать нечто творческое, захватывающее душу. Они, живущие своей жизнью, не выказывали никакой жалости к моим мучениям постоянно искать инвесторов, вытаскивать махину разросшейся организации из болота тянущих в разные стороны идей в другую, необычную реальность. И только злились на этого озабоченного аскета.
Наше общественное объединение, вернее я, назойливыми понуканиями сотрудников дирекции и убеждением организовывал выставки натуральной продукции предприятий – наших участников, конференции и форумы на разнообразные темы, от кризисов переходного периода до мистических идей Блаватской. Это был какой-то выход для моей жажды знаний.
Мы нанимали для этого залы заседаний разных учреждений, и просто площадки огромных пустых заводских цехов.
Приглашались ранее признанные авторитеты, а ныне ищущие, где бы засветиться лишний раз, чтобы не забыли. Известные раньше писатели, новые политологи высказывали разные точки зрения о нынешней ситуации в стране и мире.
На этот раз провели форум на тему «Понуждение насилием и естественные процессы» в заводском цеху.
Мы все почтительно кружились вокруг худого скромного старика с несмелым голосом, – общепризнанной когда-то, а ныне опальной «совести нации». В его лице с морщинками проглядывала красота благородных черт. Самое замечательное было то, что он глубоко понимал роль личности в обществе, и суть творчества. Только с ним я мог говорить о постороннем – внутренних переживаниях творчества.
«Совесть нации» тихим голосом говорил, что мы не изменились, лишь перелицевали старые догмы. Неуважение к другим. Потеря достоинства. Отсутствие исторического сознания и цивилизованного способа общения. Злобу сублимируем в лицах, сбрасывая Ивашку с наката, как у Щедрина. Сама способность доброжелательного внимания у нас утеряна. Идея справедливости понимается узко, как система распределения благ и ликвидация привилегий, а идея демократии – как право свалить власть.
– Политизация общества без культуризации и усвоения правового сознания, – это кулачное право, митинговые крики, – словно извиняясь, говорил он. – Спасительно одно: профессионализм в своем деле, что только и дает ощущение достоинства.
Политолог с липкими непричесанными патлами на лбу бросался на трибуну с ненавидящим взглядом убежденного деятеля.
– Нужно вернуться к «константам» – родине, патриотизму! – кричал он могучим балкам в вышине потолка. – Новая культура превращена в отстойник. Молодежь зачумлена. За сто лет лишились элиты в русском народе. А вот мусульманские народы не оторвались от истоков фундаментализма. Крапивное семя уйдет, но оставит кровавый след. Пока, после страшного рабства, нельзя давать народу полную свободу дикому народу. Безмолвствующее большинство не может высказываться само, забитое политиканами. Ему важна деловая организованность госаппарата.
Толстый либерал, наоборот, призвал ускорить развал «константы», вернуться к европейским ценностям. Соблазн коммунизма снимал социальный страх с человека, мечта о равенстве оборачивается новым рабством.
«Умеренный» политолог доказывал:
– Интеллигенция переоценила народ. Темную невежественную массу приняла за зрелых и развитых людей. Охлократию приняла за демократию. Это происходит во всем мире.
В таком состоянии общества, – рокотал он под сводами огромного цеха, – драйверы перестают работать, и вся надежда на национальные элиты, способные оценить ситуацию и найти пути дальнейшего развития. В мире торжествует теория конвергенции. Выигрывают те страны, которые выбирают лучшее и от того, и от другого. Все зависит от национальных элит и конкретного этапа развития. Южная Корея пыталась при одном диктаторе копировать Запад, и провалилась. При другом диктаторе учли национальные традиции и достигли уникального взлета. Перешли к демократии – все затормозилось. В Китае, который был в глубоком упадке, начали с взращивания предпринимательского слоя, а «гласность» отложили до иных времен. В России начали реформы с гласности и разгрома государства.
Вмешался непричесанный политолог:
– Оппозиционеры, – кричал он под странный шумок в огромном цеху, – получают известность за свои «подвиги» почти даром. То есть, не за счет попытки внутреннего духовного развития, а из-за тупых бросков на амбразуру и показных страданий жертвы. Что легче, чем изменить что-то в душе.
На него шикали, в шуме цеха слышались редкие хлопки аплодисментов. Меня это почему-то задело.
– Настоящими рабами стали твердокаменные оппозиционеры, окопавшиеся за границей, их погубила психология противостояния, политической конъюнктуры. Мещане и то сумели остаться людьми, с их свободным внутренним миром, как бы мелок он ни был. Эта реальность повседневного существования недоступна борцам. Великие поэты выходили из мещан.
Его освистали.
Бывший «совесть народа» в заключительном слове мягко упрекал ораторов. Достоевский понял, стоя на эшафоте: все революции ничего не стоят. Победа ли, поражение – приводят к эшафоту или тех, или других. Нетерпение в отношении к жизни есть форма неуважения к ней. Революция требует неукорененных людей. Все великие романы – романы покаяния от соблазна революции. Правда, Евгений в «Медном всаднике» бежал, и в этом было хоть какое-то действие. А сейчас наш человек сидит в кресле перед брадобреем, проводя добровольный эксперимент.
– Культура, как писал философ Мераб Мамардашвили, – это усилие и одновременно умение практиковать сложность и разнообразие жизни. Человек – это постоянное усилие стать человеком, состояние не естественное, а творящееся непрерывно.
Его слова отвечали моим самым сокровенным мыслям.
«Совесть нации» недолго слушал перехлесты в убеждениях членов нашего движения, и тихо ушел. Он скоро перестал к нам заходить, что-то ему не понравилось.
7
Мы с Катей были совсем разные, но это не мешало.
– Нам с тобой не о чем разговаривать, – говорил я, сидя с ней на кухне.
– Нет, мы просто молча понимаем друг друга. Под молчанием есть какая-то глубина. Просто выразить не можем.
Я смеялся:
– Какие могут быть разговоры при слиянии душ? Да, наши души где-то не здесь, они вместе в каком-то заливе любви. Там не надо слов.
Правда, и слияние душ начинает надоедать. Кроме, конечно, слияния тел, это не надоедает никогда. Испытывая миг наслаждения сексом, я невольно думал: а не прав ли маркиз де Сад, считая наслаждение целью человека? И почему люди накладывают табу на это?
Чтобы был диалог, нужно отделиться друг от друга, тогда становится видна разница в мировоззрениях – предтеча охлаждения друг к другу. И это нам вскоре представилось.
Наша жизнь с Катей стала представлять собой горячее сплетение борьбы противоположностей, высекающей искры страсти и непримиримых споров. Может быть, это и есть жизнь всех семей?
Мы смертельно обижались, если кто-то из нас проявлял невнимание. Я ревновал жену, если по утрам она забывала зайти ко мне в комнату узнать, сплю ли я или уже помер, или была холодна к моим объятиям.
Мы искали следы нелюбви друг в друге, какую-то нечестность в отношениях, и было облегчение, когда находили.
– Я так и знала! – торжествовала она.
– И я всегда предчувствовал, – вторил я.
– Ты меня не любишь, – открывала она истину.
– Это ты меня не любишь! – негодовал я.
Может быть, это опасение оказаться в горечи одиночества, напрасно прожитой жизни?
– Почему не целуешь? Не обнимаешь?
– Женщины любят духовно, – смеялась она. – Ушами.
– А мужчины – руками!
И кидался к ней.
– Почему так грубо хватаешь? Нет, чтобы нежно погладить по голове.
Я целовал ее ухоженные волосы.
– Видишь, целую тебя везде.
Она уставилась на меня.
– Тебе нужно от меня только одно.
Я воздерживался насильно ложиться с ней в постель. Может, действительно мне нужен только секс? А забота о любимой – вне моего интереса? И меня впрямь влечет только идиотское желание влиться в женщину, с ее широкими бедрами, чтобы выносить ребенка, с нежной грудью, пусть и не такой высокой, но той, что была в ее молодости, с ее обнаженными нежными бедрами выше колен, которых я бережно касался.
Природа придумала сексуальное наслаждение, чтобы неустанно продлевать человеческий род. Но зачем ей нужно развивать личность, мозги для познания себя? Зачем это лишнее усложнение жизни?
Человек всегда одинок, не может исцелиться даже в любви.
– Это не любовь, – упрямо продолжала она. – Просто ты боишься, что без меня пропадешь.
Я воображал, что после ухода тебя буду бродить один по комнатам, где сохраняется твой дух, и пытаться жить, кормиться, глотать те пилюли, что словно подставляешь мне ты? Это было невыносимо.
Она моя единственная семья, но всегда была отдельной, такой вот всегда далекой. Наверно, могла изменить, и это бесило, не мог до конца обладать ею. Хотя вот она, рядом, родная. Оттого такая боль возможного отторжения.
Казалось, испытывал ревность, какую-то общую мужскую ревность, независимо от конкретной женщины. Что такое ревность? «Беспокойное устремление к тирании, перенесенное в сферу любви, – как был уверен Марсель Пруст? – «Счастье благотворно для тела, но только горе развивает способности духа».
Я перестал метаться в разные стороны, понял, что заканчивать жизнь придется только с одной. Может быть, это какие-то объективные ограничения возможностей при старении, обрезавшие желания что-то искать на стороне.
Жена торжествовала с удовлетворением:
– Понял, что никому больше не нужен.
8
Катя часами трепалась по телефону. Я почему-то нервничал, наконец спрашивал:
– О чем так долго?
Она долго опоминалась, потом удивлялась:
– Ни о чем. Не вспомню даже.
Это был ежедневный ритуал потребности близости с родственными людьми. У нее в роду осталась одна тетя Марина. Катя всегда была среди людей, подруг, их родственников – дядей, тетей, двоюродных и троюродных сестер, близких и дальних. И завидовала самой близкой подруге, – та была единственной дочкой у папы и мамы, которые умерли в суровые годы, и сумела разветвить род: родила и одна воспитала дочь (отец сбежал), а та вышла замуж и тоже родила дочку, – и все они образовали целое родовое гнездо.
А я был приезжим, оставшимся после института в этом городе. И в сущности жил интересами жены и окружавших людей.
Но она становилась чужой, когда я, лежа на диване, торчал перед телевизором, сладострастно, по ее мнению, смотрел «обнаженку».
Официальное телевидение показывало ток-шоу: «Только у нас говорят свободно!», «Вжарь, Андрей!», «Наедине со всеми», «Правда, только правда на полиграфе!» Там «раздевали» классиков, попсовых знаменитостей, и простой народ, – они, оказывается, занимались харассментом и пьянством, избивали жен, выбрасывали младенцев из окна. Показывали счастливо красовавшихся на экране несовершеннолетних девиц, рассказывающих, как их насиловали, наивно выкладывая в своем блоге «онлайн». Как отдавали детей в детский дом, и через тридцать лет телевидение показывало встречу виноватых спившихся родителей с взрослыми красавцами детьми, ищущими свои корни…
Классики не могли дать сдачи, а остальные оправдывались или тупо молчали перед любопытством праведно выглядящих ведущих.
Это то, к чему всегда хотел приобщиться простой человек – к своему кусочку славы, узнавания его всем народом, и к тому богатому и лучезарному миру, в котором он никогда не жил, а только мечтал в прекрасных снах. Всегда безвестный, как миллиарды ушедших в могилу, не оставивши следа в истории. Что такое это желание подставиться под софиты бессмертия? Может быть, это страх остаться одинокими?
Нам страшна впустую прожитая жизнь. То есть, в стороне от общего интереса, без любви, делающей жизнь бесконечной. Это разновидность страха перед одиночеством, не только без родных, но и без людей вообще. Забвение – это убийство человека. Вот отчего люди стремятся хотя бы к маленькому кусочку славы.
Я же изо всех сил старался увидеть в кричащих друг на друга с мордобитием в эфире представителях населения глубинные смыслы бытования народа. Надеялся набрести на сюжет, единственный, который поможет выразить себя.
Хотя это могло быть и моим неизжитым пристрастием к обнажению в моих текстах, или просто сладострастным удовольствием. Я с моим натурализмом тоже вполне мог бы стать «обнажальщиком».
Но жена Катя просто ненавидела перетряхивание грязных простыней перед всем светом на каналах, игнорируемых интеллигенцией, не умея взглянуть на это со стороны. Наверно, у себя в клинике насмотрелась страданий больных, так, что не желала видеть это еще где-либо. Ей был чужд такой анализ грязи. Считала, что муж-провинциал любит подглядывать в замочную скважину на семьи, ссорящиеся и делающие друг другу пакости.
Она не терпела новые постмодернистские веяния. Не понимала, что это смена эпох, где «обнаженка» уже господствует, только и способная щекотать нервы уставшему, отчего-то теряющему энергию народу, и будет преобладать с переходом на квантовое информационное будущее.
– Это же твой народ! – возмущался я.
– Это не мой народ! – отрезала она.
Я считал, что нельзя отворачиваться от трагического фарса жизни, видел, вопреки консерваторам, как через мириады живших и живущих человеческих существ высвечивается движущийся живой гребень настоящего, и из живого мгновения уходит в неведомое впереди.
– Писатель, а тратишь время на ящик, – язвила жена.
– А что такое «зря»? Что полезно, дает чувство полноты? Работа в офисе, чтение, хождение в лесу?
– Выпей витамин.
Я смягчался.
– Вот сейчас вижу – ты меня любишь!
Она не считала серьезными ни мою общественную организацию с ее целями соединить чистоту действий и экономику, ни мои литературные изыскания.
Сталкиваясь с ней в коридоре или на кухне, я нарочито шарахался.
– Я тебя боюсь.
Она тоже мимоходом отшатывалась.
– И я тебя боюсь.