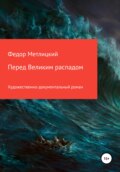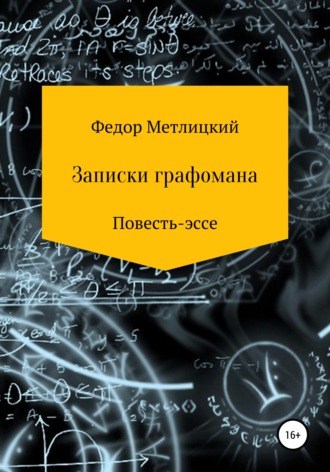
Федор Федорович Метлицкий
Записки графомана. Повесть-эссе
12
Мне казалось, что у меня много общего с тетей Мариной, сестрой матери моей жены и по сути моей тещей. Она была единственным родным человеком после смерти матери.
Она была больна, наверно, от старости и выпавших на нее несчастий. Лежала на привычном тюфяке, в оставшейся от умершей свекрови однокомнатной квартире, и не хотелось вставать и выходить в чужую тяжкую жизнь.
У нее был муж, полковник ФСБ, всегда уверенный в себе, как будто когда-то принял окончательные решения и следовал им, как приказам. С ним было как за каменной стеной, хотя ей не нравилось, когда он приказным тоном, при знакомых, обрывал ее бесполезную болтовню. И он утомлял постоянными домогательствами в постели.
Все началось с того, когда муж стал пропадать допоздна, а потом и ночами. Вдруг позвонила какая-то баба и ядовито сказала:
– Что, ждешь? Ну, жди, жди, корова.
И бросила трубку.
Когда он пришел, его дубленка пахла чужими духами. Это она, разлучница, попрыскала на дубленку своими духами. Особенно отвратительно было на душе за его выбор пошлой бабы.
Я видел его, когда выходил из очередного торжественного пустого форума в колонном зале. Из другого зала выходил он, сухой, с прямым носом.
– Ты как здесь? – удивился он.
– На торжественном форуме. А вы?
– Тут рядом, на собрании Союза офицеров.
Разговаривать не хотелось, и он, изобразив радость, быстро удалился.
До ужасной раны от ухода мужа она была любима. И после операции по удалению матки была уверена, что невозможность сексуальной жизни не повлияет на преданность мужа. Но, видно, мужики устроены иначе. У женщины есть один порок – она мыслит не как мужчина.
А ведь было, было так чудесно! Они были в долгосрочной командировке в Америке, по линии какой-то секретной службы мужа. Вспоминала прием в посольстве, она, светская дама, с белым от природы ухоженным лицом, в бальном белом платье блистала в окружении восхищенных лиц иностранных посольских работников, пока ее муж чинно беседовал с деловыми людьми в сторонке. В то же время в ней было беспокойство от строгого контроля мужа, и одиночества среди этой одетой для приемов толпы, в который каждый, тоже в одиночестве, бродил с тонким бокалом в руке по огромному блестящему от света залу…
Она повернулась от невыносимой боли, вспомнив брошенную в телефон злобную фразу разлучницы. До сих пор сидит ножом в сердце.
У пенсионерки нет обязательств – с испугом вставать сонной, куда-то бежать. Спать, спать, спать!
____
Жена взволновано говорила:
– Тетка по телефону все время плачет.
Я не был равнодушен, но считал: каждый должен переносить свои горести и недомогания сам, не перекладывая на близких. Но все же меня пробивала жалость и понимание чужой беды.
У тетки Марины был явный свих. Ее заклинило на желании здоровья и красоты. Так сильно, что это превратилось в жажду испытать на себе все созданное медиками для исцеления и омоложения. Она прислушивалась к себе, и находила уязвимые места: в состоянии постоянного бессилия, запорах, в надвигающейся слепоте из-за катаракты, в тумане в голове, когда какая-то заслонка в мозгу мешает вспомнить привычное имя или слово, в несвежей коже лица, когда-то молочной белизны, поражающей мужчин. Яд пищи после еды пронизывал все тело, и начиналась слабость, боли в животе, – сказывалась фаст-фудовая тенденция современной пищевой цивилизации.
Тетке было так плохо, что она улетала в чудесные сны. Вспоминала, как была счастлива. Побывала с любимым во многих странах. Плыла на белом пароходе, и с восхищением смотрела сбоку на любимого, с прямым носом полководца, и чувствовала себя, как в младенчестве, защищенной навсегда в добром мире. Впереди открывалась безгранично близкая даль, и за каждым поворотом открывалось чудесное, все новое и новое, и жизнь состояла из этой бесконечной новизны, полной загадок, и уходила назад за корму темная боль заскорузлой неподвижности болезни и старости. Там раскрывалась загадка времени человечества.
Это была мечта, превратившаяся в смысл жизни – о неутомимой юности, не чувствующей в себе никакой тяжести и недомогания, в чудо физической красоты. Для чего? А зачем люди стремятся к божественной красоте?
Ее ожидание чуда своего преображения во что-то невыразимо прекрасное уже перестало быть местью покойному бывшему мужу, это стало чистой радостью, в которой она будет жить. А может быть, уже живет.
Жена прерывала мои мысли:
– Не мудри, она просто жить хочет.
13
Тетя Марина в очередной раз позвонила – поплакать Кате, но та ушла в магазин. Я не удержался, чтобы поговорить откровенно.
– Как здоровье?
Она обиделась, раздраженно бросила:
– Мне помирать пора.
Тетя никак не могла настроить себя на то, что она еще жива, и есть солнечный свет в окне, и есть где-то близкие, которые думают о ней, хотят, чтобы она была здорова. Нет, ее боли застилали все.
Она воображала себя обугленным столбом, и нет вокруг того родного, что облегчил бы ее одиночество. Зятю передалось ее отчаяние.
– Вон, больная соседка по даче ежедневно ходит в церковь, завела свой блог в интернете, где сочиняет молитвы об обретенном смысле жизни.
Она помолчала.
– Увы, я не верующая. Хотя чувствую, что есть у меня старенький ангел-хранитель, уже уставший от меня.
– Нельзя видеть только одну темную бездну. Есть близкие люди, они любят вас и тревожатся.
Она вздохнула.
– Они далеко.
Верила ли в доводы зятя? Знала, что и он не верит. Я вздохнул:
– Сколько в истории, за нами, могил! И ничего, мы живем, и дальше другие будут жить. Разве это не успокаивает?
– Нет, – сухо сказала она.
– Надо говорить спасибо Богу за то, что он дал.
Я чувствовал в моем голосе фальшь, и стало гнусно.
Есть ли что-то, что повернет ее (и меня) к полному зимнего солнца окну? Чтобы жить хотя бы этим одним солнечным днем?
Это могла быть память о той любви, в которой она могла бы оттаять и примириться со смертью. Наверно, это могла быть та любовь, что была у нее в юности. Не сравнимая ни с какой родственной связью. Такой смысл жизни недосягаем.
Иногда она вырывалась из застоя беды в солнечный поток времени. Вспоминала молодость, свою любовь. Школьный бал, куда пригласили молодых офицеров выпускников. С ней танцевал серьезный, самостоятельный лейтенант, похожий на Вронского, и танец пролетел коротким счастьем влюбленности, потом замужества, и путешествий по странам, куда вела секретная служба мужа. Неужели память – это иллюзия? И почему так страшно ее потерять?
14
Пандемия не изменила упрямый мир. Но самоизоляция резко сузила круг общения, стали ненужными бывшие раньше ежедневные тусовки сослуживцев и приятелей с их поднадоевшими спорами и мелкими переживаниями. Общение с ними, всегда торчавшими рядом, стало совсем другим, сейчас обострились первоначальные скрытые привязанности, и тайное недоброжелательство обнаружило свою мелочность.
Наше общественное движение было в стагнации. Электронные издательства с готовностью размещали в интернете мои писания, и – никакого отклика читателей! Действительно, кому это нужно?
Я устал. Зачем столько надрыва на работе, бессмысленных ночей в накоплении ненужных знаний и попытках писать, если не смог сверкнуть лучом жгучего интереса или хотя бы любопытства в душах людей?
Жизнь сушит. Может быть, и мой пляшущий солнечный зайчик, который мелькал во мне с детства, стал исчезать в завалах будней? Нет, я знал, что есть дни, когда этот зайчик вспыхивает ярким светом вдохновения, и тогда, особенно ночью, возникают озарения, и становится ясным все вокруг. Когда я в озарении догадываюсь о сути мира – это самое большое наслаждение, за что можно отдать жизнь.
***
Как-то перекачал в «читалку» книгу эзотерика Карлоса Кастанеды о мексиканском индейце – шамане и маге. До этого краем уха слышал об этом авторе и считал костистым мексиканцем. А это оказался интеллигентный профессор в очках. На меня пахнуло чем-то знакомым. Сколько книг знаю, чьи мысли дороги мне. А сколько тех, чьи мысли мне близки, и никогда не узнаю! Где-то в истории или моем времени мои мысли могут совпадать и повторяться с кем-то, моим современником или скрывшемся в волнах истории
У Карлоса Кастанеды изотерика – прикрытие. На самом деле он описывает свой трудный путь к не обычной реальности, по сути, путь к творчеству. Постиг себя и свое творчество через реального шамана дона Хуана, исповедовавшего магию древней Мексики. Как похоже на мой путь к иному, через литературные упражнения!
«Сила зависит лишь от того, каким родом знания владеет человек. Какой смысл в знании вещей, которые бесполезны? Они не готовят нас к внезапной встрече с неизвестным. Ничто не дается даром в этом мире, и приобретение знания – труднейшая из всех задач, с какой может столкнуться человек!»
Никогда не думал, что я, такой исключительный, могу встретить самого себя. Какое совпадение! Как же раньше я его не встретил? Понял, что мои мысли совпадают с его представлением о не обычном для человека мире. Я, как Карлос, копал в том же направлении, чтобы выйти за корявую прочную изгородь моего обыденного сознания.
Это было похоже на то, к чему стремился, постоянно бессонными ночами насыщаясь ненужными знаниями, выискивая крупицы потребного душе из настоящих книг, и таким образом распутывал собственное мироощущение, вглядываясь в темное пятно опыта своей судьбы: что там за ним?
– Нет, не совпадение со мной, – недовольно сказал бы автор, или сам индеец дон Хуан. – Это совпадение с рассказчиком Карлосом, заурядным составителем атласа трав и галлюциногенных грибов, которого заставляют идти к подлинному знанию. «Человек идет к знанию так же, как идет на войну, – полностью пробужденный, полный страха, благоговения и абсолютной смелости».
Мне как раз не хватает смелости заглянуть за привычные завалы представлений о себе как человеке времени, полном мужества заглянуть в душу, живущую шаблонами человеческого поведения. И нет точного представления о «личной жизни», которую индеец отрицал. Как это – не иметь личной жизни? Личности, которую я ценю больше всего!
«Слишком сильное сосредоточение на себе порождает ужасную усталость. Человек в такой позиции глух и слеп ко всему остальному. Эта странная усталость мешает ему искать и видеть чудеса, которые во множестве находятся вокруг него. И у него ничего не остается, кроме проблем». Как это верно! Одинок только тот, кто замкнут в своей скорлупе, не любимый никем.
Добавлю, это ощущение графомана. Когда-то начинал писать, но было гаденькое чувство – пишу ерунду. Видел и описывал факты, глядя как в бинокль, не задевая души. Непонятно, откуда представление у простака – описывать внешнюю жизнь, а не мысли о ней, не свои переживания? Наверно, от осознания своей мизерности, не считающей свой мирок чем-то ценным. У меня это так и было.
Дело не в отсутствии опыта, не в нарабатывании его действием, практикой, – опыта жизни у юного Мишеля Лермонтова не было, когда он написал: «В моей душе, как в океане, надежд разбитых груз лежит». А в глубине постижения «не обычной реальности».
И я сошел с пьедестала непризнанного романтика, и начал копать в другом направлении. Здесь стал открывать настоящее: моя судьба оказалась судьбой человечества. Но это было самым неподъемным – все равно что осознать смысл самого бытия.
«Все пути одинаковы: они ведут в никуда. Есть ли у этого пути сердце? Если есть, то это хороший путь; если нет, от него никакого толку. Оба пути ведут в никуда, но у одного есть сердце, а у другого – нет. Один путь делает путешествие по нему радостным: сколько ни странствуешь – ты и твой путь нераздельны. Другой путь заставит тебя проклинать свою жизнь».
Как «путь сердца» у моего предка, пережившего самую страшную войну.
В холодное небо бездомно смотрел —
Эпоха войны в нем темнела жестоко.
Он знал – надо жить, для неведомых дел,
Теплушкой продленья несомый к востоку.
Нет, я не воин, хотя знаю о безвыходности пути, и имею сердце, – ищу лишь душевного исцеления, самостоятельно. Хотя знаю, что не найду, и всегда буду одинок. Познавать реальность, к которой обратился всерьез, – придется всегда, и никогда не познаешь. Это невозможно. Хотя в самой новизне есть исцеление путешественника.
Вот к чему я пришел! Значит, писать нет смысла?
В пути никогда не достигнешь города Солнца. Есть лишь путь истины, и по пути, выходя за изгородь обыденности, преодолеваешь такие препятствия, которые гораздо труднее, чем для воина, в его племени обретающего знание шамана.
Но истина всегда относительна! И можно писать, когда уверен, что открыл хотя бы относительную истину, соответствующую уровню знаний эпохи, и двигаться дальше.
Мне не надо волшебства, всего оккультного у шамана, само мое состояние, когда настраиваю себя, чтобы писать, уже волшебство. Я не пользовался галлюциногенами, а пытался напрямую «мозговым штурмом» пробиться в исцеляющее состояние судьбы. И вызывал это состояние некими заклинаниями, внезапно раскрывающими озарения, занося их в дневник.
«Где органная мощь моей судьбы? В трагедии человека, стремящегося вырваться из мира, где не видят любви ни в себе, ни в других, толкают локтями под дых, и близких, и чужих? В не соединении сознаний друг с другом?»
«Неужели трагизм существования человечества – в его пути самоуничтожения, его темной судьбе, там, где гибридные войны, невозможность прояснить мозги, чтобы увидеть исцеляющую цель?»
А может, наоборот, записывал эти заклинания вслед за озарениями в мозгу. Это были мои подпорки для разжигания огнедышащего слова. Но не подпорки дона Хуана для получения знания, типа ощущения реальных демонов в ветре, в грозе, в лесном ветре и траве, которые опасно воздействуют на «воина» так же, как и «воин», обладающий их силой, влияет на демонов природы. Правда, мои подпорки были также средством, временными лесами вокруг истины, которые убираются, когда достигнешь цели.
15
Как-то я сидел ночью у моей библиотеки, измученный размышлениями и сонным усыпляющим светом ночника, прикорнул, с головой на письменном столе. Передо мной встал кто-то мудрый, спокойный и всезнающий. Я узнал в нем мага дона Хуана, с испещренным морщинами лицом мумии и хитрыми щелками глаз. На нем была поношенное пончо с колокольчиками и шапка-корона, фирменная одежда древнего мексиканского шамана.
– Ты хочешь стать воином? – хитро сощурясь, спросил он.
– Не хочу, – сказал я, как старому знакомому. – Не хочу бороться, побеждать кого-то. Кроме себя.
– Чего же ты хочешь?
Я был погружен в безвольную немощь, в которой тускнеет внешний мир. А может быть, это от генов предков, нечувствительных к лишениям. И только изредка меня пронимает, когда чувствую одиночество. Думал о своей жизни, и все бывшие радости оказывались покрытыми безрадостной пеленой. И нахлынула печаль.
– Я как будто еду куда-то, ни к чему не привязан, болтаюсь над бездной.
Он тоже ответил, как старому знакомому.
– Зачем так говоришь? В тебе этого нет.
– Иногда прихожу к мысли: меньше знаешь – крепче спишь. Сейчас человек за один день получает столько же информации, сколько житель средневековья за всю свою жизнь. Сейчас на мозг давит лавина информации. Новая агрессивная ситуация. И вообще невозможно все знать.
Это было признание в минуту слабости. На самом деле обычно я так не думаю.
Дон Хуан громогласно захохотал.
– Ты не видишь ничего сверхъестественного, и потому твоя ясность глупа. На самом деле, в тебе сидит обыденное сознание времени, как нечто постоянное, отвердевшее и застывшее, а потому бессмертное. Совсем иное – у шамана. Время – это нечто схожее с мыслью, возникающей в мышлении чего-то такого, что непостижимо в своем величии. Сам человек – часть этой мысли, протекающей в непостижимых разуму силах.
– Ничего не понял.
– Древние египтяне чувствовали, что в высоте есть нечто грандиозное. Громадность – это величие. Это идет из древности: время и пространство простирались до звездного неба, когда выходили на охоту, выезжали за пределы изгороди на телегах, а потом летали на самолетах, глядя в иллюминатор на облака. Это всегда был путь в другие реальности.
Я понимал из прочитанного о нем, что он воздействует с помощью ритуала, способа получения целительной силы. Я был уверен, что смогу легко победить невежественного шамана с высоты своего времени, которого не смог одолеть его ученик Карлос.
– Не могу согласиться, что к другой реальности надо тянуть силком, вталкивая туда путем обманок и ловушек. У меня есть моя собственная сила, влекущая туда.
– Да, в тебе есть твоя сила, но ты лишь тащишь свой камень, как Сизиф, который никогда не взойдет на вершину. Он не радуется бессмыслице своей работы, но у него есть своя гордость – отсутствует обольщение, и верен себе.
Странно, именно поэтому у меня возникало бессилие. Зачем человек ищет иное, желая организовать мир по-своему? Не объективную истину – ее нет! – вырывается из ограниченности в свободу и душевное исцеление.
Я чувствовал непостижимое состояние «необычной реальности». Ступил на путь добровольцем, только у меня не было живого Учителя, хотел приподнять за шкирку самого себя. Хотя, конечно, были ушедшие до меня учителя, союзники, по выражению мага, – русские классики, голоса которых звучат на страницах их книг. Вернее, они ничему меня не учили. Они воздействовали на нечто во мне, воспламеняли меня на какой-то исцеляющий душу путь. Но этот путь бесконечен.
– Вот потому я хочу взять тебя в ученики. Я мало встречал людей, желавших вырваться из обыденного сознания в необычную реальность. В тебе есть сила, то есть энергия, свободная от ограничений, чистая условная энергия. Так, как она течет во вселенной.
– На что мне эта сила, если она бесплодна? Как вырваться за изгородь обыденного сознания? Только вашими подпорками, заклинаниями?
– Ну, ну. Нужны действия, а не умственные поиски не обычного мира. Систематическое изучение собственной жизни состоит не в позиции оценивания и поиска собственных ошибок, а – постичь свою жизнь и изменить ее ход.
– Не могу осмыслить реальность, увидеть глубину, вырваться из натуралистического взгляда. Находить метафоры смысла – в предмете. Они превращают легкую абстрактную мысль в тяжелую земную. Метафору самого человечества, которого влечет во что-то неизъяснимое в развитии вселенной, может быть, сверхразумное.
– Что ты подразумеваешь под метафорой?
– А вы?
– Умение сравнивать, а этому нельзя научиться, не обладая широким знанием. Знание позволяет сопоставлять вещи и события, возносит разум в молнии озарений, – туда, где душа найдет успокоение.
– Увы, во многом знании много печали.
– Посмотри на себя! Стоишь перед дверью, боясь выйти. Стремишься писать больше из самолюбия и стремления остаться в памяти твоего народа. Тогда не получается выговорить подлинное.
Меня покоробили эти слова, хотя я знал, что это отчасти верно.
– Неправда! Это всего лишь сердечная тоска!
Дон Хуан рассердился.
– Почему мир должен быть таким, как ты его себе представляешь? Одиночество, закрепощенность людей, – это все, что тебе известно. А что за этим, какие силы там играют?
– Мне это не нужно. Нужно спокойствие найденной цели.
Я замолчал.
– Этого мало. В тебе есть некоторое ограниченное состояние сознания, куда тебя постоянно заносит. Как в ловушку, где не открывается дверца. Ты пытаешься разрушить в себе шаблон, который формируется в сознании человека навязчивыми объяснениями людей.
Его слова были как маслом по сердцу. Да, мое главное стремление – разрушить шаблон.
– Вам объясняют с самого рождения: мир такой-то и такой-то. И у вас нет выбора. Вы вынуждены принять, что мир именно таков, каким его вам приписывают. Мир определяется привычными вам прописями познания, и они есть следствие только воспитания. Живете по внутреннему распорядку, которого не сознаете. А нужно знать распорядок иной реальности.
– Неверно! – закричал я. – Я должен знать свой распорядок, чтобы подняться до распорядка иной реальности.
Шаман вглядывался в меня. Он начал издалека:
– Ты родился в Сибири, куда сослали твоих предков, как кулаков. Они ожесточились в выживании, их душа покрылась коркой равнодушия и жертвенности. И не можешь разрушить эту корку. Это передалось тебе в генах предков. Не можешь уйти в иную реальность, за пределы твоих генов.
Я был поражен.
– Откуда вы, из другого темного века, узнали о моих предках, и о моей жизни?
– Я шаман, живу не в вашей реальности. Живу в энергии, свободной от ограничений влияния социализации и синтаксиса. В чистой вибрирующей энергии.
Я понимал его. Иногда мне тоже так казалось, что живу в потоке энергии. И повернулся к дону Хуану.
– Могу вырваться, но не вашим же воздействием на человека демонов в природе, и человека – на духов природы. Хотя, если глубоко вникнуть, в этом есть что-то. Шопот духов в шевелящихся от ветра травах…
Дона Хуана мои слова не смутили, он продолжал свое:
– Со дня рождения каждый, с кем тебя сталкивала жизнь, так или иначе что-то с тобой делал.
Я молча принял эту правду.
– И даже против своей воли.
– Да, – оживился я. – Всю жизнь вынужден был подчиняться обстоятельствам, тирании времени.
– Тебе нравится себя жалеть. Ты слабый, приспособлен к твоему обществу. Отказываешься вести собственные битвы, копаешься в собственных проблемах, не желаешь вникать в живые души природы, и потому не можешь разобраться ни в себе, ни в жизни. Жалобы – разновидность наслаждения, сладость слез, удовлетворение от жалости к себе. И мало кто пытается отстраниться от постоянного уязвления и обид, уйти в поля энергии, в которых иные ориентиры. Злиться на внешние препятствия, на унижения – это тупик. Не будь зол к чужим порокам, они и твои. У тебя нет времени на вздорные мысли и настроения.
Я был оскорблен.
– У меня нет обид! Мной движет не хныканье, а тяжесть – в сердце! – от метафизического ограничения всего и всех. Я не жалею себя – сопереживаю вместе со всеми. Хочу выплеснуть, наконец, всю горечь души! Тоску всех, и освобождение всех. Закрепощение – актуально.
Маг усмехнулся.
– Я не увожу человека от его переживаний перед насилием. Ради Бога, пусть переживает личные радости и страдания! Говорю о творчестве, которое требует ухода от личных переживаний в широкий мир, чтобы увидеть все.
– Но как я могу отстраниться так, чтобы с холодным сердцем наблюдать этот ужас? А сопротивление насилию? Стремление к свободе? Не ушло столкновение интересов, подавляющих одних другими. На этом строят сюжеты писатели! Что такое одиночество Кафки и ему подобных, вплоть до Хармса, их депрессия, задыхающихся в экзистенциальном тоталитаризме мира, которые лечились творчеством, чтобы не сойти с ума? Почему Чехов потерял сад, как свою жизнь? А как быть с освобождением от насилия? Что такое преступления перед человечеством? Ведь даже ландшафт Луны – свидетельство былых преступлений! Что-то говорит мне, что не смогу подняться из личного негодования, что субъективен до слепоты.
– Хорошо, ты проявил мужество перед тотальной системой насилия. А дальше что? У вашего Солженицына «жить не по лжи» – было мужество перед тоталитарной системой. Его книги – отвержение зла. Но противопоставлять себя злу – мало. А дальше что? Настоящие проблемы начинаются потом – в думании о жизни в условиях свободы. Нужен поиск истины. И тогда возвышенное негодование лишается значимости. Рассматривать чьи-либо противостоящие действия как низкие, подлые, отвратительные и порочные, – значит придавать неоправданное значение личности, их совершившей, то есть потакать его чувству собственной важности.
Я был ошарашен этим неожиданным выводом.
– А если свободы не предвидится?
– Тебе что, хватит сил отвечать за весь мир? Не пытайся бороться со всем миром. Это просто невозможно, поэтому лучше сосредоточиться на действительно важных темах. Достаточно отвечать за себя, близких и друзей. Большего для таких, как ты, не будет. Силенок не хватит.
– Но хотя бы стремлюсь!
– Что тебе мир? Тебя интересует только свое «я». Твоя судьба – выбираться из одиночества в этом мире. Как и любого. И отсюда твоя боль, презрение и жалость.
Он не знал, что во мне осталась только бессильная жалость.
– Ты всего лишь один из людей, в массе идущих рядом.
– Не собираюсь выделяться. Просто ищу выход.
– Ты не защищен, – невозмутимо сказал дон Хуан. – Беспокойство делает тебя доступным. Ты раскрываешься, цепляешься, и истощаешь себя и других. Когда ты прячешься, об этом узнают все, и каждый может тебя чем угодно ткнуть. Я тоже в молодости был доступен. И раскрывался, до тех пор, пока от меня ничего не осталось. А что осталось, могло только ныть.
– А как же открывать себя в тексте?
– Ты в тексте обнажаешься так, что все твои близкие негодуют. Надо не договаривать, человек – это тайна. Причина в том, что ты слишком доступен. После твоей повести о ваших с женой отношениях узнали все вокруг.
– Это не так! Я типизирую, даже самого себя. Что тут плохого? Не показываю заветное, личное.
– Все равно это ужасно! Ведь она прекрасный человек, тонкая личность. А ты только мучаешь жену.
– Да, она обладает здравым смыслом, и не любит философствовать.
– Она для тебя особенная, а для таких нужны хорошие дела. Что ты сделал для жены, чтобы она, наконец, успокоилась? Что она от тебя хочет, а ты не знаешь? Подумай.
Во мне снова возникло чувство стыда и униженности. Для меня самого это было загадкой. Отчего мы спорим, иногда доходим до развода? Я иногда думал, что она подчинила меня своей властностью – от ее суровой матери, и был доволен, что она берет на себя все заботы, хотя этой заботой третирует меня. Одна уходит в магазин и тащит оттуда тяжелые сумки, прежде чем я успеваю подумать об этом, и потом сурово молчит от обиды, что я невнимателен к ней.
– Мелкое – оно в тебе. Потому и стыдишься. Ты потворствуешь своей чувствительности. Дело в доступности. Ты всегда находишься в пределах досягаемости своей подруги. Пока чувства не истощатся, и останется скука.
– Это зависит от того, насколько человек глубок.
– Неважно. Ты должен встречаться с ней осторожно и бережно. Это не означает – прятаться и скрытничать. А осторожно обращаться с людьми. Не высасывать из мира последние капли, а, оставаясь в мире, лишь касаться его, сколько нужно, и потом уходить, не оставляя следов. Быть недостижимым, значит бережно соприкасаться с окружающим миром.
Маг меня достал.
– Быть недостижимым невозможно!
– Как невозможно? Съедать только необходимое, не калечить зазря растения, не пользоваться людьми.