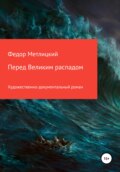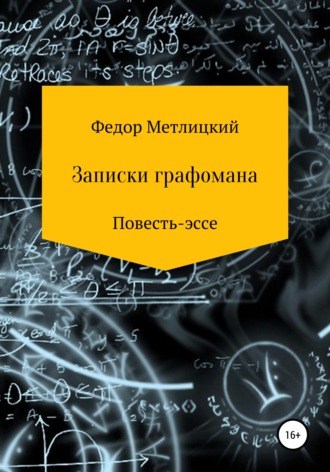
Федор Федорович Метлицкий
Записки графомана. Повесть-эссе
4
Я хотел не славы, на самом деле искал неведомый смысл, желая разобраться в себе и мире. Всегда хотел понять, для чего все это? Почему занимаюсь не тем, что хочу? А что хочу?
Ответить на эти вопросы могли только поэзия и литература. То есть необходимо было – время уходит, скоро буду стариком! – срочно искать ответа стихами и прозой. Хотелось писать не ежедневными впечатлениями, а судьбой. Ведь, после тяжелых и бесплодных усилий выразить словом что-то – вдруг открывается нечто пронзительное, истина! Это маленькое счастье творца.
Хотя все же Плиний младший оставил книгу писем – форточку в Древний Рим, и его запомнили последующие поколения. Я был непрочь остаться в истории хотя бы Плинием младшим.
Наверно, я родился с какой-то кровоточащей трещинкой в сердце, не дававшей мне покоя, как, например, у кумира моего детства Лермонтова, с его детскими стихами «… в моей душе, как в океане, надежд разбитых груз лежит».
Я ищу небывалой жизни.
Как сильна прикипелость к стиху!
Графоманство жерновом виснет
Непомерных темных потуг.
Страх ли в них государственной мощи,
Или биологически смят?
Я густую темную ношу
Сброшу – в новом рожденье меня.
Там, за этим – я весь нормальный,
Как нормальна свежесть веков.
Что же прыгает аномально
Здесь – к неясному выходу зов?
Инстинктивно опирался на нечто главное, что сидело во мне. Желание вникнуть в суть вопросов: что хочет от меня космическая реальность, и чего мне от нее надо? – могло вывести на какой-то верный путь – мог писать уже что-то определенное, что не отдавало бы нестерпимой фальшью бессмысленности.
____
Я не из тех, кто, влюбившись сразу по взрослении, навешивают на себя вериги в виде семьи. Не думал о семье, не хотел детей, это не по мне. Упрямо решил посвятить себя литературе.
Когда я писал стихи, то словно выскакивал из обыденного сознания. Было непонятно, как получается так. Без рациональной разборки этого механизма ничего не мог понять – как выхожу туда, в свободную исцеляющую ощупь?
Однако стихи чем-то не удовлетворяли. Наверно, все могут писать стихи, особенно о любви. Приходит вдохновение, даже у домохозяйки, и появляются дивные строки, которые даже поют в народе, распространяются повсюду. Но чего мне в них не хватает? При всемирных потрясениях, тяжкой доле народа петь только о любви – как-то становится совестно. Как будто здесь есть нечто поверхностное, нарушается равновесие, гармония.
Мои стихи казались мне чем-то несерьезным, погруженным в романтическую туманность, пустую вечность, а не в реальную жизнь. Хотя поэзию почему-то принижает и обращение к социальным проблемам, негодование по поводу запрещающих действий властей, неудовлетворенность, приспосабливание к потребностям в угоду чему-то. Тем более идеология – это не истина души.
Сейчас людям не до стихов (или не до плохих стихов?). То ли дело широкое полотно повествования, в ореоле мечты, охватывающее жизнь целой эпохи и заглядывающее во все уголки мироздания! Хотя людям и до этого мало дела.
Я всегда хотел писать прозу, более содержательную и разнообразную. Но когда переключался на прозу, в душе становилось все серым. Исчезала та пронзительная печаль, когда писал стихи, видя с утеса непостижимый океан. Почему-то отрывал изображаемое от переживания всем нутром. Смотрел слепыми глазами на внешние картинки, исчезала органная мощь нутра, увидевшего все. Что бы ни писал, было скучно даже самому себе. Может, утратил навсегда иную, необычную реальность? И потом, осмысление мира с точки зрения романтического устремления в «не обычный мир, безгранично близкое», – всего лишь «неземная» эмоция.
Все время был уверен, что текст должен быть сильнейшей эмоцией, переживанием полета в безгранично близкое. Или физическими муками одиночества в отчужденном мире. Дух и тело должны испытывать потрясения. Ярость и безрассудство ухода в истину.
Но погружение в эту энергию постепенно превращалось в сомнения.
А где бесчеловечность эпохи, ее жуткое равнодушие к людям? А как же плачущие от обид, беззащитные и униженные, отвергнутые миром? А как быть с засилием пошлости? Надо ли заточить негодование, как оппозиционеры? И вместе с ними выходить за изгородь, внутри которой кроются все обиды и унижения?
А где же холодное осознание всех механизмов и винтиков развития человечества? И вообще, что такое живое, фантастически развившееся из амебы, о чем вопрошал Н. Гумилев?
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья…
Откуда сама амеба, возникшая из мест немыслимых температур вселенной?
Нужно познание и рациональное, разумом. Но мышление – субъектно. Невозможно мыслить без отношения человека к миру в его различных настроениях, чувствах, действиях и поступках. Как родится истина, предмет духовного исследования? Логической структурой познания бытия? Как объективные черты оказываются присущими предмету духовного познания?
Рациональное познание – это отстранение от себя, модель чего-то иного, чем бездумное ощущение. Игра, чтобы раскрыть глубины, которые ничем другим не открыть. Непонятное желание увидеть мир отстраненно – связано с осмыслением разумом, то есть отпадением от животного ощущения мира. Хотя в глубоком знанье жизни нет. Но есть страшное осознание человеком себя, у которого нет знания.
Мне было страшно – как много надо знать, перелопатить столько материалов, вобрать в себя столько смыслов, чтобы уяснить свой! Это неподъемно!
Мешал какой-то привычный круг внутри уродливой, но прочной изгороди в сознании, через которую не мог даже перевалить, не то, что перепрыгнуть. Перед которой я метался в разные стороны, оставаясь неучем и графоманом. Затор в метафизическом устройстве живого существа.
За кривым забором обыденного сознания меня цепко держало то, что неосязаемо подхватил из всех мнений, газет и телевидения. Правда, и из великих книг, ставших затрепанными цитатами, которые штудировал, беря их в библиотеке. Это и было моим смутным убеждением.
Мои мотивации не связаны с социализацией личности. Не было точек опоры в обществе: у меня нет постоянного места, осмысленного образования, привязывающей к жизни семьи, работы, имущества и т. д., что могло бы увлечь в глубины конкретного мира.
Что меня влечет к писанию? Если глянуть на это со стороны, то, кажется, это болезнь, ибо для автора литература – это не жизнь, она выедает жизнь.
Я читал книги взахлеб, в основном по ночам, хищнически потреблял информацию о мире, не понимая скрытых намеков смысла, тем более общих смыслов истории, не знал, что мне нужно. Мысли уносили от физического ощущения тела. Но смысл так и не выявлялся. Я портил бумагу, инстинктивно изображая персонажей в виде отдельно положительных и отдельно отрицательных людей, себя, естественно, подразумевал демиургом.
Путалась под ногами мысль: какая связь между словом и переживанием человека? Как присваиваются имена переживанию? Почему одни могут вырвать из себя «огнедышащее слово», по выражению Гоголя, «так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих», а другие накручивают жесткие, как проволока, строчки? Да где ж его найти, это огнедышащее слово? Это же продукт неистового желания высказать все – Другому! Чтобы писать интересно, надо задевать самые сокровенные струны души человека, оскорбить его правдой. Научить его гневу. Кровоточить сердцем!
«Что задевает? – заклинал я в дневнике. – Влюбленность, смерть близких? Измена, наглый обман, преследование? Жалость, одиночество, поиски исцеления?»
Текст должен быть отблеском подлинной бездны человеческой души, истории, необычного мира. А переживание обретается в конкретной обстановке существования – когда резко воспринимаешь отношение к себе – теплое расположение или холодность чужого тебе человека. А во мне недостает силы переживания, откуда исходит оценка образа, и не включается настоящее думание чувством? Может быть, у меня нет механизма слияния слова с переживанием, оно у меня немо, и я трещу помимо переживаний. И точность образа не зависит от силы переживания. Мозг обрабатывает образы, но оценка отсутствует.
И как описывать отрицательных персонажей, которых видел сплошь, – ведь они скучны! Но почему пустая баба Чехова, видящая себя цветущим вишневым деревцем, интересна? Думал так, пока не понял, что таких нет. Ни во мне, ни в других нет исключительно положительного или отрицательного. Во мне, положительном, столько говна – неумения разобраться с тенденциями, баболюба и балабола, хитрована в делах, тонко рассчитывающего, что и как для меня лучше. И не очень доброжелательного к ближним.
И не умел плести интригу: удивляться действиям героев, не догадываясь – что дальше: «Он, пряча какие-то бумаги, вышел». Выкладывал все карты сразу, наверно, оттого, что заранее знал конец. На сюжет среднего детектива нанизываются одинаковые коллизии с внешними физическими переживаниями – убийства из ревности, из-за бабла, но только не внутренние драмы бессюжетного артхауса («авторского кино»), и не моей исповеди. Книги о Холмсе Конан Дойла были не детективами, а преступным воздухом старого Лондона, «Преступление и наказание» Достоевского – не детективом, а психологией бунтующего петербургского студента. Я предпочитал духовные коллизии, хотя они скучнее и не нравятся большинству. Жизнь – загадка, которую нельзя разгадать. Тайна – в недоговаривании, говорил Пушкин. Что было дальше с Дмитрием Дмитричем Гуровым и дамой с собачкой с их тянущейся запретной любовью, никто не знает. Только по прошествии ста с лишним лет мы догадываемся – ничего хорошего их не ждало.
Не говоря уже о диалоге. Чтобы был живой диалог, надо, чтобы персонаж необъяснимо привлекал, как девушки, которых любил, или бешено злил, как тот бригадир в строительной бригаде, где мы, студенты, отрабатывали практику: «Мне мэтры давай, мэтры!» У меня же это прямое столкновение идей, в которых борются друг с другом бумажные герои. А где персонажи во весь рост, их биографии, где история, и место, где должны находиться спорящие? Жесты, внутренний диалог?
Чувствовал также, что не могу видеть мир метафорически, то есть оживлять абстрактные мысли, или объекты, чтобы они трепетали, уходили от ужаса – у сердца! – в иные грустящие безмерности. Хотя в стихах ощущал себя хозяином метафоры, и говорю метафорами, не сознавая этого. Сам язык – сплошь метафоричен! Но мои метафоры исходили из абстрактной мысли, откуда-то сверху, а не из реальных событий, рождающих метафоры смысла. Но и метафора – это еще не все, она однобока.
А главное, сразу вставала та уродливая изгородь будничных событий, внутри которых прозябал. И преодолеть фотографичность взгляда не было сил, не мог включить переживание. Переживание – это включение всей личности в мироощущение, трепет судьбы. Нюансы чувств, укрупненные до судьбы, помещенной во вселенную!
Мое же зрение отключало переживание. Общественная жизнь была чужда мне. Поэтому не мог построить крутой сюжет, тем более детективный. Как его строить, когда мысли лоскутные?
И – во мне нет иронии! То есть изображения с серьезным видом глупостей человеческих. А это, ведь, из окукленности обывателя, смешного в своих попытках приспособиться, не видящего со стороны своего прозябания и воспринимающего себя слишком серьезно. И потому считающего себя главной персоной мира. Ирония, юмор возникают, когда относишься серьезно к тому, что низко. Внутренняя комичность людей в их утробной правоте. Как смешна грызня между странами из-за своих интересов! Как смешны виляния изворотливых людей, чтобы преуспеть! Их предрассудки, чудачества. А смех над собой, жаждущим открыть необычную реальность? Жизнь нелепа и загадочна.
Я жил случайностями, не придавая значения историческим связям. Сартр говорил: «Мгновения перестают наугад громоздиться одно на другом, (когда) их подцепил конец истории».
Загадка – сам мир. Я еще не знал, какую интригу можно сделать из этой загадки.
***
Мои рассказы я отдавал в редакции. Это были тексты, как у многих других, по таким же рецептам, какие рекомендовали критики – описатели классиков, уверенной рукой размашисто писавшие:
«1. Герой борется, запутывает все, за четверть до конца книги должен быть третий сюжетный узел: происходит фатальное событие, после чего изменить уже ничего нельзя.
2. Кризис неотвратим! На героев и читателя опускается осознание трагедии. Зло победило. Как выпутаться?
3. Кульминация: или герой перерождается, совершает невозможное, либо терпит крах. Желателен катарсис – мощное чувство очищения. Читатель должен ощущать себя сильнее, чище.
4. Развязка – удовлетворение всех вопросов. Все связано с идеей и темой».
Стандартные авторы изображают «образы», в их уста вкладывают монологи и диалоги, и, чтобы не быть описателем скучного настоящего, уходят то в крутую историю, то в непохожее будущее, чтобы хоть как-то оторваться от тупой натуры. Стремятся, чтобы читатель испытал потрясение, животный страх – как в сюжетах преследования. Следуя Хичкоку, используют контраст между незнанием жертвы и знанием автора о зловещих последствиях.
Как-то посмотрел телефильм: уголовники поймали красавицу, невесту героя, стали ее насиловать. На этом серия окончилась. Ночью перед сном навязчиво вставала мысль: изнасиловали? Следующим вечером бросился к «ящику». Оказывается, в следующей серии герой успел перестрелять насильников и развязал пленницу. Отлегло: не успели изнасиловать!
Это натурализм наоборот, идеи их книг те же, из привычных восприятий. Они перепрыгивают через изгороди будничных событий прямо в общепринятые истины, или гонят сюжет вообще без истин, не стараясь самостоятельно карабкаться на неприступную вершину горы познания, куда безуспешно взбирался Сизиф.
Они играют на одной струне читателя – страха и радости, что это не со мной, и обезьяньего любопытства. Я этого не умел. Один редактор с сомнением вертел в руках мои листки.
– Как-то все у вас… слишком серьезно, и абстрактно.
____
Откровенно говоря, раздумывать и писать особенно не хотелось, как и всем обыкновенным ленивым людям.
Меня не били, не отрывали руки, ноги, не было того страдания, которое преодолеть невозможно. Потому и не было могучей силы жить. Был уверен, что сильные чувства находятся где-то в глубине моих спящих чувств. Недаром во мне вспыхивает удивительное ощущение безграничной близости с миром, неясной, как бесконечный засасывающий океан моего детства. Видимо, они возбудятся, когда раскопаю сильнейшее желание спастись, или негодование от насилия – ударов под дых, позорное унижение. Было ли это у меня? Не раз! Униженность, когда приятель в студенческом общежитии дал мне в морду, за прилюдные насмешки над ним, и я только утерся перед бугаем с громадными кулаками, даже не вызвал на дуэль, как Печорин. Измены, и насмешки девчонки, в которую влюбился. Стыд, который тревожит совесть и сейчас.
Может быть, литература не мое дело? А мое – нечто иное?
И я начинал копаться в своих переживаниях. Хотел разжечь себя, бегал по квартире, почесывая малознакомое собственное тело. Вот оно, ощущение чужого – в упор! – отняли все! Убежал беженцем, нищ и гол! Нет родного, единственно раскрытого мне, заперт в себе самом.
Как говорил об этом какой-то писатель, я перетряхивал всего себя, все накопленные переживания, что во мне были.
5
Я делил то, что дорого человеку, на разные уровни привязанности.
Что держит человека на земле? В молодости – напор жизненной силы, в жару которой ничего не ясно, кроме ясности расходовать бесконечные силы, не разбираясь, где твое любимое, – как перехват дыхания фаната, погруженного в действо на футбольном поле. Хотя молодость можно быстро сломать унижением.
А потом приходит спокойная ясность, когда тебя держит только тепло близких людей, лишь они тебя поймут и простят.
Что такое любить?
Самая сильная любовь – в семье, любовь к жене (мужу), детям и родителям. Оказалось, что спасает только семья, близкие, единственные, кто могут понять, пожалеть и приласкать. Хотя со старением остается только сузившийся круг, ибо одни отошли в дорогую память, а другие – не дорожили тобой, как дети, что осознают потерю только после твоей смерти. То есть, остается жена, и единственным утешением будет сознавать, что лишь она закроет тебе глаза.
А есть навязанная обстоятельствами жизнь, которую и бросить нельзя, и жить постыло. Она становится собственным телом, как хромота.
Конечно, есть градация людей, совсем не чувствующих чужих страданий, которые, узнав, что умирает родственник, спокойно пьют чай и занимаются своим делом, как герой Достоевского.
Еще один уровень – любовь к малой родине, особенно дорогой для тех, кто шатался по миру, и осознал, что без нее – один на целом свете.
Постепенно уходят привычные представления о любви к родине. Становится более размытым уровень привязанности к своему этносу, возникшей в местах, ставших родными в течение поколений. Все мы вышли из любви к привычному, родному, куда возвращаться – единственная отрада. Все, что вне этого взгляда, – чужое, то, чего в нашей жизни не было, ничто. Бессмертие нации – внутри нее. Неужели любовь возникает из этого истока?
А вот любовь к человечеству, и самой планете Земля можно ощутить только тогда, когда наступит конец света, и без нее станешь задыхаться, как рыба, выброшенная из океана на песок. Можно ощутить в себе даже любовь к Вселенной, когда вообразишь, что через миллиарды лет расширения она медленно охладится и растает где-то вместе с нами.
Любовь возникает от предчувствия расставания.
____
Перед окончанием института я все-таки встретил ту, которая, казалось, всегда была родной, словно знал с детства. Встретился с Катей, студенткой медицинского института, случайно, и у меня почему-то не было досады от помехи моим творческим изысканиям. Она-то и была самим творческим возбуждением.
Переселился из общежития в ее двухкомнатную квартиру, оставшуюся после смерти матери. Это была непривычная жизнь, словно с диковинной жар-птицей. Она оказалась умной и не умеющей лгать, как будто ее приговорили к честности, и всегда было интересно, не надоедало. Она была брезглива, как герой Набокова в «Даре», который перестал мыться в ванне, когда увидал в ней чужой волос.
Меня всегда почему-то влекло к таким, гордым и независимым девушкам. Может быть, потому что я близнец по гороскопу. А близнецы – «гуляки праздные, единого прекрасного жрецы», кому требуется сильная рука.
Мы общались мало, потому что были вечно заняты. Утром спешили на работу, встречались в основном вечером, Катя мало распространялась, что там делала, а я выныривал из ниоткуда, словно был не на работе, а, как ей казалось, обитал где-то в ином мире, в безделье.
Обычно она чутко слушает, как я сплю за стеной в моем кабинете-спальне, и бросается на каждый мой всхрап. Ежедневно на кухне записывает в дневничке, сколько я принимаю таблеток. Когда я уходил на работу или в магазин, она тревожилась:
– Боюсь, что с тобой что-нибудь произойдет. Тебя надо опекать, как ребенка.
Она все время смешила меня озабоченностью недостатками своей фигуры.
– Чем больше ем, тем глаже становится лицо, но появляется живот. Тогда ем меньше, но лицо становится как тряпка.
– Царь Соломон не разрешил бы эту проблему, – сочувствовал я.
Или она озабоченно рассматривала свое лицо.
– Я не перекрасилась? Посмотри на мои щеки. А то иногда вижу сумасшедших старух, и страшно боюсь!
Мода – это желание людей быть прекрасными, идеалом красоты эпохи. Кристиан Диор вдохновлялся послевоенной страстью к иному, чудесному человеку, вышедшему из грязных окопов войны.
Я ревновал ее: неужели она красится еще ради кого-то, а не для меня?
Катя жила в мире всеобщей доброжелательности и эмпатии. Как-то пришла из парфюмерно-косметического магазина «Иль де Ботэ», пересчитала деньги. Не хватало тысячи рублей. Она рылась в кошельке, перебирая десятки дисконтных карт.
– Наверно, запуталась в картах.
И тут же из магазина пришло SMS-сообщение: просят зайти, ошиблись при выдаче денег.
Вернувшись из магазина, она радостно сказала:
– Девчонки извинились – не учли две карты. Вернули.
И все еще сомневалась: не она ли обсчитала магазин?
– Наверно, это они запутались, я ведь еще и наличными брала.
Она жила в чудесном магазине духа – чистого обмена духóв и духа.
Катя обладала чистым альтруизмом ко всему, что было освещено лучом ее внимания. Могла броситься на помощь всему живому, стонущему или пищавшему от боли. И этим невольно намагничивала меня, отчего мы часто попадали впросак.
Однажды мы вызвали мастера из «Компьютерной помощи» обновить старый планшет. Это оказался молоденький юркий красавчик в курточке с капюшоном, с выглядывающими бегающими глазками. Жена заботливо и жалеючи, как мама, смотрела на него, подперев подбородок рукой, пока тот пугал, что гаджет густо зарос вирусами. Принесла ему кофе с бутербродами, которое он стыдливо отхлебывал.
Мы всполошилась, когда тот насчитал сумму, равную стоимости трех новых планшетов с начинкой. Природная честность не позволила ей засомневаться в сумме, которой у нас не было. И я, жертва многих обманов, ставший опытным волком, поддался ее напору совести и ответственности, и позволил ей выгрести все деньги – немного не хватало, из нашего кошелька. Пришлось брать взаймы. Юный негодяй не постеснялся на следующий день прибежать за остатком.
Тогда лишь мы опомнились. Что это было за наваждение? Меня, несомненно, заворожила жена. А жена купилась, как наивные пенсионерки, отдававшие всю пенсию, не догадываясь, что есть на свете негодяи. Она идеальный объект для вымогателей.
Как-то мы пошли на новый спектакль в модный театр с современным репертуаром. Катя, в белом платье, преобразилась, в ожидании какого-то волшебства.
Зал, и сцена были заполнены ярким светом, и страсти на сцене отражались на лице Кати. Это был пик переживаний жизни, словно этот миг и есть смысл существования, что бы ни случилось позже. Самое мощное воздействие – это потрясти все существо человека. Это может только лицезрение любви и смерти. А здесь – игра, которая потрясает, пока не вышел за стены театра. Неужели жизнь и есть только это? Театр – это отвлечение чужой болью от своей трудной жизни.
Я редко хожу в театры, и спектакль поразил меня наглядной яркостью формы. Давно уже не верю в вымысел, где «слезами обольюсь», что театр дает возможность вырваться из застоя существования, увести в иные увлекательые или трагические возможности, наконец, полюбить той любовью юности, которая потеряна в тяготах быта.
Мне было завидно, режиссеры могут спрятаться за тонких актеров и писаных красавиц актрис, действовать на зрителя многими живыми личностями, а писателю спрятаться не за что, приходится отдаваться самому, завораживать только своим воображением, жаром собственного сердца.
Надо вживаться в свои персонажи, как актеры, – думал я. – До глубины себя. Мир фантастичен, в нем нет моей сложившейся определенности, незагадочности, потому что я в застывшем времени.
Когда мы вышли, на площади перед театром была большая толпа. Посреди толпы дрожала маленькая собачка, очевидно, брошенная. Она взглядывала, не видя, на всех, в беззащитной позе жертвы.
– Дорогая, шотландский терьер, – сказала полная дама. – Наверно, потерялась.
– Жаль, что моя померла, и пока не могу взять другую, – всхлипнула вторая дама.
Узнаваемый ведущий телеканала в дорогом костюме оглянулся на всех.
– Жаль, что и я не могу позволить.
Видимо, все ждали, что кто-нибудь не совладает с собой. Как водится в большой толпе, совесть у всех была распределена поровну, и чем меньше толпа, тем больше скребет совесть.
Все было предопределено. Я с неудовольствием увидел лицо моей подруги – было видно, что она первая жертва. Предчувствовал, сколько трудностей создаст собака, как ребенок, в нашей уютной любви. Дело не в том, что собака будет дисциплинирвать наши будни, а том, что она перетянет часть ее любви и заботы на себя, разделит нас.
Толпа поредела, и моя Катя вдруг взяла собачку на руки. Лицо ее было, как будто взяла ребенка, которого давно ждала.
Толпа с успокоенной совестью быстро рассеялась.
Мы взяли такси, и приехали домой.
Дома она с таким же умилением осторожно обнимала, держа в руках, еще дрожащую собачку, покормила купленным собачьим кормом.
Когда легли спать, Норуша (так мы ее назвали по имени умершей прежней собачки) улеглась в ногах, и рычала, как только я приближался к кровати.
На следующий день мы купили Норуше собачью сбрую с ошейником.
Но это было не все. Обостренная совесть не позволяла Кате успокоиться. Она для очистки совести дала объявление в «Вотсапе», не потерялся ли у кого йоркширский терьер?
Сразу откликнулась какая-то семья полицейского. Упустившего собаку И нам пришлось отдать ее. Дочка той семьи крепко ухватилась за свою собаку, радостно лижущую ее лицо, и спрятала за пазуху.
Потом Катя долго еще молчала в своей кровати, не отзываясь на мои уговоры поесть.
Может быть, она плакала потому, что у нас нет детей.
Ежедневно часами она разговаривала по телефону с подругами, еще из института, тревожась о их здоровье. Выспрашивала у всегда жалующейся на недомогания тети Марины, сестры умершей матери, все нюансы ее болезни, и та беспрекословно принимала ее советы (Катя была докой в лекарствах, оттачивала свои медицинские познания на практике – на мне и всех, кто попадался). И к ней обращались кому ни лень, как к своему доктору.