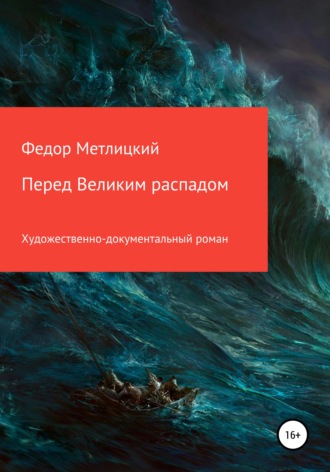
Федор Федорович Метлицкий
Перед Великим распадом
4
В течение нескольких месяцев были перепады погоды, то и дело шел снег. Ощущение, что происходят изменения в развитии планеты. Наверно, будет еще хуже, хотя успокаивают, что это периодические повторы сезонов.
Тепло, взошла травка, недавно голый район вдруг покрылся еще желтоватой первым цветом листвой садовых деревьев. Я с собачкой гуляю во дворе. Со стороны наш девятиэтажный дом выглядит убого, хрущевка с черными смоляными полосами, обозначающими клетки квартир, мусор у дома, копошение у машин, не то, что у двухэтажного «дома образцового обслуживания» рядом, который отгородил свой уютный двор от посторонних.
Мне казалось: создано нечто уродливое, негодное для полной жизни – цивилизация. И только природа – чиста душе.
Дома я совершенно менялся. Меня встречали трагические черные глаза жены, с высокой печалью, словно они вобрали всю женскую долю борьбы за бесконечное укрепление рода человеческого, – то неодолимо влекущее женственное, что так нужно мужчине. Она окончила филологический факультет института, но всю жизнь хотела быть врачом.
У нас не было детей. Чтобы отвлечься, она занималась суровыми упражнениями в ледяной воде ванны. Она, как и наше окружение, читала о Порфирии Иванове, и увлеклась идеями в его поучении «Детка»: «Два раза в день купайся в холодной, природной воде, чтобы тебе было хорошо». «Выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья». «Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому – это твое здоровье», и т. д.
Она голодала по заповеди: «Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с пятницы 18-20 часов до воскресенья 12-ти часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно, то держи хотя бы сутки».
Зимой я был в командировке в Киеве, и меня пригласили на Синее озеро. Там, в заносах снега стоял голый старец с могучим молодым телом в снегу на холоде, в черных трусах, похожих на юбку. В окружении группы фанатов-интеллигентов он погружался в прорубь озера, практически доказывая свои убеждения.
Он хрипел:
– Была и есть сейчас – эпоха борьбы за выживание (Дарвин, рациональный Ньютон). Будет эпоха философии любви, оживления сущего.
Говорили, что вскоре он умер, от переохлаждения.
Меня притягивало нечто подобное отшельничеству, результат отторжения от моей постоянной занудной ответственности за дело. Читал эмигранта-философа В. Зиновьева, который сделал свою жизнь экспериментом. Строил свое государство, где он один себе народ, независимый перед идеологией, государством. С правилами «Жития»: сохранять достоинство, независимость, не унижаться, не подхалимничать. Не возвеличивать ничтожество. Не быть близкими с карьеристами, интриганами, доносчиками, трусами. Обходиться без чужой помощи, не навязывая своей, и т. п.
Это – антитеза реальности. Чем значительнее дело, делаемое одиночкой, тем сильнее стремление среды уничтожить его.
Философ писал о классе управляющих и управляемых в социалистическом обществе, где все повязаны (на самом низу – актив, звеньевые и т. д.). Поэтому так отторгается все инакое, чужеродное. Все заражены идеологией управляющих, мол, нет угнетения, а на самом деле оно скрытое.
А кто я? Вроде, управляю, но на самом деле управляют управляемые.
Жена была насмешлива – высмеивала мой романтизм, не верила в мое дело.
5
В зале собраний Института философии и истории, где преподавал профессор Турусов, считавший себя и институт родоначальником Движения «За новый мир», собрались молодые и старые, бородатые и безбородые интеллектуалы – участники Движения. Я и мои соратники сели в переднем ряду.
Хлопали стулья, все были взволнованы, это было единение, предвещающее успех благотворных миру проектов, может быть, совсем не временное. Профессор Турусов, сидя в президиуме, клекотал в счастливых предвкушениях. Масляно улыбался сидящий рядом французский политолог, охотно откликнувшийся на приглашение известного общественного движения.
Я считал, что собравшиеся будут обсуждать идеи, которые выдвигал Совет, – Всемирного совета государств, Мирового правительства, Центра глобальной информации, экономического устройства мира «Новая Мангазея» при участии нашего общественного движения. И даже идею экологического спутника «Новые миры», его можно было бы запустить общими усилиями участников. Как водится, подразумевалось, что материальные ресурсы как-нибудь найдутся.
Однако заговорили все о том же, волновавшем интеллигентские умы. Перестройка – болезнь или выздоровление?
Все привычно ругали старую командную систему. В 20-30 гг. революционные нигилисты соотносили все с революционной целесообразностью. С пользой. Был нравственный релятивизм, прагматизм. Почему члены партийной «железной гвардии», зачищенные ею же, с упоением клепали на себя? Это заражение догмой, бесчеловечностью идеи. И – покорность перед уничтожающими их силами, которые служили той же идее.
При сталинщине заставили думать, что где-то впереди коммунизм, а не в настоящем. Дурное время в том, что мы себя считаем перегноем для кого-то там, впереди, счастливца.
Одни – революционные нигилисты – стремились разрушить «весь мир засилья», призывали построить иной мир, стать новыми людьми. Хотели ускорить развитие ребенка. Нужно, чтобы он рос в радикально измененных условиях. Другие склонялись к тому, что перестройка рождается изнутри, в народе, когда надо разбить колею, оковы. И это не радикальное изменение.
Я почему-то склонялся к идее естественного роста ребенка.
Выступающие были слишком серьезными, с застывшими лицами, у них очень уверенно складывались слова. Я читал их статьи и часто видел воочию, но все равно было трудно понять их намерения.
Толстый бородач в роговых очках, член правления Союза писателей, недавний гонитель диссидентов, развалившись массивным телом на трибуне, вопрошал озадаченно:
– Удивительно, почему обновления социализма не хотят? Тянут назад. Разве пустые годы были? Черним историю, какое имеем право переоценивать?
– Да! – крикнул кто-то в зале. – Социальный прогресс, свобода, демократия, державность, религозность, суверенное государство, – самая мощная среди равных Русь! Наши идеи нельзя отдавать.
Его сосед заворчал на кричавшего:
– Партия – порождение маргинальной интеллигенции и церкви! Обе несли в себе мессию. Маргиналы, взяв власть, будучи террористами, лишили прав интеллигенцию и церковь.
Седой самодостаточный математик, философ-самоучка и диссидент, предсказывающий, что самая наболевшая проблема отношений между нациями погубит СССР, с безразличным лицом мудреца предупреждал:
– Заявляли, что новое общество, в котором национальные идеи исчезнут, будет создано в результате революции. Первая мировая война для многих была в этом смысле шоком. Как такой колоссальный кризис расколол мир на разные нации?
Он с сожалением оглядел присутствующих.
– Грандиозное опустошение человечества – оттого, что отбрасывается тысячелетняя религия, но нет ей более глубокой замены, и это грозит ей исчезновением. Блаженны кроткие, ибо наследуют землю. Нужно изменить представление о грядущем счастье как изобилии, дай бог выжить в суровых условиях.
Интересно, что он-то писал заявления в защиту жертв гонений диссидентов.
Профессор Турусов из президиума успокаивал шумящий зал:
– Философ Константин Леонтьев утверждал, что Россия никогда не была славянской, держалась византийским порядком и чувствами. Своей уникальной культурой обязана естественному сплаву идей Запада и Востока. Неразрешимая дилемма – централизация и демократизм. Решение у нас всегда в пользу первого, поскольку исключается возможность национального обособления, ведь, империя распадется. Без идеи централизации не будет российского государства.
Среди нас заворочался тяжелой тушей одутловатый диссидент Марк:
– Наш человек ни в чем не заинтересован – не несет никакой ответственности. Петр Первый гнал народ дубиной к счастью. Деспотизм и рабство – так до сих пор решаются проблемы.
– Сопротивление было! – встала из середины зала екатеринбургская историк-архивист, бывшая лагерница, маленькая седая, и вышла на трибуну.
– Огромное сопротивление, не только спрятанное в той массе репрессированных, не сдавшихся генной порче, но и в массе народной, жившей своим, отделенным от официозного. И сейчас, за модными изображениями бодряческой тупости и жестокости, существует не замечаемое доброе, открытое. Да, вы черните народ. Надо четко определить, от чего отказываемся? От разрыва слова и дела. Если общество провозглашает принципы (народ – высшая мера, и т. д.), а на деле не следует – значит, разрушает себя.
От ее слов все возбудились, кричали из зала:
– Варламу Шаламову ничего не дал лагерь. Не верит в литературу, поскольку гуманизм привел к ужасу столетия. Сейчас все, что выходит за документ, является ложью!
– Шаламов исходит из своего экстремального опыта, из опыта казнимого человеческого тела. Сколько жутких истин видится – с креста – о человеке, на дне падения! Но полная ли истина здесь пронзительно обнажается? Софокл прожил жизнь счастливо, но его истины прошли тысячелетия.
Седую правозащитницу сменил на трибуне осанистый доктор филологии из Института гуманитарных исследований. Вскидывая голову с разваленной по обе стороны головы шевелюрой, предупредил зал внизу о все белее угрожающей опасности, уже не от природы, а от общества. Человек в борьбе с природой победил, и оттуда возникли новые опасности: стал рабом уже не природы, а общества. Не хотят люди «начинать с себя». Идет борьба за выживание личности.
В президиуме профессор Турусов мягко поправил:
– Социализм рожден темным народным подъемом немедленно всего добиться – саблей. Потом народ прозрел, но аппарат насилия у бюрократии уже сформировался. Кровавые тридцатые объясняются борьбой бюрократического сталинизма с «народным сталинизмом» Кирова, Орджоникидзе и других. Были годы победы ленинской позиции потеснения бюрократизма: НЭП, решающая борьба в 29-м году, в годы войны реализм побеждал сталинизм, а XX съезд КПСС, а 85-й год… История нашей страны сводится к истории сталинизма. Ее содержание – борьба двух тенденций: бюрократически-сталинистской и демократически-социалистической, и реальное состояние общества было результатом этой борьбы. Так что, неясно, что создали. Сначала, надо описать, а потом приклеивать этикетки.
В зале молодая учительница звонким голосом прокричала:
– Все валим на Сталина! А для меня это глубокая история. Сами во всем виноваты – в растлении души. А ищем корни в Сталине, не хотим признаться. Главный стопор перестройки – в психологии людей. И хватит искать, кто этим манипулирует.
Вызывало сомнение само понятие «народ». На трибуне участник нашего Движения литературный критик, лысоватый, с выдающейся вперед бородкой, похожий на Сократа, острым взглядом окинул зал.
– Георгий Федотов писал: нация – не круг с точкой в середине, а эллипс с двумя центрами. Национальный характер может быть истолкован с разных точек зрения.
Серьезный писатель-фронтовик из переднего ряда прогудел саркастически:
– Это понятие относительное – когда надо, говорят: «По просьбе народа», а в иных случаях, когда народ требует, – не хотят! Не хотят раскрывать старые захоронения: где палачи? У партаппарата – оборонительные приемы: критика в свой адрес – это критика партии! Странное упорное нежелание расстаться со своим прошлым. Страх до сих пор, инстинктивное чувство перестраховки, как бы чего не вышло. Этот пласт, опора прожитой жизни – не даст осуществить грандиозную перестройку!
Композитор-фольклорист с добрым улыбчивым лицом, мощный, усатый, с волосами до плеч, рокотал:
– В угоду официальной линии адаптировалось искусство, наука, все сферы. Сейчас искусство, феномен зачаровывания, не останавливает ни от чего – ни от агрессии, ни от ярости. И музыка приобрела искусственное направление с ярлыком «народное». Это отбросило искусство на 100 лет. Для меня фольклор – музыка с более высокой технологией. Народные песни энергичны, для стрессовых моментов. Фольклор не умер, иногда умирает и вновь возникает. Люди стремятся «на землю», а значит, может вернуться их быт. Но может быть разрыв между городом и народной культурой.
Я считал, что народ, вернее население данного периода выражается в настоящем – спорах и драках партий, политиков, средств массовой информации, и это совсем не тот святой народ, что осел у нас в памяти от чтения классиков старой и новой культуры. Население живет земной жизнью времени, не понимая, куда его ведут.
Вышел к трибуне французский политолог, лысый еврей с отвислой нижней губой, успокаивая зал, осторожно обрисовал ситуацию в мире:
– Раньше противостояние обеспечивало мир. Сейчас конфликты обнажаются и разворачиваются. Соотношение уже не сил, а слабостей. Запад не располагает силами влияния и контроля. Универсальные права людей приобрели необычайную актуальность благодаря революции в средствах коммуникации. Возникли силы доверия и мировой солидарности. Оборотная сторона – агрессивность либеральных демократий по отношению к иным режимам. Не повлекут ли страсти обострение индивидуального и социального насилия, компенсируя утрату роли войны?
Как это верно! – соглашался я по поводу каждого выступления. Все еще был внушаем – верил одному оратору с, казалось бы, неопровержимыми мыслями, и тут же другому, тоже неопровержимо доказывающему противоположные мысли.
Мне понравился худенький академик Петлянов, с остренькой бородкой и в шапочке философа, член Совета Движения «За новый мир», которого прочили на звание «совести эпохи». Несмелым голосом он защищал философию непрерывного творения.
– Иисус возносил «употребляющих усилие» для восхищения Царствия небесного. Большая часть человека – вне его, он в становлении. Он – это постоянное усилие стать человеком, состояние не естественное, а творящее непрерывно, и культура – это не «знание», а усилие и одновременно умение практиковать сложность и разнообразие жизни.
Все наши трудности академик объяснял так: человек не может выдержать себя, а не другого, страшится, что у него там, внутри. Это ведет к войне, погрому, революции.
Это было и мое стремление – выйти за изгородь обыденного застойного сознания. Много в мире накоплено опыта и знаний, но они находятся в разобранном виде, неодушевленные, и оживают лишь в каждом отдельном человеке, который собирает и одушевляет их, наполняя своим смыслом. Только через отдельного человека оживает мир, и рождается свой собственный взгляд. Но трудно отличить в спорящих, кто собрал и оживил мертвый материал опыта и знаний поколений, а кто выдает чужое за свое, не предлагая иных убеждений, кроме внушенных пропагандой. И сознавая, что не умнее, мстительно набрасывается на инакомыслящих. Только осмысленный, оживший опыт поколений делает личность, идущую своей тропой.
Академик обрушил мою веру в бессознательное, лишь в котором истина, четкой фразой:
– Двадцатый век смешал все карты, это век чудовищного отвращения мыслящих людей к сознанию. Самое важное – восстановить историческое сознание.
Как же так? Слова академика сделали незначительными то, что высказывали выступающие, заставили задуматься. Вот, только что усатый композитор-фольклорист с добрым улыбчивым лицом говорил, а я даже записал: «Древние греки верили, что искусство останавливает. Они предпочитали монодическую музыку, одноголосую, то есть связанную с вокалом, органикой человека, более близкой, чем пианиста, который через механику доходит до струн. Я хочу снять автоматические навыки школ, вернуться к источнику – древнегреческой мелопее, использовать отвергнутые возможности. Убить в себе опыт, вернее, реально от него отказаться. Как живописцы переходили на простейшие вещи. Найти прямой контакт с мозгом – для этого нужен гипнотизм».
Это было что-то близкое мне. Сам этого хотел – очистить наносное в себе, вникнуть в природную суть, влекущую в иные состояния, где и нѐ жил. Уйти из обыденного сознания, утробно произносящего то, что вбито в голову.
«Утро красит нежным светом Стены древние Кремля…» Почему народ жил этой сказкой? Почему авторы создавали это? Потому же, что и Твардовский со своей поэмой «За далью – даль» о той Сибири, как вечной новизне. А она на самом деле может стать экологической бедой, где новые хозяева жизни натворят черт знает что. Это вечный отрыв в небеса. Жуткая реальность хочет улететь, романтически. Да и безопаснее это – подальше от реальности.
Было страшно – если исчезнет моя уверенность, что мир – это «родина всех», то во мне ничего не останется. Я считал рациональность, науку – созданием сознания человека, вообразившего, что он может описать объективный мир. Все научные мысли, теории, концепции – это попытки субъективных описаний модели одного и того же, бесконечно сложного и неделимого. Наука – это и бессознательное, и сознательное создание – всей жизни, всей истории.
Мне всегда хотелось вознестись в безгранично близкое, в оттенках переживания, не определимых словом, как счастье. Не ощущал неподвижного мира – в полете истина! Я был одинок, как любимый мной Бердяев. Считал, что мое – чуждо всем.
Как и многие молодые романтики, пытался писать стихи, как торжественную мессу, подобно Аллену Гинзбергу (увлекся этим американским поэтом). Но выходило декларативно, вычурно. Понимал, что способен возноситься лишь в состоянии влюбленности, при виде новых мест, на природе, смутно чувствуя радость, хотя весь погружен в обыденное.
Любимый профессором Турусовым философ К. Леонтьев уверял, что мораль может держаться только на вере в вечность, в высшие ценности. Идея всеобщего блага – пустое отвлечение мысли, мираж, суеверие на почве уравнительного благополучия. Добро, любовь не бывает отвлеченным, нужен адрес. Человечество не имеет адреса, там рассеивается любовь и добро, происходит нравственная энтропия.
Озадачивали слова этого философа: идеи гуманизма – иллюзия. Всеобщего счастья не ждите, всем лучше не будет. Адрес имеет только отдельный человек. Его колебания радости, горести и боли – такова единственная возможность гармонии на земле. И – всему есть конец. Надежда человека – в своеволии мысли. Лгущую жизнь должен опровергнуть разум.
Теперь я понял: познать глубину реальности – дело неподъемное, но именно в неподъемном – глубина реальности. Гегель писал: абстрактное мышление свойственно в основном невежественным людям: чем культурнее человек, тем конкретнее его мысль.
Надо ясно увидеть себя, все тяжелое занудство работы, и тайное, как во сне, отчаяние, страх за судьбу дела. В конце концов, не на нем только весь мир стоит.
____
После конференции я отвозил на своем «жигуленке» домой худенького академика Петлянова.
– Осторожно! – дернулся он в ремне безопасности.
Когда-то он пережил дорожную катастрофу – отказали тормоза его автомобиля, и еле спасся. С тех пор сам никогда не управлял машиной.
На сухом лице его было равнодушие мудрого старика, кому уже ничего не нужно. Умерли близкие, жена. Он устало говорил удивленно внимающему пацану о тщете экологических начинаний. Предлагал Комитету по ленинским премиям присудить работникам химфабрики, которые придумали замкнутый цикл производства, а академик Марчук, председатель Комитета, сказал: население жалуется. И не дали премии, а значит, не финансировали сомнительное дело, и теперь фабрика отравляет все по-прежнему. Она окончательно перекодировала окружающую природу, погубила ее.
Я довел академика до квартиры в блочном доме. Квартирка была маленькой, с простой мебелью и большим столом с рядами разных геологических камней. На стене висела историческая картина художника Репина.
– Сам подарил, – сказал академик, задумчиво глядя на картину. И стал ворчать:
– Дети… Повисли в воздухе, и не знают, что все это кончится одним – победят те, кто завладеет госресурсами и властью. И все мечтания обрубят в один миг.
Он вздохнул:
– Мечты, надежды – для молодых.
– А для стариков? – спросил я.
– Им нужна цель – больше, чем жизнь. Чтобы жизнь оборвалась прежде, чем достигнешь цели.
Уже не первый раз в моей голове тревожно возникала грозная тень тяжело шагающего командора – мистической силы, обладающей могущественными ресурсами, которая мимоходом сотрет в пыль все наши убеждения.
6
На петербургском телевидении степенные казаки из Карачаево-Черкесии, в папахах и с саблями на боку упрямо говорили:
– Боимся, что сделают они республику, и начнут нас вытеснять, язык свой внедрять за счет русского. Выход один – создать Казацкую республику. Нам нужно себя защитить. Ельцину не верим, не защищает русских.
– Говорите: национализм? А где русская территория? Там, где другие национальности – везде нас гонят! У вас в Петербурге есть русская граница? Где? Нужно русским объединяться.
Избранный депутатом профессор Собчак возмущался избиением в Тбилиси. Ужасная сила поперла, защищаясь щитами, работая саперными лопатками и слезоточивым газом. Погибло много людей. Конец административно-командной системы.
Белорусский писатель Василь Быков пишет о преступлении сталинщины – ликвидации традиционной общественной морали, духовной основы, без чего утрачен здравый смысл, о конфликте власти и населения в Беларуси. Интеллигенция сращивается с бюрократией. Добились, что белорусского языка не хочет уже само население. Белорусский язык стал малонужным – общество не создало для этого условий.
Национальные фронты республик Прибалтики вообще полны непримиримости и эгоистической радости свободы. Молодой ведущий «телекиллер» Невзоров решительно бросил из телевизора: «К власти в Литве пришли шестидесятники, поры Пражской весны проникают везде».
В Литву приехал Горбачев. КПСС – в гости к КПЛ? Что такое отделиться? Значит, рвем отношения? И уговаривал: отдельно нам нельзя, ибо все взаимосвязаны. Страшился распада, что разделит границы, вызовет жестокие распри, пройдет по сердцам разделенных семей. Неудачи перестройки, от которой зависит судьба всего мира, ибо инерционные силы могут все вернуть вспять. Мол, все идет к открытию мира, народов, партий, и зачем еще отделяться? Да и нет абсолютной свободы.
Литовцы отвечали корректно: спасибо, что делегация из России кое-что поняла в Литве.
Мне хотелось видеть эти республики отделенными, самостоятельными, без злобы обращений в ЦК, без охранительного испуга с нашей стороны. В то же время во мне шевельнулось ослабленное верой в свободу что-то имперски пристрастное к ним. Казалось, что позиция Горби гуманнее, он обращается через головы идей – просто к человеческим сердцам. Творить сотрудничество, а не разлетаться, не множить зло.
Открытие границ в ГДР, торжества объединения Германии, она выходит вперед – ЕЭС окрашивается в германские цвета (кто же был победителем в войне?) Югославия становится пробным полигоном грядущих перемен, стремится доминировать на Балканах, пробивая дорогу к морским воротам на Ближний Восток. Сепаратистские силы зачеркивают идею федерализма.
В Чехословакии началась «бархатная революция». Основатель Народного руха Украины Вячеслав Чорновил предупреждал, что на Украине возникла угроза тоталитаризма, на местах остались партийные кадры, власть назначает своих наместников. Потому не идет переход к рынку. Выход – в конструктивной оппозиции.
В Польше избран рыночный путь. Смена власти в НРБ. Венгрия открыла границу Австрии, пробив «железный занавес». Даже в Тунисе демократия – после долгого застоя при императоре, после его смерти.
Расстреляны Чаушеску и его жена. Якобы, из-за сохраняющейся мощи его сторонников. Стенограмма скорострельного суда над ними. Какие обвиняемые, такие и судьи! Наконец, развязали ужас насилия.
Завсегдатай на посиделках в исполкоме общественного Движения отставной кегебешник Геннадий Сергеевич удовлетворенно вздохнул:
– Правильно убили. Десант мог их перехватить.
____
Мартовский снегопад, глубокие лужи. В атмосфере ощутимы аномалии. Может быть, это конец света?
В моей голове сплелись в нераспутываемый узел сложные противоречивые мысли. Где та конкретная цель, которой, как полноводная река, должно заполниться содержание моего общественного движения, от которого все столько ожидают? Как бороться с другими, когда борешься сам с собой (Ортега-и-Гассет)? С другими борются фанатики. Фанатик – для себя окаменелость, борец за веру. Лишь те, кто не мыслит себя, стремятся убеждать остальных. Похожи ли такие аскеты, как я, на фанатиков?
Меня влекло к мастерам пера и кисти. Я считал, что суть человека выражает только творчество, искусство подлинное, – то есть то, что передает оттенки действительных переживаний, честных отношений времени. Там и надо искать цели нашего общественного движения. Не в том, что склонно принимать желаемое за действительное, приподнимание действительности социалистического реализма. Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман. Возвышающий, ободряющий, утешающий.
Я был наивен, простодушно верил в силу литературы, и до сих пор занятия поэзией кажутся самыми лучшими, самыми нужными минутами жизни. Почему? Верил в очищение мозгов внезапными озарениями, если их гениально подвигнуть? Хотя уже приходят сомнения. Люди хотят жить привычным – им не надо прозрений.
Приятель Юра Ловчев пригласил меня и Гену Чемоданова в Дом литераторов, где он был техническим секретарем, – то самое здание Массолита, бывшее дворянское гнездо подковой, с двориком и фонтаном в центре. Здесь решалась творческая и личная судьба писателей, здесь они вычеркивались из жизни и литературы.
Там создавался новый Союз писателей РСФСР, похожий на нашу, аморфную общественную организацию.
– Сюда приходил Солженицын, я его выгнал, – скороговоркой выстреливал Юра, сопровождая меня в Большой зал ЦДЛ. – Теперь прославлюсь, как гонитель истины.
В большом покатом зале сидели разнообразные люди с внушающими почтение и простецкими физиономиями. Седовласые, одетые как артисты, с бабочками на шее, ощущающие себя избранными, и не озабоченные своей внешностью, и молодые горячие в простых одежках.
Главной темой было отступничество журнала “Октябрь” во главе с Ананьевым и “русофобство” его авторов. Лысоватый поэт и публицист с дряблой кожей лица и узкими глазами, выступивший первым, обозвал “Прогулки с Пушкиным” Синявского, напечатанные в журнале, русофобией и надругательством над Пушкиным.
– Совершенно ясно, – кричал он, – это хулиганство, причем не мелкое, а крупное!
Осуждали «отступников-русофобов» до истерики. Красивая поэтесса, но с намечающимися брылями на лице, защищала национальные ценности, под бурные аплодисменты зала с пафосом продекламировала, обращаясь к сидящей кучно редакции «Октября»:
– И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь!
Знакомый массивный бородач в роговых очках, критик-соцреалист и член Президиума правления Союза писателей СССР, подвел даже теоретическую базу:
– Существуют – и об этом надо смело сказать и прямо – существуют две культуры! Покопаемся – найдем три культуры, так сказать… Мы должны смело и прямо посмотреть друг другу в глаза и сказать, что имеем две культуры, в частности, так сказать, – культуры национальные и культуры наднациональные. Почему мы должны идти на поводу у людей, которые не признают нашу культуру?
Бурные аплодисменты.
Меня поразили утверждения, что в правлении Союза писателей в основном господствуют евреи. Впервые увидел антисемитов. Может быть, что-то упустил в жизни? Откуда это? Никогда не слышал об антисемитизме в своем кругу. Не потому ли, что при распаде страны на национальные государства поднял голову национализм?
Кто-то с места зачитал открытое письмо к Пленуму поэта-барда Юлия Кима:
Во мне кошмар национальной розни!
С утра я слышу брань своих кровей:
одна вопит, что я кацап безмозгий,
другая – почему-то – что еврей.
А вам скажу, ревнители России:
Ой, приглядитесь к лидерам своим!
Ваш Михалков дружил
со Львом Абрамычем Кассилем,
а Бондарев – по бабке – караим!
В зале кричали:
– Самое худшее сейчас взяли у большевиков – национализм, который до сих пор был у них скрыт!
Толстый бородач в роговых очках, тоже увидевший в подцензурном альманахе «Метрополь» исчадие ада в показе страны, доказывал, словно оправдывался: нужна борьба идей, а не личностей. Литература соцреализма состоялась, и там много талантливого. Нужны кропотливые исследования истории литературы.
– Усложнилось управление обществом в условиях свободы, – подыгрывал он новым веяниям. – А старые кадры думают по старинке – стремятся усилить командные начала. Не видят другого выхода, потому что не компетентны. Отсюда опасность – из жажды упрощения, облегчения бремени власти. И что? Могут получить шанс. Наше спасение – открыть простор для механизма саморазвития. Человеческую голову – на первое место!
– А сейчас – подхватил кто-то, – дорогие углы сметаются, любовь к отечеству шельмуется, любовь превращается в секс…
Возмутил всех молодой писатель, участник подпольного журнала «Метроном». Он словно выдал мои мысли:
– Место критики – в лакейской. А то – швейцар смотрит министром, официант подает еду с отвращением. Критика завоевала себе место власти, как партком или суд. Хам добился власти без всякого на то права. Выдавая себя за Белинского, он поставил себя выше писателей, навязав систему идеологического чтения, отчего интерпретация превращается в судебное разбирательство. Наше время вынашивает это критическое чудовище, впитавшее традиционное представление демократической критики о ее общественной роли, и научные претензии формального метода. Стремятся оприходовать свободное творчество. Шариковых-критиков надо превратить в Шариковых.
Меня поразила странная упертость делегатов в свои внутренние распри, они совершенно забыли о том, что творится вокруг. Словно время для них остановилось.
Хотя какое я, профан, имею право только на основании смутного недоброжелательства судить о новом, не определившемся Союзе писателей? Разобраться бы в своем общественном движении!
И почему-то, выпав из ситуации, текли мысли: человека нельзя оторвать от словесно-зрительной сути его единства со временем – через живые споры, газеты, радио и телевидение. Поэтому то, что там выдают, то есть идеологию, от человека не оторвать. Редко кто выходит из этого потока и способен оценить его здраво. Фанатики выбирают свое, сомневающиеся – сомневаются во всем.
____
Юра Ловчев повел нас с Геной в знаменитый ресторан. Спустились по деревянным ступенькам вниз. Там за столиками, под затейливым стеклянным абажуром, сидели известные писатели и поэты.






