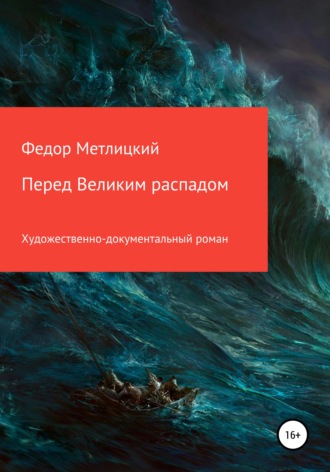
Федор Федорович Метлицкий
Перед Великим распадом
Он дергался невпопад, вызывая ощущение дисгармонии. Мелькали его кажущиеся неопровержимыми афоризмы:
– Трезвая ясность дневного Пушкина… Созерцательный аскетизм Гоголя… Созерцательный эстетизм Тургенева…Православная реакция Достоевского… Буддийское неделание Толстого… Лермонтовская действенность ночного светила, его ницшеанство: не понял христианства, не захотел смириться – и погиб. Метеор, заброшенный из пространств. Воля без действия, без точки опоры, в пустоте. «Они не созданы для мира, И мир был создан не для них»…
Я был поражен скорострельностью афористических перечислений классиков. Сальный, как я окрестил его про себя, выпуливал:
– Достоевский понял на эшафоте, что все революции ничего не стоят. Победа или поражение – приводят к эшафоту тех или других.
– Вы за кого? – выкрикнули из дальнего стола. – Непонятно!
В ощущении, что не допили, участники стали пересматривать всю литературу, все, что устоялось за годы и века.
Журналист и критик с изможденным лицом, у которого репрессировали родителей, пьяно выдавал то, что наболело, бросая в лицо сидящему напротив крепенькому, юркому литературному критику из правления Союза писателей:
– Это ваша ведомственная литература, с булгаринской верноподданостью. Константин Симонов полу-лжец. У Горького была ложная идея – о перевоспитании врагов, переделке мира, которая привела его к восхвалению Сталина. Идея фашизма. Подлинная литература видит корни, разрезает ножом реальность, и оттуда – ваш трупный запах.
Юркий критик, сидя за блюдом из бутербродов, не удостоил ответом.
Общий пьяный гул.
– Позор!
– Вы за честь русской литературы не опасайтесь! Опасайтесь за свою!
– Взгляд сквозь литературу искажает реальную жизнь, теряется чувство действительности. Отсюда – замена истории чем-то мессиански-эсхатологическим. Фатальное нежелание вернуться в реальный мир.
Беспорядочные аплодисменты.
Непьющий Гена Чемоданов был серьезен.
– Рухнули престижи. И это больно ударило по психике. Попытки спрятаться в прошлое… Выращены несколько поколений нерелизовавшихся людей. Компромисс – это саморазрушение, посмотрите фильм «Полеты во сне и наяву», там тип инфантильного дилетанта. Советский человек инфантилен, несвободен в предпочтениях и поступках – государству удалось поставить его в жесткую зависимость от себя. Поэтому совок бросается в спекуляцию, когда объявили капитализм. Иной веры теперь нет. Интеллигентом теперь быть невыгодно. Рынок востребует очень узкий спектр способностей. Все мельчает, не видно вариантов. Кризис наметил новые подходы к пониманию себя и окружающего мира.
– Кончай лекцию! – кричали ему.
Задев меня, встал повеселевший Юра Ловчев.
– Пушкин – высшее проявление русской универсальности, в сталинские годы стал бы государственным поэтом. В среде появившихся имперских чиновников, со всемирными установками.
Напившийся Батя трепался, гогоча:
– У Мандельштама и Пастернака было какое-то притягивание к Сталину. Что-то от старого инстинкта – быть, как все.
Со всех сторон кричали:
– Безумие Мандельштама, окаменелость Ахматовой (вас нет! Я в пушкинской эпохе!), – дело рук брадобрея, держащего лезвие у горла.
– Маяковский, с его трагическим сознанием, еще в молодости думал о самоубийстве. Но первый примирился с царями, создал миф о революционном государстве, – это был его курс лечения трагического сознания.
– Нет! – закричал стоящий с другой стороны мордатый поэт-шестидесятник. – Он и футуристы проложили дорогу сталинской диктатуре, так как были антигуманистами! Люди, считавшие, что за революцией высшая правда, что можно не считаться с частным, советские романтики взяли на себя грех. Не отражение бытия, а преображение, вмешательство. В этом смысле соцреализм – наследник авангарда.
– Нам чудилось, – повел он очами, – что в поэзии есть нечто экзистенциальное, оправдание и искупления этой переломанной жизни. Еще немного, и появится текст, равный религиозному, искусство станет теургическим, объединит божественное и жизненное начала. Но напрасны были эти максималистские усилия и надежды.
Что он порет? Я еще верю в спасительность такого текста. Напуганный провинциализм!
– Может быть, мы были комедиантами в трагедии невиданного размаха? – пьяно сникнул мордатый поэт. – Потому у нас все лопается мгновенно. Даже самые признанные деятели сбрасываются с наката мгновенно.
Начинающий критик с бородкой от уха до уха и в рубахе с поясом – внешностью второразрядного писателя-народника из прошлого, до сих пор скромно молчал, а тут, подвыпивши, принял боевую стойку. С испуганно-нагловатой усмешкой скороговоркой отрицал всю нынешнюю литературу:
– Инфантилизм… Андерграунд – всегда дополнителен, необязателен. В этом смысле вся советская культура – андерграундна. Провинциальные самоделкины – после Шекспира, Пушкина, Ахматовой. После двухсотлетнего развития русского стиха – Евтушенко! Толстого, Набокова представить себе выпоротыми невозможно, а выпоротых беловых, распутиных – можно.
Он был известен фразой: «Окружающему миру противопоставлено ранимое, но вместе с тем с иронией относящееся к нему всезнающее я».
Критик с изможденным лицом зло засмеялся:
– У него уровень диалога: «Сдавайся, ты убит! Падай, а то играть не буду!» Самомнение, самозванство и богоборчество. Скучноватый нарцисс. Не любит всех, с кем был, о ком пишет. Свободен от вины и ответственности, абсолютно! Отбрасывает все, что нарушает внутренний покой, замыкается на себе, и тогда вновь приходит гордыня и довольство собой. То же, когда сделаешь пакость другому. Обнажиться перед другими – невыносимо. Более легкий путь – отгородиться, считать пакостниками других.
Я испугался, что высунься я с моей обидой на иждивенцев, и этот критик уничтожит меня, как уничтожил этого задорного пацана.
В шуме за столами автор детективов Костя Графов, от которого, словно от природы, пахло спиртным, но на вид совершенно трезвый, солидно успокаивал:
– Пошло поветрие – перетряхивать всю культуру. Переоценка писателей, вместе с грязной водой выплескивают и ребенка. Пишут о Булгакове, как неотделимом от советского строя антисоветчике. А о романе "12 стульев", якобы, его суть – в апологии строя, осмеянии интеллигенции. На самом деле это роман-трагедия неиспользованных возможностей – социализм задавил талант предпринимателя.
Батя беспокойно ерзал, желая продолжать речь.
– Ты, гений одной ночи, – косноязычно осаживал его Коля, он был в привычной форме. – Написал всего одну строчку своего романа: «Смеркалось…», и уже готов учить. Сиди.
Молодая наша участница, хореограф, в веселии кружилась на месте, показывая свободу в танце. Отрывисто говорила, что ищет главного телодвижения – гармоничной свободы. Танец – это помощь телу и духу расковаться, раскрыться – в небо. У нее все связано с мировым танцем: из Индии едут раскованные цыгане – разносить свободный танец по миру. Свободен испанский танец фламенко – танец пламени. Она словно спасалась распахом в танце.
Осмелев от выпитого, я упрашивал:
– Может быть, кто-то предложит идеи для разработки программы общественного Движения «За новый мир»?
Оборачивались в недоумении.
– Это ваше дело – формируйте из наших споров программу. Для этого вы и избраны.
– Валяйте, – крикнул кто-то. – А мы отшлифуем.
Журналист и критик с изможденным лицом, у которого репрессировали родителей, усмехнулся:
– Ваше Движение с иррациональным необъяснимым названием «За новый мир», как и известный журнал в голубой обложке с таким именем, предполагает потустороннее в отношениях. Это все оттуда – из эйфории!
____
Я был растерян. Во всем этом словесном вихре не мог четко определить, где дорога к единству, а из гуманитариев никто не мог конкретно помочь.
В мире гуманитарной логики живут авгуры, судящие о судьбах по полету птиц, но не знающие конкретного плана. Да и все верящие в абстрактный гуманизм. Романтики, а не профи. Убеждения их могут меняться вместе с курсом партии.
В ядерной физике Сахарова такой расплывчатостью не отделаться. Я верил таким ученым, как А. Ф. Лосев, который писал из лагеря: «С затаенной надеждой изучаю теорию комплексного переменного. Думается мне, что тут скрыты какие-то глубокие и родные тайны. И сама-то математика звучит, как небо, как эта музыка». Вот настоящая конкретность выражения родного душе.
Гуманитарии же толкуют о катастрофе, ругают правительство, вместо того, чтобы помочь повернуть к реальной реструктуризации экономики, от чего зависит и судьба Движения «За новый мир». Популизм, полная безответственность!
Я все еще не сознавал, что это невозможно, – вместить в одну цель разнородные идеи.
Те, кто теоретизирует на общие темы, большей частью не профессионалы. Не как люди науки или ворочающие неповоротливым рычагом экономики, от которого зависит жизнь людей и народов, профессионалы, доказывающие экспериментом и точной логикой.
Но надо видеть необозримое поле деятельности, а в нем найдется место для моего Движения. Надо устраивать реальную жизнь. Вовлекаться в прозу, нехорошо раздражающую, с обидой на не отвечающих ни за что. Как здесь достигнуть полета?
Вырисовывались цели Движения: борьба против коллективного «совка», утверждение приоритета личности – пропагандой, включая наш журнал.
Но журнал Движения казался мне скучным, как статьи экологов, о которых никто не слышал на фоне политических страстей. У набранных журналистов не было лица – они повторяли готовое из новых идей.
8
Профессор Турусов выговаривал мне.
– Дима, вы что порете отсебятину? Зачем собираете литераторов? Есть программа, утвержденная Советом. Лучше бы собрали кооперативщиков, у кого есть деньги.
Я не мог понять, почему он так раздражен?
– Уточняю аспекты программы, ведь, ее надо наполнять живым делом.
– Ваше дело искать средства, а не болтать.
Я обозлился.
– По моему, болтаю не я.
– Вы поставлены на дело, чтобы обеспечивать ресурсами наши программы. А иначе – зачем вы нам?
Он резко вышел. Может быть, ревнует к литераторам?
Все переходят на предпринимательство. Я создавал кооперативы при Движении, но не мог их обеспечить самым необходимым – средствами и ресурсами. Они сами как-то выходили из положения, и брать от них взносы было стыдно. И предчувствовал: это и будет разрушителем Движения.
Я сознавал, что не профессионал, но хотел работать с профи – они не иждивенцы по определению, потому что заняты сотворением новых продуктов. Страна, не умеющая привлекать профессионалов, гибнет от неумех.
Зам президента доктор Черкинский предложил взять дело кооперации на себя. На самом деле это походило на присвоение результатов трудов исполкома.
Мне по-прежнему приходилось работать с кооператорами. Они приходили, жаловались на дороговизну материалов и невозможность работать.
Только кооператив «Система» обходился своими силами, упорно собирал в надежде на будущее все проекты изобретателей, которые обивали пороги государственных учреждений и массово игнорировались.
Я попытался сотрудничать с неким государственным фондом, ее директор, веселая и ловкая крупная женщина, давала кредит под 70%. Пришлось взять кредит и сразу перечислить ей «откат» – почти всю сумму.
***
На даче я старался оторваться полностью от тяжелого ощущения бремени выживания организации, которую не мог сделать устойчивой, и почему-то нес, и не мог бросить.
Есть масса работающих людей, живущих вне нервотрепки социальных отношений. Занятых своим делом и не знающих, что происходит вокруг. Это тоже целая жизнь, полная трудов добывания пищи для семьи, свои волнения и страхи.
Совсем забыл о природе – из-за того, что живу в каменных стенах, и только духом – не телом.
Стоит только отключиться от звонков просителей, от шума улиц, от радио и телевидения, и сразу все становится спокойным, ватным, и хорошо размышлять о главном. Это настоящее лечение природой – копать, сажать, поливать, медленно двигаться с электрокосилкой, упераясь взглядом в зеленое марево, видеть оттаянное подобревшее лицо жены Кати. Холодно и отстраненно от раздражающего, что делается среди людей. Я участвую в глупой борьбе амбиций, мешаю отчужденной группе людей, озабоченных какими-то своими целями, безжалостных, как в любой борьбе эгоистических страстей.
Жена раздражалась.
– Уходи ты из этой ямы со змеями! Куда-нибудь в школу! Станешь уважаемым, толковым учителем. Тебя тянет глобальное. А в нем нет ничего, кроме болтовни.
– Ты за малые дела, как героиня Чехова?
– Не за малые дела, а за то, за что могу отвечать. Надоели эти ваши излияния принципов. Все по-своему правы – жизнь сложнее принципов.
Жена была права: уйти в эту мирную жизнь на даче, где можно любить даже таких, как менеджер Резиньков, всех произносящих неправильные идеи, любить жену, незаметно создающую ауру близости и благополучия, без чего человеку невозможно жить.
Но не мог бросить то, чему отдал так много сил, чем жил, и лелеял великие надежды. Нет, я стал отвечать за свое дело, как за саму жизнь. Бросить все это было бы страшно и постыдно. Да и как жить без средств к существованию? Куда пойти работать, когда все валится?
Она меня любит (за неимением другого, – говорила она), и это главное. Хотя принципиально не хотела знать основную часть моей жизни, в том числе внутренней. Может быть, пряталась от страха за меня? Наверно, поэтому мы ладили.
Я копал грядки, и мы сажали картошку, капусту, салат и лук, чтобы выжить зимой. Потом Катя ушла рассаживать семена цинии перед домом. Я возился под моим жигуленком, с отрадным мужским чувством техники. Есть что-то утишающее боль души – в этом копании в двигателе, в какой-то надежде на вольное бытие здесь и там. В этом зеленом огне жизни, чем и нѐ жил, к чему был предназначен рождением, всей бедностью и бедой моей юдоли земной: что – мне? Что – дало? Что убивает всю мою судьбу – сейчас? Вот оно – в упор, смертельное!
Автомашина для меня, как и любого обывателя, – это иллюзия свободы, мечта о независимости, о собственном пространстве, отгороженном от чужих. Да, это так. В изнурительных стрессах всеобщей зависимости – это вечное чудо собственной скорости. Воля движения, прятанье в интимное свое. Хотя это иллюзия, все равно живешь в социальной тяготе.
Подходит сосед Веня Лебедев, техник и программист из НИИ, он всю жизнь возится со своим старым жигуленком, умеет оживить любую технику. Он часто помогает мне чинить машину.
Мы беседуем на крыльце.
– Я страшный милитарист, – говорит он, затягиваясь «Примой». – Рад буду, если для России что-либо завоюем.
Я возражаю, но напарываюсь на стену.
– Диалектическая борьба – вот что в жизни главное, – назидательно говорит тот. – Люди хотят власти над другими.
Во мне совершенно нет к нему идеологической неприязни, как это бывает к другим фанатикам. Может быть, меня покоряют профессионалы, для кого политика – дело второстепенное. Надо делать свое дело, чтобы не ложно видеть главное, – в будничном деле не существует глобальной борьбы.
Я не вижу впереди, для чего работаю, с моей организацией. С претворением моей цели в творчество как-то не получается.
Неужели есть другие, кто видят цель «больше жизни»? Или просто «крутят» свой кратковременный бизнес, чтобы хапнуть и убежать? Люди в своих коренных интересах, наверно, иначе смотрят, чем я. Мои профессорá? Вряд ли, они заняты собой, и чтобы не отобрали то, что у них есть.
Последние годы я жил работой по спасению Движения, то есть чем-то глубоко задевающим, всей немилосердной жестокостью, и в то же время моей опущенностью в это зло – источником зла для других. Ибо пропала высота, свет, человеческая снисходительность.
Какова во мне сила жизни! Вопреки всему усвоенному из любимых книг, идеальному, вопреки всем трудностям жизни, – стремлюсь ухватиться за остов разваливающейся жизни, чтобы вытащить организацию, за любое прочное, что может обеспечить – деньгами, чтобы прожить безбедно остаток жизни посреди страшной дороговизны.
Вечером, в глубоком равнодушии, поднимаюсь по неправильно сколоченной лестнице к себе наверх. Смотрю на самодельные полки старых книг и журналов, подшивки «Огонька», действительно хранящие огонь прежних лет, и отставную советскую классику. Застойные книги, отправленные мной в ссылку. Союз маститых писателей организовал уютное Переделкино, стал играть в издания – не для исканий смысла, а для славы и денег. И вот, все это не нужно никому. Сколько сил потрачено зря на макулатуру!
Потерявший дневную боль, лежу с томиком прозы Мандельштама. Он летит в мировой катастрофе, трагедии личности Средневековья, в жажде архитектурной гармонии. Читаю «Прогулки с Пушкиным», заполняя пустоту души вампирским наслаждением любви во время чумы, и насыщаясь чужой кровью, дивным благоволением ко всему. И словно раскрывается вся душа предметов и явлений. Наверно, равнодушие пустоты не безвозвратно, скоро проходит.
Ночью приснился сон.
Я стою, объятый ужасом, притаившись в густой листве бесконечного дикого леса, один среди непонятных шорохов, у самых глаз нависли спасительные ветки. Где-то снаружи страшный враг, готовый намертво ухватить зубами горло. Я зверь, создание природы, вместилище защитных приспособлений для спасения от страха, опасности за жизнь. Чу! – шарахнулся враг. Инстинктивно метнул копье – кто-то охнул и завалился. Спасение! Еще день уверенности в завтрашнем дне. Освобождение от ощущения унижения страха, приток ницшеанского здоровья и силы. Демоны защитили меня!
Я не знал, что это назовут на Руси аморфным язычеством, и что христианство принесет мир и согласие с природой – чудо, создание Бога!
Слышу споры откуда-то из будущего, что природа враждебна человеку, неизбежно поглощает его в своей земле. И вообще в ней вытесняют и поедают друг друга растения, живые существа. Человек пришел, чтобы внести гармонию в природу. Но почему же не цивилизация, а она навевает такое благоговение и священный ужас?
Зашел в свою пещеру. В ней, наполненной горловыми звуками волосатой родни, такая таинственная поэзия спасительной общности, которой – чувствовал – никогда больше не будет в моей жизни. «Э-э-э», – воркует моя семья. Это похоже на авангардную музыку, настоящий лаконизм языка-междометий древности, с его поразительной экономией. Что-то вспоминается – многоречивое, многоглаголющее, расхристанное, газетное, – какие-то смутные тома на полке.
Разжигаю кремневым кресалом огонь в пещере. Задним умом соображаю, что человек уже стал хозяином огня, который принесет огромные опасности. Дальше будет наука и техника, которая будет иметь двойственную природу, и надо научиться овладеть этим хозяйством.
Тепло от жара, в котле булькают куски мяса оленя, убитого мной.
Каждый занят своим необходимым для всех делом. Нас мало, и каждый ценен, как целый мир. У моей волосатой родни, еще такой небольшой, не могло быть врагов внутри трайба, серьезная угроза могла возникнуть только вне его, скрытая за густой листвой леса. Бич голода гнал нас на поиски пропитания, чтобы не погибнуть. Мой род нашел способ кормиться – стали собирать разные злаки – дары природы, а потом сами сеять собранные злаки.
В углу умирал старейшина, досаждая нам хрипом. Мы думали: скорее бы… Никакой истерики, естественный цикл природы.
Только обстоятельства голода и выживания могли корежить наши души враждой. Я не представлял, что кто-то из моей малочисленной родни может надеяться на одного вождя, как, смутно видел, в грядущих поколениях «совки» будут надеяться только на одного человека. Ибо устройство нашего маленького общества не переносит иждивенцев, как и устройство природы, хотя боялись демонов. Мы не догадывались, что возникнет вражда не только между племенами, но и внутри нас, и это разрастется в истории до предела – угрозы уничтожения всех в ядерном взрыве.
После обильной еды из убитого животного и вареных злаков я взял кресало и начал высекать на каменной стене рисунки – мои демонические восторги и страхи. И не думал, что мое искусство может перейти во враждебное противостояние с природой, и что в нем – само спасение, любовь, внутренне примирение со всем живым.
Я бессознательно живу веками напряженной культурной жизни, чувствую эпохами. Словно одновременно умудренный последующими поколениями, размышляю: я, кого назовут кроманьонцем, такой ли, как будут мои потомки: эгоистами, смиряющимися с злодействами тирана, «как бы не было хуже», из зависти готовыми порвать успешного или признанного людьми, и т. п. Нет, я не такой, люблю жизнь, моих близких, за которых могу порвать любое зло, и благоговею перед демонами, руководящими миром. Значит, и то, что говорят обо мне в будущем – неправда. Я мог убить, зарезать свинью ради существования рода, – не более того.
Кажется, раздваиваюсь. Вижу, что с тех времен ничего не изменилось. Хотя биологический вид человека изменился, прекратив совершенствование его внешнего облика. Введен ряд табу: «Не убий», «Не прелюбодействуй» и др. Чувствую, мое дохристианское сознание мало изменилось: во мне как не было, так и нет внутривидовой борьбы, изменения нравственных ценностей. И в плане формирования общества из многих объявившихся родов и племен происходит та же непримиримая борьба, еще более жестокая, с использованием оружия массового уничтожения. Обособленность, национализм – лишь одна из форм кроманьонского атавизма.
Нравственность сложилась гораздо раньше, чем религия. Может быть, это врожденный человеческий инстинкт. А мы считаем христианство – единственным нравственным спасителем…
На меня надвинулось настоящее, где возникло столько горечи. Я просыпаюсь, как будто от падения в бездонную яму. Одновременно чувствую себя астронавтом, очень одиноким, увидев со стороны свое жилище. Язычество на Руси было аморфным, христианство принесло мир с природой, как начертал Бог-Творец. И – любовь к людям, примиряющая внутренние страсти. Разошлись с природой со времен Ренессанса, преображавшего ее. Природа – служанка, мастерская. Это связано с городами, деревня природу не портит. Город – царство, деревня – рай.
Единство природы и человека утрачено. Природа переходит в дикое враждебное состояние. Если мы поймем, что живем в саду, тогда будем не рубить, а сажать. Пейзажное мышление у русских – это религиозное познание. Здесь корни русского самопознания.
Это я где-то вычитал? У какого-то бородатого философа.
Поэт Г. Айги писал о сне. Больше всего сна в неангажированной литературе. Это Укрытие, Спасение. Публичная правда – место ли для сна? Это любовь к себе, безгрешному. Поэзия сна – неконтролируема, полна. Незрительная атмосфера сна иногда впечатляет больше, чем само сновидение (счастье во сне). Сон-Мир-Вселенная – это присутствие всего, душа видит своим зрением. Сон-Творец, Лета (обморок, в котором, где-то в смерти – был Лазарь). Нет-Сон (бессонница), Сон-Страх усиливает угрозу, Сон-Омовение – уносит кошмары. Внезапное пробуждение во тьме – словно в закоулке какой-то вселенной, пустынной Туманности…
Что-то слишком мудрено. Сон обнажает скрытые страхи, счастливые моменты или сексуальные желания. И чаще всего обрывается предчувствием чего-то ужасного.






