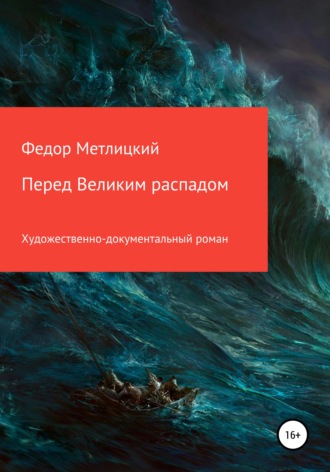
Федор Федорович Метлицкий
Перед Великим распадом
20
Дома попросил сосед отвертку – не дал, мол, на даче, хотя где-то в машине она есть. Я чувствовал одиночество, наверно, как тот одинокий сосед, который когда-то повесился в своем доме на садовом участке рядом. Почудилось, никто никому не нужен – вот что страшно. Отрадно, у кого есть семья. Моя семья: мы трое, с женой Катей и пуделечком Норушей. Говорят, любить можно только близких. Семья и друзья – это достаточно, чтобы счастливо жить. Даже предлагают идею укрепления семьи в качестве национальной идеи. Перед этим – все потуги на широкий взгляд, все философии меркнут. Но мне еще чего-то недоставало. А как быть со свободой? С любовью к творчеству, когда «в глазах моих прозрений дивный свет»?
Во мне выработался аскетизм, чуждость к жизни для себя, для удовольствия, для наслаждения с любимой (кроме сексуального). Что-то страшное есть в этом настрое. Упертость в нелюбимое дело, обида на сотрудников, увиливающих от работы и живущих для себя. Отмирание обычного человеческого удовольствия жить.
На работе не видел никого могущего справиться со сложным делом, и приходилось самому продолжать везти воз, и так влез в работу, с реорганизациями и проч., что и передать некому – никто уже не в курсе.
Не мог выгнать иждивенцев в нашем офисе, увиливающих от работы. Это можно только через суд, а для этого нужен конкретный проступок. Лентяй – это законодательно недоказуемо.
Но это же народ, ради которого я мучаюсь! Приземленный работяга Сергей Григорьевич, интеллигентный Резиньков, мамина дочка Лиля, еще не знающая, что такое работа. Почему же я чужой им? Я такой же, а с точки зрения профессора Турусова – такой же чужой, как и мои сослуживцы. Вот откуда берется равнодушие!
____
Городской суд отказал бывшему первому заму Черкинскому в иске к Движению, решив сомнения районного суда. Отклокотали распри с ним, бывшим замом – через газету «Московский комсомолец». Там он назвал меня щелкопером.
Но вчера позвонила домой уволенная консультант Нарциссова, ядовито напомнила о повестке в суд, куда они с Резиньковым подали иск о восстановлении на работе.
Предстоит новое разбирательство в суде. Я поборол в себе угнетенное состояние. Не помогает мое единственное лекарство – смотреть со стороны, иронически.
Различие сторон в том, что одни берут вину за существование в страшной системе на себя, делая свой выбор и решительные действия наугад, а другие – не знают даже, в чем винить себя, все сваливают на других людей, на «ошибки». Гоголевские поручики Пироговы – особый тип людей.
21
На литературном вечере в Центре дискуссий, за «круглым столом» стали громче голоса бодро настроенных самоуверенных людей, устрашающе переворачивающих представление об искусстве и литературе. И размежевание усилилось, общественное движение «За новый мир» казалось, разваливается.
Начал филолог и теоретик искусства, высокий, модно небритый, с откинутыми назад прямыми волосами, который участвовал в наших дискуссиях раньше.
– Возможно существование традиционного и нетрадиционного искусства, под ними есть свои жизненные основы. Не альтернатива официального и неофициального искусства, а проблема соотношения старых изобразительных традиций и поэтики авангарда (абстрактных и вненатуральных построений, ликов натуры в ассоциативных, преобразующих, гипертрофированных и иных формах, целостных объектах натуры, в игровой стихии хэппенингов, перформансов, инсталляций, ассамбляжей и т. п., выражающих «концептуальное»). Нужно искать современное чувство красоты.
– Говорят, авангард – это ужасно, – ядовито улыбнулся он. – Но на выставки ломятся. Хотя много любителей мещанского кича – салонной красивости, сентиментальности, стилизаторства под национальное, под иконы, и под авангард, и цепкого агрессивного художественного консерватизма. Есть ростки нового реализма, не косвенно, а впрямую показывающие современную жизнь.
Грозной глыбой встал толстый в роговых очках член президиума Союза писателей и критик-соцреалист:
– Процесс формализации искусства стал пагубным! Новаторство превратили в самоцель. Но искусство – функция глубоко человеческая. Природа человека мало изменилась, и насильно быстро меняющееся искусство – ущербно.
Литературный критик из правления Союза писателей, крепенький и юркий, как будто ловко уклоняясь от угроз, туманно поддержал:
– Это стиль полной свободы, то есть отрицание всего фундаментального старого, но не имеется философского оправдания и обеспечения этого стиля, внутри него – пусто. Освобождение от иллюзий и догматов, через игру воплощения, моделирование подлинно свободных отношений человека с миром – в этом сила и слабость. Дух свободы отделяет новую волну от старой. Но все это – литература эпилога. Эпилог не бывает слищком длинным. И стало скучно – нечего сказать. Когда покойник в прахе – идет пора карнавала, заполняющая промежуток между циклами. Мы входим в состояние новой духовной стабильности – в иерархию ценностей, сосредоточенных на взглядах марксизма-ленинизма, вокруг категории смысла бытия.
Впервые появившийся искусствовед с лысым черепом, без волос и ресниц, словно голым лицом, организатор клуба нового искусства, настойчиво возразил, словно вынужден был высказать непреложную истину нового взгляда:
– Система не умела выразить себя, это сделал нонконформизм. С начала 70-х советская власть вызывала амбивалентное чувство, ведь наша жизнь прошла там. Выражением амбивалентности стал соцарт, первый автономный язык описания советской культуры. Московский концептуализм осознал свою культуру как уникальный контекст, и создал визуальный язык – совершенно неизвестный до этого тематический материал: клише советской масс-медиа, сюжеты из жизни коммунальных квартир и пр. Выработана метаэстетическая позиция, снявшая проблему политической ангажированности. Сегодня нонконформист – персонаж Потерянного Рая. Молодой художник сейчас не знает, против чего он. И за правительство, и за Запад, и за Восток, и за нонконформизм 70-х. Старый нонконформизм в борении жаждал потрясать. Новый – не хочет потрясать.
Демонстративно встал, резко сдвинув стул, скандальный филолог и теоретик искусства и литературы, победно усмехаясь в седую бородку, стал читать лекцию, решительно раздвинув смятенные умы:
– Поставангард – это создание антиискусства, низведение его в область низкого, безобразного (писсуар М. Дюшана под названием «Фонтан»). Искусство впадает в убожество, чтобы причаститься участи Божества на его пути позора и осмеяния (скандал – в выходе Христа). Это отрицание верой, очищение смысла. Авангард тяготеет к отрицательной форме выражения – косноязычию, зауми, в идеале – молчанию. И – к отказу от фигуративности. Это свойство сакрального искусства, ибо жизнеподобие создает иллюзию устойчивости, завершенности форм, обожествляет. Авангардизм допускает фигуративность для его стирания, уничтожения (от кубизма до абстракционизма). Но в абстракционизме – устранился парадокс держания в напряжении. Трагичность авангардного мировоззрения: бесплотное должно явить себя воплоти. Если физика забила тревогу о пропаже вещей, то искусство – тоже.
– Авангард связан с апокалиптическим мироощущением, – бодро продолжал он. – Он был в раннем христианстве, затем вытеснен иной традицией, что всячески прикрепляла живущего к миру (возникло светское искусство – из задачи обустройства в стенах материального дома). До XIX века идет прикипание искусства к поверхности мира. Но вот в обжитом доме – ветер все сорвал, и наступила тьма грядущего мира. Авангард – искусство построения Образа методом его прохождения, отслоения от зримого, осознания нетвердости и призрачности устроения мира, апокалиптический реализм.
Теоретик все более вдохновлялся перспективой своей мысли:
– Религиозное мышление было кризисно. Авангардное искусство воспроизводит вмятины на стенах, проломы и зигзаги, растущие у нас на глазах. Оголяет субмолекулярную структуру вещества, прорисовывает схемы мировых сил, дремлющих в подсознании, идет дальше эстетики середины. Любое определение несоизмеримо с тем, что должно оставаться скрытым в себе Абсолютом.
В зале стало шумно. Оратор настаивал:
– В России всегда была склонность к авангардному мышлению, забегающему в область не ставшего, невозможного, несуществующего (Петр приказал быть «западным формам», Достоевский в С.-Перербурге показывает трясину, а над ней всадника на коне). Архетип и феномен нынешней цивилизации ознаменовал себя величественными проектами и утопиями, плановостью и идейностью. А действительность неслась мимо – бредом пушкинского Евгения, мимо рациональности, сплошной организованности, «нормативной правды». В нашей жизни – сплошная недовоплощенность идей (идея города ушла в «котлован»), новые сооружения выглядят как недостроенные. Все «отчасти» – город, работа, культура.
В зале шумели, захлопывали оратора.
– Авангард 10-20-х гг. пытался позитивно запечатлеть какие-то высшие эманации Духа. Утопизм этот развенчан последующей историей. Авангард 60-70-х антиутопичен, раскрывая в горизонте искусства присутствие собственной безыдейности поп-арта или беспредметного соцарта (чистых идеологических знаков).
В шуме аплодисментов оратора еле было слышно.
– Концептуализм доводит до абсурда идейное, что нормативно налагалось на жизнь (псевдоискусство, подделывавшее образы под идеи, породило антиискусство). Не подробнее и красочнее увидеть мир, а явить его очередной повтор, чтобы вычесть это из себя, перевести в модус банальности. Клише целых мировоззрений, ситуаций, характеров, элементов сюжета, суждений. Любви, веры, жизни. Каталог. Не нигилизм (отрицание ценностей), а переживание недостойности, неосмысленности каждой из открывшихся сфер бытия. Концептуализм отрицает утверждение, нигилизм утверждает отрицание. Соблюдается закон контрастности искусства в отношении к реальности.
Гениальный безумец! – восхищался я. Угадал, каким будет будущее интеллектуала. Не из старого советского гуманизма.
– Это защита индивидуализма, «вещей в себе»! – закричали из дальнего угла стола.
Литературный генерал из Союза писателей в роговых очках, стоя, глотал воздух.
– Этот изгой от науки причастен к разрушительному делу – и слева, и справа! Говорят, что образ в фигуративном искусстве не совершенен и недоговечен, в распыл его! Это сатанизм! Искусство может быть искусством лишь середины, а не конца – между идеалом и земной реальностью. Такие не принимают Возрождение, а в нем есть приверженность к человечному. Топят человека.
На литературного генерала недоуменно глядел молодой писатель-концептуалист с мушкетерскими усиками и бородкой, и шелковыми волнистыми волосами до плеч. Заговорил, заикаясь, как Горький, с иронической усмешкой. Соцреализм бессмертен! Если убрать морально-этическую сторону, в нем полно сюжетов-шедевров: мистическая средневековая история о человеке-оборотне (фильм «Партийный билет»). В фильме «Падение Берлина» – противоборство двух божеств – буддийского и языческого. Эстетически соцреализм красив нечеловеческой красотой чудовищного, как красота атомного взрыва, Ниагары. Воплощение фантастического сна романтиков XVIII века. Черты возвышенного и трагического.
Границы эстетического, – продолжал он запинаясь, – там, где кончается человеческое тело и начинается мертвая материя. В фашизме та же доведенная до предела романтическая идея о преодолении человеческой природы, фантастический сон романтиков. Та же красота чудовищного, до сих пор не переваренная культурой и извергнутая в сферу морали как несъедобное. Табу должно оставаться только в морально-этической сфере, культура же должна от них очиститься.
Странно, что устремления таких людей – как бы мои. Что во мне так желанно отвечает их мыслям? Раньше не понимал, как можно осознавать зло – надо его ненавидеть. Конечно, оно имеет глубину, как и добро! Когда его осознаешь эстетически, тогда оно может быть правдивым. Есть, и во мне, злая сторона души. Как выразить сверхидею зла? Меня привлекает литература как форма восприятия эстетически прекрасного и – ужасного. Только так можно выразить всю полноту жизни. Тем более, когда мир иррационален.
Рок-звезда, худой, с аскетическим лицом, кажущийся исступленным, восстал как святой мученик:
– Занятия искусством становятся обыденностью. Искусство идет в быт! Музыка, кино, новые элементы – компьютерные: видео, виртуальная реальность. То есть аура, как процесс, когда садятся обедать. Как мыться каждый день. Древние японцы все расставляли определенным образом. Через глаз – все в душу идет. Мир должен состоять из единиц, хватит общих идей. Нужно приходить к общим идеям, но через отвержение мешающего жить правильно.
Вскочила на трибуну красивая поэтесса с намечающимися брылями на лице, защищавшая национальные ценности, я видел ее в Доме литераторов. Она ужасалась святотатству коллег:
– Авангард захватил масс-медиа! Готовит глубокий переворот в пользу Аримана, словно вывалили перед вами скользких гадов. Радикальное наступление на естественный человеческий мир и образ человека. Мешает вернуться к христианским идеалам. Пропаганда человеконенавистничества, брань!
– Идет последний и решительный бой за человеческую душу! – кликушествовала она. – Место идеологии марксизма-ленинизма занимает мистический гедонизм, сластолюбие и сладострастие – жестокость. Налицо смена нравственных установок в литературе. Постмодернистский персонаж – ходячая инструкция по безбожной антропологии эпохи конца света. Предрассудок, что истина ограничивает свободу, это взаимосвязано.
Новаторы скептически усмехались. Я не мог представить ее как женщину, не то что влюбиться. Неужели идеология так извращает отношения, даже к противоположному полу? Я тогда думал о проблеме чужого и своего – неприязни староверов к новому, и действительно болеющих за будущее культуры.
Погасил эмоции улыбчивый публицист-эмигрант с маленькой бородкой, приехавший из Америки в освобожденную Россию. Размашисто нарисовал картину литературного процесса, смерти старой литературы. Она всегда боролась с властью, подозревая в ней конкурента. В итоге – осталась без нее. Впервые русский писатель остался один на один с читателем. Ушла цензура, гонения, трибуна, ум, честь и совесть и т. д. Литература перестала быть великой. Старые грехи – политизация, публицистичность, мания правдоискательства – стали не нужны. Треснули литературные очки, сквозь которые общество смотрело на окружающее, нет типов Обломовых, Корчагиных и Иванов Денисовичей. Пути пишущих и читающих разошлись.
Я мысленно аплодировал. Да, мои прошлые вознесения попрало мучительное везение воза моей организации с гроздью сотрудников на плечах. Треснули розовые очки – но что взамен? Мне было страшно, так станешь мизантропом. Как спастись от этого? Как говорил открытый мной мексиканский поэт Октавио Пас, – поэзия – это опыт упразднения современного мира, попытка отменить предрешенный смысл, так как сама она хочет стать последним предназначением жизни, человека.
– Текст лишился протезов, – продолжал улыбчивый публицист-эмигрант. – Исповедь – единственная антитеза вымыслу. Литературная вселенная сжимается до автопортрета. Подменяя внешнюю реальность внутренней, писатель сталкивается с хаосом, который он сознательно отказывается упорядочить. Забота одна – искренность, голая до неприличия. Освобождение от прокрустова ложа жанра, ибо канон – дань вымыслу. Не нужен критерий ценности – откуда ему известно, что на самом деле важно? Приписывать жизни последовательность, начало и конец – значит насилие над жизнью.
История, – плел он словесную вязь, – озабоченная не прогрессом, а комфортом, породила и соответствующую ей нецелеустремленную культуру. Раньше культура противостояла варварству, сейчас – другим культурам. Культур стало много, и ни одной не противостоит истина. Была мечта о конце пути – писатель искал дорогу. Мир лишился утопического эпилога. Сейчас ясно, что то, что есть – лучше того, что будет.
Кто-то из дальнего угла возразил:
– Ю. Лотман говорил, что искусство – это нереализованная история. История не закономерна. Она состоит из выборов. Выбираешь, значит теряешь иные пути. Выбор есть и потеря. Свобода – не осознанная необходимость, иначе – нет выбора, ответственности. А выбор – это и ответственность.
Продолжали обсуждать приход времени эссеизма вместо устаревшей литературы. Ставили под сомнение функцию литературы, язык, тему и сюжет. Литература переставала быть частью культуры, становилась занятием.
Лысый литературовед, похожий на Сократа, наш постоянный участник, устремленно буравя глазами публику, призвал смотреть в корень. Будет ли новая литература? Нет, вопрос стоит так: удержится ли этот тип культуры? Тип духовности воинственно-коллективистский и иррационально-героический, который без конца модифицируется со скифских времен, вновь возвращаясь в очередную форму народного большевизма и воинствующего единодушия. Если одолеет западный тип культуры, и мы разбредемся, личность выйдет из «тайной свободы» на свет конкурирующих индивидов, то этим индивидам станет не до литературы. Исчезнет ли старый тип литературы, неважно, нас уже не будет. Да и что такое литература дальше? Может быть, ее съест экран, картинки, клипы, репортажи.
– Но в человечестве, – обнадежил он, – какие-то инертно-базовые, фундаментальные уровни бытия воспротивятся торжеству динамической постиндустриальной цивилизации. Именно такое сопротивление американизму дало гениальную вспышку латиноамериканской литературы! Это база для нашего типа культуры. Будет база, тогда и наша душа будет. Если нет – раздробимся, перемешаемся заново. Но против хода вещей, рынка – она не попрет.
Философ-эмигрант, с живыми горящими глазами на скорбном лице, безнадежно махнул рукой:
– Исчезнет обязательное уравнивающее обучение. В пучине незнания возникнет лишь то, что необходимо для личного преуспеяния. Выживут лишь газеты для культурной элиты. Массовое – погибнет. Будет век портативного телевидения, новости будут распространяться мгновенно. Чтение – это ученость, культура, – мысли о том, что для личного преуспеяния бесполезно и вредно.
Худенькая доброжелательная ученая-библиограф в больших очках не верила в гибель культуры. Гуманисты говорили, что человек по природе добр, царь природы, переделывающий мир. Религия: человек растущий до сути (Яхве). Абсолютной свободы нет. Любовь, царство Божие – не свобода. Свобода – в единстве. А оно – в глубине духа, а не в строительстве того, чего нет. Человек – существо бесконечное, и в этом лишь смысле – царь. А в Суть еще надо дойти. Цель – найти реальное единство во всем. А мы живем в плоскости – то в тоталитаризме, то в хаосе индивидуализма.
Как она права! Я всегда догадывался, что нужно усилие, чтобы стать человеком, и он может найти реальное единство во всем. Ценность личности предполагает сверхличные ценности.
22
После 10 месяцев гайдаровских реформ цены на товары выросли в 26 раз. Экономика, наука, образование были парализованы из-за кризиса неплатежей. Зарплату государственным служащим выдавали в основном только продукцией, сбережения людей превратились в пыль. Мы же, нищие общественные организации, естественно, не имели от государства ничего.
Часть наших участников, граждан интеллектуального труда подались в челноки. Не предвиделось никакого прекращения этого безумия на фоне идей реформаторов о том, что рынок все решит сам.
14 декабря на седьмом съезде народных депутатов Российской Федерации приехавшие из разных мест страны депутаты выплескивали все негодование на президента. Работу Правительства признали неудовлетворительной. Требовали смены курса, и самого правительства.
Президент Б. Ельцын, выступив на съезде, «как разъяренный бык», по выражению одного из депутатов-коммунистов, обвинил Верховный совет в проведении ползучего переворота, назвал заносчивого председателя Р. Хасбулатова, склонного к авторитарному управлению, «проводником обанкротившегося курса», и предложил провести всенародный референдум с формулировкой: «Кому вы поручаете вывод страны из экономического и политического кризиса, возрождение Российской Федерации: нынешнему составу съезда и Верховного совета или президенту России?»
После этого Ельцын демонстративно покинул съезд, призвав уйти своих сторонников.
В "Известиях" писали: складывается корпоративное братство депутатов. Оппозиция стала большинством с прономенклатурной позицией. Диктатура объединившихся "право-левых". На съезде главным будет – ликвидация самой основы для экономических и политических реформ. Номенклатура достигла всего, что хотела.
Депутат, член подкомитета политических реформ набросился на новую власть. Иллюзия, что власть перешла к новым силам. Осталась номенклатурная система – группа работников управления власти, распределения и владения собственностью, на ключевых позициях единой политики и экономики. Интересы номенклатуры противоположны целям реформ. Поэтому идет саботаж, номенклатурный реванш.
У меня было неопределенное отношение к Ельцыну. Есть в нем нечто – выше жажды власти дерущихся людей и холодного раздражения депутатов. Игра своей жизнью, своей судьбой – это серьезно. Но не идет ли какая-то борьба за собственное спасение, как моя борьба с уволенными сослуживцами?
***
В нашем новом офисе – большой светлой комнате со сдвинутыми вместе приставными столами перед моим столом, и шкафами по всем стенам, я с тревогой перелистывал газеты и журналы.
«Новая газета» определила положение прямо и грубо: у нас две ветви власти – отражающая старую номенклатуру (съезд) и новую (Ельцын). Старая номенклатура благодаря перестройке обрела средства и имущество (вошла в рынок), поделившись с новой, еще больше жадной до благ. Делается все для того, чтобы в рынок вошли эти номенклатуры, аппарат – за счет народа.
Известный экономист-гайдаровец писал: рыночные отношения дележа власти и раньше были, и сейчас пронизывают власть. Это создано еще во времена Брежнева. Рынок должностей и привилегий. Каждый аппаратчик владеет своим участком, и вылетает, если сопротивляется системе. Нет у нас субъекта вне аппарата. Демократическая система может стать только по мере ослабления аппаратных связей. Но аппарат объединяется, ищет «гражданского согласия». Насаждается общенациональный комплекс неполноценности, мол, надо возрождать величие России. Под величием понимается превосходство. А сила – найдет врага. История предоставляет возможность аппарату продлить свою власть.
– Будущий частный владелец и будущий аппаратчик – или одно лицо, или близкое, – утверждал он. – У нас реальный выбор: или власть «высшего слоя», или гражданская война, если осмелятся отбирать у него власть.
Меня испугала предупреждающая статья писателя Ю. Нагибина. Нами руководит новый партийный слой, еще более хапужнический. И – рвется третий слой, самый жадный и опасный, не маскирует своей националистической хари. Надо выйти на общечеловеческий путь. Есть фашисты и антифашисты, а не западники и славянофилы.
Значит, те, кто у кормушки – они и будут осуществлять политику, по своей колодке! Не так ли я хотел в моей организации, прикрываясь романтической верой? Из неверия ли в человека этот почти механический взгляд экономиста-гайдаровца на аппарат?
Молодой писатель, репрессированный за участие в неподцензурном журнале, в «Известиях» логически вывел: в усилении политических репрессий при освобождении рыночных отношений возможна фашизация социализма. Аппарат взял госсобственность в свои руки. Сейчас у нас система бюрократического рынка.
Может быть, и так. Я не мог примкнуть ни к одной стороне. Наверно, это неизбежный этап переходного периода. Или бьет в мозгу такт тяжелых шагов командора.
И тут меня неожиданно проняло, словно очнулся. Да это же катастрофа – и для моего дела тоже!






