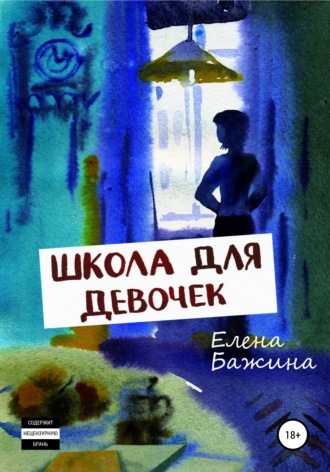
Елена Александровна Бажина
Школа для девочек
* * *
И всё же однажды узнали.
Семейство, в котором дети были одеты строго по-монастырски, – девочка в длинную юбку, мальчик – в строгую рубашку с длинным рукавом, а их мама была сурова и неприступна, не могло не привлечь внимания, если появлялось в городе. В город поехали по делам и зашли в храм недалеко от сквера.
Ангелина незадолго до конца службы вышла прогуляться в сквер с Серафимом, раскричавшимся в церкви. Ему захотелось покачаться на качелях. И она поймала на себе взгляд откуда-то издалека. Оглядывалась, пытаясь понять, кто смотрит на неё, откуда, и обнаружила: за деревом стоит человек и наблюдает за ней.
Сначала она решила поскорее бежать. Взяла за руку Серафима и пошла прочь. Но снова обнаружила: незнакомец идёт за ней и даже догоняет. Она оглянулась и приготовилась строго сказать, что не надо её преследовать, и даже перекрестить тайком, только вдруг поняла: она знает его.
– Что случилось с тобой, Ангелина? – сказал молодой человек. – Я долго шёл за тобой, прежде чем убедился, что это ты.
Саша, одноклассник и приятель, потом – студент строительного техникума, стоял перед ней.
– Неужели это ты, – говорил он, рассматривая её, словно какой-то редкий экспонат, образец из краеведческого музея.
Ангелине так хотелось сказать «нет, не я», но уже было поздно. Он узнал её.
– Я сначала думал, это старушка какая-то. Сутулая, в платке… Подумал, так на тебя похожа, может, родственница твоя. Или мама. Но ведь это ты. Что это за ребёнок? Это твой?
– Нет, не мой, – ответила она.
– Да уж, – ответил он. – И даже ребёнок не твой, а ты уже около него. Я видел, я слышал, как эти люди с тобой разговаривали. Ты у них в служанках? Как они с тобой разговаривали! Даже дома у тебя, а там не сахар, конечно, свои проблемы, но с тобой так не разговаривали. Зачем ты позволяешь такое?.. Как ты…
Он собирался, очевидно, произнести слова «дошла до жизни такой», но не произнёс из жалости к Ангелине.
– У нас почти все нашли работу, – продолжал он, следуя за Ангелиной, которая направлялась тем временем к выходу из сквера, держа за руку Серафима. – Некоторые пошли в торговлю. С жильём проблемы, но я вот снимаю…
Он не спрашивал про Славика. Он всё знал.
Ангелина шла молча, стараясь поскорее отвязаться от него.
– Приходи завтра сюда же, – сказал он. – Может, тебе помощь нужна?..
– Ничего не надо, – ответила она. – У меня всё хорошо.
– Да уж, конечно, хорошо, – задумчиво ответил Саша и продолжил: – Ты только скажи, и я помогу тебе… Может, тебе денег дать?
– Не ходи за мной! – крикнула она ему. – Не ходи!
И быстро пошла, представляя, как всё это объяснят её «хозяева». Что они скажут и что теперь подумают про неё.
Ей, конечно же, потом объяснили, почему это случилось.
Ничего не бывает просто так. И если явился человек из прошлого, значит, она накликала этого беса на свою голову своим поведением, своими мыслями. А с чего бы ему появиться здесь?..
Ангелина потом проплакала весь вечер и уже знала точно, что завтра в тот сквер, куда её звал Саша, она не пойдёт, в город не поедет и гулять там никогда не будет.
А лучше вообще не гулять нигде. Ни к чему это. Надо сидеть дома, заниматься хозяйством, а ходить только по делам, куда скажут.
Потом она часто вспоминала тот случай. И позже думала о том, что если бы она тогда согласилась и послушала его, всё было бы по-другому в её жизни. Ведь тогда ещё было не поздно всё изменить.
* * *
Тем временем из дома, как будто там чувствовали её близкое присутствие, стали приходить письма.
«Мы по тебе соскучились, – писала мама. – Приезжай, наконец. Мы тебя ждём… Хотим тебя увидеть… Просто увидеть…»
Письмо из монастыря, где Ангелина прожила почти год, добросовестно переслала ей на новый адрес матушка Степанида. Так оно шло до неё – таким кругом, через отдалённый монастырь. И Ангелина поняла, что хочет побывать дома.
Но этот вопрос здесь вызвал странную реакцию. Напоминание о том, что у неё где-то есть дом, никого не обрадовало. А что кто-то по ней соскучился – это даже вызвало раздражение и глухое чувство недовольства. Кто по ней может соскучиться? Ангелина изначально принадлежит к тем людям, по которым никто не скучает. Это, наверное, означало, что право собственности на этого человека у них неполное.
«Ну зачем тебе о них думать, – говорила Тамара. – Матушка, забудь, зачем нам нужны люди посторонние, вон как с улицы?..» (Ангелину она тоже почему-то называла матушкой.) Она уверяла, что Бог позаботится о них. Ангелина же должна нести своё послушание и не отвлекаться на ненужные дела и привязанности.
– У меня тоже есть сестра, – говорил отец Виталий. – Считаю, что похоронил. Поплакал, закопал, поставил крест… Вот так вот, мысленно, похоронил.
– Посторонние?.. Как же посторонние?.. – спрашивала Ангелина.
И ночью, закрыв глаза, мысленно ставила крест на могиле Славика, которой ещё не было, но она появилась в её сердце, и пыталась обрезать последние живые связи с бывшим мужем. Она представляла эту могилу, надеясь, что её воображаемое существование поможет ей вырвать из сердца остаток чувства к нему. Самое поразительное, что это помогало. Она стала забывать Славика. Он стал уходить из её мыслей.
Потом – родители. И сестра с братом. И так постепенно в её жизни появилось много крестов, а пространство жизни, в которой раньше было много людей, опустело. Люди в нём остались, но это были уже совсем другие люди.
А потом произошла ссора.
«Почему ты всё делаешь не так, как я тебе говорю, – кричала на неё матушка Тамара. – Ты должна чувствовать себя ниже всех, даже ниже наших детей, потому что они православные с рождения, а ты нет. Ты ещё младенец в вере и позволяешь себе иметь какое-то своё мнение… Нет, ты всё равно всё делаешь не так…».
Это было, скорее, похоже на истерику, и Ангелина не знала, что ответить. Она молчала. Она привыкла молчать, потому что возражать было бесполезно. И чем больше молчала, тем больше раздражения это иногда вызывало.
И отец Виталий на этот раз, как ни странно, не поддержал матушку Тамару, а только сказал Ангелине: «У неё много забот и хлопот… Дети не слушаются. Сначала слушались, а сейчас не хотят. Всё их тянет в мир, на улицу, к соблазнам…»
И вздохнул, потому что не знал, кто на этот раз виноват во всём этом.
* * *
Энтузиазм и горячность отца Виталия скоро пошли на убыль. Так же как и мягкость и спокойствие, которые были в нём вскоре после рукоположения. Он раздражался на матушку и на Ангелину. Что-то не складывалось в его плане создания своей общины, и он нервничал. Уйти «в леса» не получилось, приходилось сидеть здесь, и его ожидания от священнической жизни разошлись с реальностью. Местные жители, проводившие больше времени в пьянстве и какой-то своей скучной малопонятной работе, участвовать в их жизни тоже не спешили. В храм приходили в основном женщины, стояли на службе, вытирали подсвечники, помогали убираться и наводить порядок.
Да и храма как такового пока не было. Ещё совсем недавно в нём размещался склад, а теперь было пусто. Предшественник отца Виталия за полгода своего служения здесь успел лишь вынести ненужные вещи, вставить выбитые стекла. Служили в маленьком северном приделе. Этого пока хватало, а главный храм отец Виталий закрыл на замок в ожидании лучших времен.
Ему приходилось признать, что людей он не понимает. Впрочем, говорил он, их и не надо понимать, что там понимать? Их надо учить, их надо приучать к церковной жизни, а понимать их греховные страсти, в которых они живут, совсем не обязательно. Он говорил про пост – а они, оказывается, мечтали об изобилии. Они были больные и усталые, они ещё не забыли советских полуголодных лет в провинциях бывшей страны, да и наступившие девяностые благополучия в их жизнь не принесли. Он говорил про покаяние, а они всё хлопотали про свои дома и огороды. Он говорил про нищету духовную – а они денег хотели. И ещё лекарств. И водки, водки! Он им про крест Христов – а они всё волновались, когда же машина с дровами приедет. И проведут ли к ним газ когда-нибудь? Он им про Царство Небесное, которое выше всего, – а они про то, как им жить дальше, если совхоз упразднят? Он им про терпение, а они – те из них, что женщины, – спрашивали, а что делать, когда муж бьёт?
Так и решил он, что это безнадёжное стадо никогда не увидит свет истины.
Потомки народа-богоносца не торопились идти в церковь, а если и шли, то только за своим интересом и с каким-то равнодушием. А ведь это они должны были помогать ему, а они искали чего-то другого. «Все своего ищут, – говорил он. – Все своего ищут, кто же спасётся из этого мира?..» И высокие порывы разбивались о скучную непроходимую реальность.
И сам он, недавно вырвавшийся из объятий советской идеологии, открывший для себя новое поприще, делал на нём много открытий. О которых, правда, иногда умалчивал. Например, с благочинным ни о чём не договоришься. Выпить любит, а ещё покомандовать. А в епархиальном управлении – чиновники, которые держатся за свои места…
Ему были нужны деньги на восстановление храма, а богатые новые русские, к которым можно было обратиться за пожертвованиями, в этих местах пока не появились. Паломники сюда не приезжали, и доход в церкви был небольшой. На клиросе пели в основном матушка и Ангелина, и ещё две женщины, что с окраины деревни, приходили и подпевали иногда.
Его последователи, приехавшие сюда, занялись своей жизнью, разбрелись по своим огородам и батюшкины указания выполняли всё неохотнее. Володя всё чаще отказывался куда-либо ехать, ссылаясь на неисправность машины и какие-то там свои обстоятельства. Как будто послушание, которому он учил их и на которое рассчитывал, стало для них обузой. Кроме некоторых – опять же местных – женщин, которые рады были хоть на время убежать из дома от мужей и домашнего хозяйства.
Так постепенно он становился всё более раздражённым. Кажется, ему уже перестала нравиться эта его миссионерская деятельность в отдалённой деревне. Хотя он понимал, что надо «отвергнуться себя и нести крест свой», но это было в теории, а в жизни всё оказалось не так романтично.
Детям, правда, здесь нравилось – они могли убежать из дома на речку и бегать там с местными детьми. И загнать их домой было невозможно. И в храм они уже шли неохотно, и заражались какой-то очевидно специфически местной болезнью непослушания. А потом – компании, какие-то дети постарше с безразличием и пустотой в глазах, и где она, «Святая Русь», когда она была в этих местах, как её отыскать? Отец Виталий, похоже, совсем запутался. Да, тысячу раз правы те, кто уходил подальше, в леса и горы.
Матушка отстранённо возилась в земле, сажая, по совету местных хозяек, лук и картошку. Работы прибавлялось. Её первоначальная решимость «жить на земле» и питаться плодами трудов своих тоже пошла на убыль. Копать огород, вбивая лопату в землю, а потом выворачивать её вместе с тяжёлыми комьями земли всё-таки оказалось делом однообразным и утомительным, хотя совсем недавно это представлялось ей спасительным благом. Она уже стала забывать о том, что прежде ей именно так представлялось идеальное православное прошлое, здоровая жизнь в деревнях, патриархальный быт и домострой. Теперь она понимала и с иронией признавалась Ангелине, что поэтичность такой жизни были ею явно преувеличены. Но упорно продолжала копать, сажать и полоть.
Ангелину же скоро перестали замечать. Как будто она предмет какой-то, какая-то вещь или механизм, приставленный к своему делу. Моет посуду, готовит, не спорит, не ругается. Некоторые даже считали её блаженной.
– Ангелина, возьми Серафима за руку! Ангелина, иди скорее домой, растопляй печь, грей обед, мы позже придём! Ангелина, зайди к Прасковье за квашеной капустой!.. Ангелина, возьми с собой Клаву! Ангелина, сходи, принеси мой платок цветной, я его подарить хочу!..
За стол она садилась с краю, чтобы быстро поесть, а потом встать и убирать, мыть посуду, подавать чай. К этому быстро привыкли, хотя матушка Тамара иногда говорила: «Не суетись, матушка, посиди немного…». И всё равно воспринимали, что так и должно быть.
А в минуты покоя она сидела на крылечке, вдыхая запахи деревянного дома и мокрых трав, слушала шум дождя. Казалось бы, хорошо и спокойно, но всё же было тревожно.
А слово «свобода» было здесь неприемлемо. Отец Виталий терпеть не мог это слово. От этой свободы, считал он, и произошли все беды в России.
Впрочем, у Ангелины и так не было никакой свободы, и говорить тут было не о чем.
* * *
В целом же отец Виталий Ангелиной был доволен. Всё делает хорошо, и вера у неё искренняя. Что-то интересует, кроме того, чтобы исполнять свои послушания. И вроде книжки духовные читает – Игнатия Брянчанинова, Иоанна Кронштадтского. Всё правильно делает. А послушание её – мыть, стирать, убирать, – вот и всё. Помогать матушке Тамаре, которая едва справляется с двумя детьми. Словом, делать всё, что надо. И если надо, отправиться по его делам. Но достаточно ли ей этого? Захочет ли делать это всегда? Как будто о чём-то задумывается, в чём-то сомневается… И бывает грустной. «Не иначе, мужа бывшего вспоминает, – думал отец Виталий. – Вот тоже никак не выгонишь этого беса из её головы…».
И угадывал – не хочет ведь торчать на кухне, надоедает ей и готовить, и мыть, и выполнять все послушания, смотрит куда-то в сторону, думает о чём-то… Тоже, наверное, своего ищет… Все ищут своего.
Кто её знает, чего она хочет? Не ищите своего. Это можно сказать каждому второму, и себе в том числе, подумал он.
* * *
Но только так не бывает, решил он однажды. Не бывает в жизни ангелин, она просто не видит своих грехов, то есть выдаёт себя за того, кого нет… А как заставить, чтобы увидела? Она должна чувствовать себя хуже всех, а чувствует ли?.. Видит ли грехи свои, «аки песок морской?»… Ну не может быть, чтобы у человека не было недостатков. Там, у Степаниды, она чему-то научилась, но невозможно научиться всему. Ангелов не бывает. Нельзя, чтобы у человека было всё хорошо, чтобы у него всё так благополучно складывалось. (По его представлениям, жизнь Ангелины была абсолютно безоблачной.) Да и не имеет она чувства благодарности – за то, что находится здесь, в этом спасительном месте, да ещё рядом с таким человеком, как он.
В конце концов, и Христос обличал. И даже выгонял из храма. И бичевал. А кто же, как не он, священник, замещает здесь Христа?
И он решил подвергнуть её испытаниям. Чтобы она узнала, наконец, что лёгкого спасения не бывает. И стал выражать недовольство всем, что она делала.
На неё посыпалось: она забыла добавить святую воду в суп; она плохо перебрала пшённую крупу для каши; она не в том порядке сложила тарелки; она не приготовила обед вовремя; она плохо помыла посуду; она много разговаривает с посторонними односельчанами; она смеётся иногда, что совершенно недопустимо; её пироги получаются невкусными; она не умеет молиться; она не видит своих грехов; у неё нет покаянного чувства; она заражена греховными привязанностями к своим родственникам; она часто вспоминает свою прежнюю греховную жизнь; у неё нет рвения ко храму; она плохо знает православие и недостаточно интересуется им; она не любит читать жития святых и т. д. Словом, она такая… такая, и всё. И он каждый раз находил повод, чтобы сделать ей замечание. Упрекнуть её хоть в чём-то – унизить для смирения, чтобы не возгордилась своим ангельским характером. И чтобы все поняли – не такой уж он у неё ангельский.
Казалось бы – он всё делал правильно, только что-то изменилось. Вдруг дети, усвоив его отношение к ней, стали повторять те же уничижительные слова. Они уже не хотели оставаться с ней – просто потому, что она была плохая.
А она не понимала, что случилось. Что такого она сделала, почему так изменилось отношение к ней? От неё требовали какого-то колоссального перерождения, которое должно произойти в короткое время, как будто она действительно должна стать ангелом. Она пыталась всё делать лучше. Она старалась делать всё, чтобы вернуть к себе прежнее расположение. Но однажды поняла: что бы она ни сделала, всё будет плохо. И как бы она ни старалась, всё бесполезно.
Ангелина сначала молчала, потом смущалась, потом начала расстраиваться, потом раздражаться, а потом действительно стала всё делать плохо. И чем больше он её порицал, тем хуже у неё всё получалось. Он возмущался уже всерьёз. И она всерьёз воспринимала всё. Однажды она бросила полотенце на стол и ушла куда-то. На улицу, в деревню. А дальше идти некуда. Ходила вдоль берега. Сидела на скамейке у храма. Так не хотелось возвращаться в дом. Как будто всё там было чужое, и она там была чужая. И вот теперь – не было у неё дома, и нигде теперь его не было. Оказалось, что и здесь так же, как и в монастыре у матушки Степаниды. Никакой защищённости. Всё зависит от настроения того, кто здесь главный.
А отец Виталий сказал: вот и открылось всё. Вот она какая на самом деле, Ангелина. Когда она вернулась, он говорил о том, что в реальности нет у неё ни смирения, ни терпения, ничему не научилась она, ничего не приобрела. И ситуация у неё тяжелая, прямо скажем, не ангельская. Он говорил – и чем больше говорил, тем больше сам раздражался, злился, и не мог уже остановиться. А оттого, что потерял спокойствие, винил её же, Ангелину.
* * *
И всё-таки были благодатные дни. После службы, после всенощной, отец Виталий возвращался домой, останавливался у колодца и смотрел на звёздное небо. Иногда смотрел, как отражается луна в реке. Было темно и тихо, и не хотелось идти в дом, а стоять вот так и смотреть на этот простор вокруг и едва различать силуэты домов, слушать тишину, ощущать покой и понимать вдруг до самой глубины слова «Царствие Божие внутрь вас есть». И казалось – не надо никуда идти, не надо ничего искать, всё есть.
И он не хотел быть суровым и требовательным, а наоборот – проникался тёплым чувством ко всем окружающим, и начинал всех любить, и даже готов был, если надо, пожертвовать собой ради всех.
Ангелина тоже находила осколок Царства Божия. После всех своих дел, убрав, сложив тарелки и кастрюли, вытерев клеёнку на столе, вылив помойное ведро, развесив сушиться полотенца, накормив двух кошек и собаку, замочив на завтра фасоль, прочитав вечернее правило, она лежала на своей узкой кровати-скамейке и смотрела на огонёк лампады. И было хорошо и спокойно в эти минуты. На неё сходил тот небесный мир, который вечен и который до конца непостижим. Она закрывала глаза, и ей хотелось ещё сильнее закутаться, укрыться в этом душевном покое, стать частью этой тишины. И казалось в этот момент – ничего не надо, всё хорошо, всё правильно, всё так и должно быть.
Но наступало утро, она начинала греметь кастрюлями, матушка кричала на детей, ворчала на Ангелину, отец Виталий шёл в храм или садился за книги, дети огрызались, кухня наполнялась запахами тушёных овощей, и уходила тишина, и начиналась обычная жизнь.
* * *
Ей стало казаться, что она живёт в параллельном мире, обитатели которого стараются как можно меньше соприкасаться с миром привычным. Не существует книг и кино, и всё, что её интересовало когда-то, здесь никакой ценности не имело. Даже то, что казалось вполне безобидным и естественным. И сама она как человек, у которого когда-то были свои интересы, не имела никакой ценности.
Тем не менее из этого мира всё же приходилось выбираться в обычный, «греховный», стараясь держаться в нём очень осторожно, с оглядкой, чтобы не заразиться какой-нибудь болезнью. Она даже ездила в город, чтобы приобрести какие-нибудь вещи для хозяйства или книги для работы. Она проезжала на автобусе знакомыми маршрутами, когда ей нужно было куда-то по послушанию, и узнавала улицы. Так она проехала мимо своей школы. Показалось вдруг, что эта школа была в её жизни очень давно, и даже не в её жизни, а в жизни другого человека, который жил на другой планете в далёком прошлом. Проехала мимо библиотеки, куда ходила читать «греховные мирские книги». Мимо поликлиники, куда всё ещё могла обратиться за помощью, если бы нужно было, но обращаться за медицинской помощью в её кругу было принято в самом крайнем случае. Надо терпеть и переносить все болезни.
Однажды она даже проехала мимо своего дома, обычной панельной пятиэтажки, и издалека ухватила взглядом огни своих окон. Кто там сейчас? Окно на кухне горело ровным желтоватым светом с небольшим зеленоватым оттенком абажура, который она сама купила когда-то. Наверное, там отец после работы пьёт чай.
А в другой комнате, наверное, сестра со своим другом. Ангелина отвернулась. Нет, в следующий раз она не поедет этим маршрутом. И постарается вообще не выезжать в город.
Она вернулась в деревню. Здесь – грядки, хозяйство, дела, стирка, молитвы. Она здесь нужна. Она не уйдёт отсюда. Здесь у неё дела. Послушание. Она здесь спасается. Она даже подружилась с местными жителями, хотя отец Виталий не разрешал так просто болтать с кем попало.
* * *
Ангелина научилась всё же отвергать свои желания. Кажется, она всему научилась. Да и желания как-то потихоньку пропали, утихли. Наверное, теперь она должна была порадоваться: «мирские» интересы перестали быть её интересами, они ушли на задний план.
Однажды, в конце лета, ей вдруг всё стало безразлично. Даже собственное спасение. «В конце концов, рай, ад – какая разница?» – подумала как-то она. У неё начиналась апатия, «депрессия» – это слово здесь, правда, не употребляли, – а скорее уныние, какое-то тёмное ощущение тупика и безысходности. Ей не хотелось ни шить, ни молиться, ни разговаривать с кем-либо. Она не получила ответы на многие вопросы, и теперь постепенно сам смысл этих вопросов для неё отпадал. Она уже и не хотела никаких ответов, ей стало всё равно.
Кажется, она научилась всему, чему пытались её здесь научить. Она научилась не любить себя. Даже ненавидела себя порой – за то, что вот такая… такая, и всё. Она ненавидела себя, как, наверное, самое неудачное Божье творение. Вот оно, бесстрастие, – должна была, наверное, она сейчас сказать, – вот к чему она стремилась, но и это теперь было уже неважно для неё. Наверное, всё, чего хотелось, – это умереть вот так. А что мешало? Связей никаких. Привязанностей никаких. Родственники всё же забудут её когда-нибудь. Нет у неё места здесь, но есть ли оно где-нибудь?..
Вот и всё, чего можно было достичь в этой жизни. С духовной точки зрения – не достигать ничего, стать ниже всех. Она этого достигла? Ни с кем не спорит, никому не противоречит. Ей ничего не стоит сказать «прости» не разбирая кому, машинально, даже когда ни в чём не виновата. Только бы отстали от неё. Она не будет обижаться, когда для смирения её назовут каким-нибудь грубым словом, – что она глупая, что она грешная, что никчёмная. Она не будет спорить, потому что споры бесполезны, и какая там истина в них родится – уже неважно, и ей это не интересно.
У неё не было своей жизни. Вся её личность растворилась в отсечении своей воли, в жизни нигде и ни в чём, в исполнении того, что скажут, и это, наверное, и было смыслом. «Кто оставит отца и мать…», «Кто погубит душу свою, тот обретёт её…» Как хорошо она знала эти слова. Но что это такое на самом деле? Знает ли кто?.. И главным образом – те, кто ей так часто напоминал об этом?
* * *
Отец Виталий стал чаще уезжать куда-то, в город, иногда в Москву на целую неделю. Ему здесь становилось неинтересно. Матушка сердилась. Иногда они уезжали вместе, оставляя Ангелине детей.
Однажды, после череды обычных дел по хозяйству, она почувствовала себя плохо.
Она ощутила такую слабость, что захотелось лечь и заснуть. Она едва дождалась вечера, чтобы добраться до своей постели – узкой жёсткой лавки, покрытой одеялом. В тот вечер она даже не смогла прочитать молитву. Вставать всё равно пришлось рано, как всегда, и она снова ощутила усталость и слабость.
Кажется, она заболела, и она не знала, что делать. Матушка Тамара приготовила вместо неё обед и даже помыла посуду, сделав это с великодушным одолжением, как делают, выручая друзей. Отец Виталий отслужил молебен о здравии Ангелины. Потом матушка приготовила ужин и пошла заниматься огородом. Казалось бы, Ангелина была вполне заменима и можно было дать ей возможность поболеть и выздороветь. Пару дней, не больше.
Но через пару дней её состояние не улучшилось. Кружилась голова. Пропал аппетит. Как будто здесь, далеко от города, на свежем воздухе, можно было получить какую-то непонятную болезнь. Ведь должно быть наоборот – она должна здесь стать здоровее и крепче.
Отец Виталий никак не мог взять в толк, что Ангелина, надёжный человек с надёжным именем, вдруг оказался так слаб и перестал выполнять свои функции. Он никак не ожидал, что придуманная им модель вдруг даст сбой. Теперь нужно искать человека, который будет делать эту работу… А с Ангелиной-то что делать?
Как будто у собранной его руками машины, на которой можно было успешно двигаться вперёд, вдруг спустило колесо. Конечно, колесо можно починить, но для этого надо как минимум остановиться и, может быть, изменить маршрут. Или искать замену этому колесу – но где же её найти? Паломники, которые приезжали на праздники из ближайших деревень, или из города, или ещё из каких-нибудь мест, норовили прежде всего сами получить что-то для себя. «Все своего ищут», – в который раз замечал отец Виталий.
На некоторое время осталась помогать по хозяйству девушка, приехавшая на праздник, но это лишь на время. Да и не годилась она для такой серьёзной работы. В её планы не входило постоянно торчать на кухне на приходе отца Виталия. Мало кто готов был совершить такое самопожертвование – просто так, ради Бога, ради Царства Небесного. Не хватало у них веры в то, что работа эта – для спасения, т. е. для них самих. А ведь должны быть благодарны, что им такое предоставляется.
Ангелина пила травы, какие ей приносили деревенские женщины. Одна из знакомых взялась её лечить – повела в баню, напоила каким-то отваром. Ангелине стало ещё хуже.
Видя её слабость, отец Виталий всё же отступил от своих правил. Он разрешил ей не ходить на всенощную и даже на литургию, и в соседней деревне нашёл врача, пожилую женщину, которую Володя привёз на машине.
Врач обнаружила анемию, пониженное давление, какую-то хроническую усталость, но ни в чём не была уверена, сказав, что без анализов крови и без рентгена ей сказать что-либо трудно. Она выписала какие-то таблетки и предложила всё же пройти обследование.
Она уехала, а Ангелина села вечером на своей лавке у окна, – ей хотелось, чтобы кто-нибудь сказал ей, как теперь быть.
О том, чтобы пройти обследование, не могло быть и речи.
Первым с ней заговорил отец Виталий. Важно и торжественно.
– Ты заболела, Ангелина. Болезни посылаются за грехи. Я не хочу сказать, что ты человек какой-то уж очень грешный, хотя, конечно, грехов у нас у каждого море… Я не хочу сказать, что ты притворяешься или преувеличиваешь свою болезнь… Нет. Я хочу сказать, что если человек не позволит себе заболеть, то он и не заболеет. Я не хочу сказать, что ты сама хочешь болеть, что ты разрешаешь себе болеть, нет… Наверное, ты недостаточно хорошо осознаёшь свою ответственность и свой долг. Если ты можешь позволить себе болеть – значит, ты ни во что не ставишь свои обязанности. Я бы тоже хотел вот так расслабиться и поболеть, но это невозможно. Я не болею настолько, чтобы оставить свои обязанности! Словом, ты должна прилагать усилия к тому, чтобы выздороветь, потому что надо работать.
– Я не знаю, – сказала Ангелина. – Я постараюсь выздороветь. Я не могу сама хотеть болеть! Я не хочу болеть! Просто у меня иногда кружится голова…
Наверное, он мог бы и строже сказать ей, если бы не боялся. Потому что вид у Ангелины действительно стал больной, она похудела и была бледной. Нет, она не притворяется.
– Во всём, что происходит с человеком, виноват он сам, и только он сам, – продолжил он назидательным тоном, немного свысока, обращаясь к Ангелине как к погибающей овце.
Он говорил, что её болезнь стала причиной стольких нестроений. Во-первых, придётся искать кого-то, кто бы делал её дела. Во-вторых, матушка Тамара не справляется теперь со своими делами. В-третьих, состояние Ангелины требует внимания, а следовательно, кто-то должен отрываться от своих дел и заниматься её здоровьем. Словом, она должна сделать некоторые выводы, она должна, наверное, принести какое-то особое покаяние в каких-то особых грехах, чтобы Бог исцелил её.
Его тон был снисходителен и в то же время спокоен. Он при этом выразил готовность помогать ей, нести и «этот крест», и «эту ношу», если Ангелина окажется не способной выполнять свои прежние обязанности. При этом он вздыхал, как человек, который и без того обременён различного рода крестами и ношами, так что этого ему только не доставало.
Нет, её никто не оставит. Ей помогут, конечно.
Ангелина плакала ночью и молилась, чтобы Бог вразумил её, в чем же она виновата, что такое случилось с ней, и чтобы Он исцелил её.
* * *
И всё же пришла помощь.
Две деревенские женщины, Валентина и Галина, которые последнее время ходили в храм на службу, выразили готовность помогать по хозяйству. Они были крепкие, сильные и на вид здоровые. В них была какая-то сельская выносливость и сноровка и почти безнадёжная терпеливость. Им нравилось помогать батюшке, они с удовольствием готовили и убирали, и даже давали советы матушке – как что сажать, как квасить, как солить, как поливать.
И так у Ангелины появилась смена. Теперь, когда она пыталась набраться сил, её место оказалось занятым.
Батюшка, кажется, был больше доволен своими новыми помощницами, чем Ангелиной. Ему нравилось, что они сильные и энергичные, и всё сделают, что скажет батюшка, и по храму и по хозяйству. Они усвоили про послушание, и работали с легкостью и энтузиазмом (это в укор тем, у кого этот энтузиазм иссяк, говорил про себя отец Виталий).
На их фоне Ангелина выглядела усталой, а матушка – равнодушной. Он понимал, что этот неофитский пыл пройдёт, но сейчас его это устраивало, от помощи он не отказывался, тем более что это была не помощь – а опять же, о чём он говорил им всем, – служение, работа во славу Божию, для их же спасения. Это им нужно, а не ему. А ему – всё Бог даёт, Бог делает, Бог помогает. Ну да, руками людей. Их руками.
А ведь и Ангелина когда-то нравилась. Нравилось, как она мыла посуду и убирала в доме с истинно монашеским смирением. Но его планы изменились. Он решил, что от Галины и Валентины сейчас больше проку, чем от Ангелины. У них всё в руках спорится, вот кого надо ставить всем в пример!
А Ангелина что?
А что Ангелина? Ей, конечно, надо прежде всего лечиться. А потом подумать, что она делала не так. Приступить к своим обязанностям с ещё большим смирением, потому что последнее время, – вследствие ли болезни, вследствие ли лени, в которой она не хочет признаваться, – но многие её дела оставляли желать лучшего.


