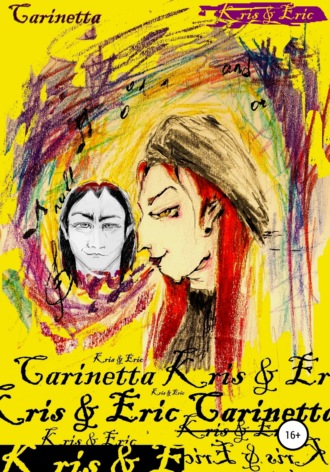
Carinetta
Kris & Eric
Стая диких собак
Я возвращалась домой поздно. После полуночных шатаний в одиночестве. Отчаяние так невыносимо выжимало сердце, что я не могла усидеть на месте. Видеть никого не желала. Вот и свалила – обжигать асфальт горящими пятками. В глухом одиночестве я шла, и шла, и шла…
Мозг жадно высасывал из наушников песни. Моих лучших друзей. Те песни, что я вспомню и буду петь перед расстрелом. В их крепких объятиях «изнутри», с изнанки меня, было чуточку легче. «Redemption song» Боба Марли помогала мне плакать.
Не успела я опомниться, как на часах стукнуло три… Я окончательно вымоталась, резко остановившись посреди безлюдной дороги. Выключив музыку, я вынула наушники – мёртвая тишина облила кипятком мои уши и привела меня в чувства.
Вглядевшись в поглощающий мрак, я поняла, что совершенно не знаю эту местность, но она должна была быть недалеко от дома. Почему я не взяла такси? Да-да. Я ведь не желала никого видеть…
Кажется, здесь полно мелких фабрик – а значит, есть и ночные сторожи. Так я успокаивала себя, потому что сердце резко оказалось не на месте.
Я шла быстро и уверенно, лаская ножик в кармане куртки.
Только я поддалась панике и сорвалась на бег, как до меня кое-что дошло. Потому что внезапно в меня вонзились шесть пар светящихся глаз. Да. Здесь водились не только охранники. Раз это промзона – то тут полно бешеных диких собак.
Я часто слышала истории о том, как они дрались и кусались между собой, как загрызали до смерти и не пускали в стаю хилых собачонок, как убивали чужих домашних животных. И как калечили людей. Я думала, что это сказочки, – ведь должны же были усыпить этих чудовищ?
И вот. Я их вижу. Они лаем раздирают чёрное полотно ночной тишины. И бегут прямо на меня.
Шесть пар горящих лающих глаз приближались, как плеяды, стремящиеся к кораблю в космосе. Ненавижу собачий лай – он похож на неотёсанное дерево в занозах и кусках разодранного мяса.
Я не замедлила бег. Забыла про нож. И даже испугаться не успела ни капли. Я спокойно бежала навстречу им – а они мне.
Сердце будто вспомнило о своём долге сохранять мою жизнь— и быстро вернулось на место. Разум был ясный, холодный и жёстко следовал инструкциям: «Защитить. Отстоять. Не дать себя сломать».
Между нами оставалось метром пятьдесят. Всё происходило так быстро, но я чётко знала, что делать. Будто каждую ночь встречаюсь с ними. Я уже приметила чёрного вожака, бегущего впереди всех, и пристально впивалась взглядом в его жёлтые глаза.
Этот мясной драный лай всё ближе. Своими острыми плетьми он уже достаёт до моих ушей.
Жёлтые глаза яростно кололи меня в ответ.
Я чуть сбавила темп. Но твёрдыми, каменными шагами не прекращала приближаться к ним.
Шесть слюнявых пастей с лаем кусали воздух, тащив одеяло моего пространства всё ближе к себе.
Между нами всего несколько метров. Я перешла на шаг, самый твёрдый шаг. Вытянулась вперёд и не переставала смотреть в бешеные глаза вожака. Он притормозил. Мы все перешли на шаг.
Вот так. Тихонько. Мне нельзя нападать – иначе у них не будет выбора. Надо только дать понять, что я не боюсь, буду биться насмерть – но нападать не стану.
Я согнулась почти пополам, приближаясь к чёрной клыкастой морде вплотную. Медленно, но твёрдо я иду прямо к нему, нос к носу. Лай оглушает меня, но взгляд мой вцепился в его дурные жёлтые глаза намертво. Между нами всего один шаг…
Мне нельзя остановиться и ждать. Иначе у них не будет выбора. Доли секунды…
Делаю ещё один уверенный шаг левее, чуть в сторону. Чёрный пёс с рыком обходит меня чуть правее. Воющая шайка слушается и следует за ним. Остановиться никому нельзя – иначе выбора не будет: придётся драться. Каждому придётся доказать, что он не трус. Завершаю полукруг – и вот я окружена псинами с трёх сторон, но главный всё ещё прямо передо мной. Лай заливает мои уши кровью с щепками. Никому из нас не к лицу струсить. Но и драки насмерть никто не хочет…
Рычит. Смотрит в глаза. И медленно, отражая мои шаги, танцует наш вальс. Мы делаем рокировку, описывая дьявольский круг. Пячусь задом – вот и всё. Они позади. На той стороне своего пути Чёрный вожак ещё рычит на меня вполоборота, но вскоре медленно уходит. Шакалы за ним.
Я разворачиваюсь вперёд и больше не вижу их. Только слышу ещё иногда.
Прибавляю скорость – и несусь домой, словно тень демона.
…
Я зашла в свою комнату. И даже здесь ещё не успела испугаться.
Меня начало трясти лишь под утро. По-настоящему лихорадить.
Мир хочет убить меня. Теперь это ясно.
В моей жизни уже бывали такие случаи – «жизнь – смерть». Когда тебе нечем спастись – нечем укрыться. Когда у тебя нет оружия – кроме твоего характера. Тогда ты понимаешь, чего ты стоишь. Из чего ты сделан.
Какой инстинкт отвечает за защиту достоинства? Умереть, но стоя. Только не дать сломить себя. Я уже не раз доказала самой себе, что могу себе верить. Что могу положиться на себя. Что могу доверить себе собственную жизнь.
И да. Отныне я даже обоссанных чихуа-хуа шугаюсь до жопы.
Под окнами Лео
Мне снится, что я выпиваю в баре с дятлами.
– Ставлю пять тактов на седьмого! – Я поднимаю над головой кубик времени и свистом привлекаю бармена, принимающего ставки.
Бармен – зелёный от абсента фламинго.
– За пять тактов ты отупеешь, старушка! – Седой голубь тычет в мой бок клюкой. – Если проиграешь двадцать раз!
– Расслабься, развалюха! Я тебе ещё ссужать буду свои мощности!
Правила таковы.
Девять дятлов выдалбливают в игровой доске процессорные команды.
Один удар клювом – один такт.
Цель – вывести заданный код в логической интегральной схеме. Дятлу важно ударить по нужным транзисторам, чтобы над его частью доски загорелись нужные лампочки. Мой – седьмой дятел – особенный: он умеет находить алгоритмические лазейки. И всего за пару тактов выбивать заданный шифр.
– Давай, дружище! Не дай мне ополоуметь!
Но суть игры не в этом. А в том, чтобы угадать – за сколько тактов тот дятел, на которого ты ставишь, сделает своё дело. А ставишь ты на кон мощность процессора, что у тебя в черепной коробке, – собственные умственные способности. Я поставила пять тактов – это означает, что если мы с моим Седьмым проиграем – я стану думать на пять тактов медленнее. И отыграться будет сложнее!
– Ну! Есть! Выбито! Ха-ха! Выкусите, сосунки!
Кажется, мы только что подняли ещё по 17 тактов нашим ай кью! Если учесть, скольких проигравших ободрали.
– Друг, два абсента! Мне и моей счастливой пташке!
Фламинго отрыгнул мне и седьмому дятлу две рюмки.
Можно, конечно, случайно влететь в этот бар, расположенный на самой верхушке двухсотлетнего дуба – и с ходу поставить на любую приглянувшуюся птичку. Но все профессиональные игроки, как я, работают со своими дятлами-напарниками уже много лет.
Мы встречаемся дважды в неделю – и проигрываем все возможные комбинации. Находим все кратчайшие пути – и заранее знаем, что пробьём диод через стандартные усилители – чёрт возьми, за 12 тактов.
Некоторые жулики сразу договариваются на 50 – при любых комбинациях – и пол-игры халтурят и валяют дурака, ковыряясь в дощечке. Один несчастный триггер долбят все 50 тактов, без шуток! Если крупье замечает этот мухлёж за игроком – в следующий раз его поставят за «Паршивую доску». Это гарантированный провал для игрока, потому что такая доска имеет трещины и перебои в элементах.
Наше с Седьмым преимущество в том, что мы очень умные – и можем почти любую комбинацию отыграть заранее и выставить её за минимальное количество тактов. Если проигрываем – то почти ничего не теряем, но если выигрываем – поднимаемся вверх по пирамиде и в финале срываем куш. И ещё. Чем меньше ставка – тем выше стоимость каждого такта в случае 100% попадания.
Просыпаюсь оттого, что в моё окно прилетела какая-то дрянь.
Наверное, поддатый голубь. Не смог найти дорогу из дятлова бара. Плевать.
– Седьмой! У нас сложный граф впереди! Я не уверена, что лазейка сработает, – давай поднимем залог!
О, ещё один глухой стук в окно.
Кажется, придётся проснуться и вызвать этому пернатому алкашу такси.
Третий стук… Всё-всё, встаю!
Часы на столе заявляют 02:07. Открываю окно, выглядываю – а внизу Лео.
Ищет в кустах какую-то тряпку. Да он еле на ногах держится! О, хочет ещё раз замахнуться в моё окно, но тут увидел меня и расплылся в улыбке:
– Кристи-и-и-иночка!
– Какого дьявола ты орёшь! Стой где шатаешься, я сейчас спущусь!
Так, джинсы, толстовка. Лео! Лео? Призёр олимпиады – орёт среди ночи под моими окнами? Если предки увидят – мне потом всю жизнь будет за него стыдно.
Выбегаю во двор:
– Ты мне такую ставку испоганил!
Лео смотрит на меня щурясь и громко сопит.
– Ты что, в дерьмо?
Никогда его таким не видела. Лео. Явился ко мне пьянущий и проорал вглубь темноты:
– Да-а-а-а-э-э! Я нажрался в сисю!
– Дурак! Зачем?!
– Ну! К-кристинушка. Какого цвета мой перегар?
Никогда не видела в нём столько искреннего злодейства!
Лео начал громко ржать – я попыталась заткнуть его. В итоге он повалился на меня, и теперь мне приходится держать на себе эту тушу…
– Ты видишь, какой я трус! Кристиночка. Моя…
Лео крепко обнял меня и обхватил рукой мою шею. Струйка щекотки пробежала от затылка до самых пяток так, что у меня свело ноги. Он такой тёплый и мягкий. Кажется, я чувствую биения его органов и начинаю путать, какие из пульсирующих вен его, а какие – мои.
– У трезвого льва кишка тонка признаться, – Лео сфокусировался наконец на моих глазах, – что он любит тебя. – Взгляд Лео стал почти ясным. Он пригладил мои волосы. Струи щекотки размножились и покрыли ручьём всю мою спину. Лео наклонился. И поцеловал меня своим ярко-красным поцелуем.
В животе и спине так сильно щекочет, что я то и дело вздрагиваю, ещё сильнее запутывая наши с Лео взбесившиеся вены. Его язык – это кусочек его сердца. И мне не хочется больше ничего и никогда на свете, кроме как вот так хранить это сердце у себя во рту.
Твой перегар пахнет ярко-красно, Лео.
Говнюк. Метр девяносто
– Ты сам меня поцеловал, Лео. Я тебя за язык не тянула.
Весь день ты меня динамил, Лео. Но теперь, на чистом, в последний раз заснеженном крыльце, пусть все узнают, что ты не такая уж бесчувственная сволочь.
– Не помню. – Эта глыба, опасаясь разоблачения, оборонительно язвила.
– Что, слабо теперь повторить при всех? – Я не теряла надежду. Не-е-ет, не вздумай изображать, что тебе противно! Все знают, что я красивая.
– Не помню, что повторять. – Глыба Лео пренебрежительно ухмыльнулась, воткнула в рот сигарету и безразлично отвела взгляд.
– Что, теперь решил держать язык за зубами?
Да как ты смеешь?! Ты при друзьях хочешь потоптаться по мне?! Все растерянно улыбались и молчали, ожидая развязки. Видимо, Лео стало чуточку стыдно за себя – и он решил хотя бы ещё разок съязвить:
– Может, это ты сама лезла ко мне пососаться?
– Я? Да у меня бы язык не повернулся!
– Бред. Я бы не стал целовать такую, как ты.
Слёзы застеклили взгляд. Я бежала нараспашку по последнему свежему снегу. Отшить меня! При всех! Я не заслуживаю такого, Лео!
Слёзы текли под шерстяной ворот и охлаждали взбесившуюся грудь. Да я в ярости готова была нассать прямо в штаны, только бы остудить пылавшую от злости задницу!
Да пошёл ты! Социопат хренов. У тебя ни яиц, ни сердца, Лео Митин!
А плевать… Терять-то нечего
Я брела вдоль одной из людных аллей в старом центре. Под первыми, по-настоящему весенними лучами. И встретила Ника. И его шайку. С плакатами, призывающими к свободе. Как же быстро мне сделалось противно, что это слово жестоко насилуют такие мерзкие поганцы, как эти…
Я подошла, вырвала у Ника его плакат и разорвала при всех:
– Ну и что у вас за свобода тут? Свобода поливать дерьмом?
– Это кто такая, Никит? – встрял тип с физиономией мелкой псины.
– Такая, какой тебе не стать. Ко мне обращайся, когда обо мне спрашиваешь, ублюдок!
– Ты чё, проплаченная? – вставил кто-то сбоку.
Весь мир вселился в меня. И я, даже не увидев, кто это, со всей дури развернулась и съездила ему в рожу так, что тот упал. И всё равно не посмотрела на него. Я подошла к Нику вплотную, он судорожно сделал шаг назад.
– Так какая свобода, Никитосичка? Свобода воровать самому? Что, неймётся, что кто-то ворует по-крупному, а ты всё мелочишься?
Я плюнула на один из плакатов и продолжила криком:
– Ты! Тот, кто не может противостоять собственному репетитору, – хочешь противостоять всему миру? Ты! Тот, кто списал все экзамены! Воровать чужой труд тебе не стыдно? Лживое преувеличение собственных мозгов не бередит твоё понимание справедливости? Ну и чем ты лучше тех, кто присваивает себе чужие деньги? Или ты просто завидуешь всем, кто обманывает масштабнее, чем ты! И будешь обманывать так же! Пока ты не чувствуешь стыд за то, что списываешь на экзаменах и выдаешь чужой труд за свой – ты такой же вор, только мелочный! Таких волков, как ты, кормит любая страна!
Я ушла. Ну конечно, в слезах, как же. Опустив глаза. Нет, мне не стыдно.
Мне не хочется видеть людей. Я не верю, что они такие. Мне стыдно за людей перед миром.
Я пробовала списывать. Но у меня ничего не вышло. Мне стало так мерзко перед самой собой, что я сама попросила у учителя двойку. Как не станет стыдно? Как себя уважать за такое? Ума не приложу. Как другие себя уважают после такого? Из раза в раз?! Ума не приложу…
Вдруг я остановилась, потому что почувствовала чей-то острый взгляд, посадивший меня на крючок. Леса натянулась, и я встала колом. Я обернулась и на миг увидела знакомые светящиеся глаза – но они тут же испарились…
Кто-то видел меня всё это время. Это… это ведь… Эрик?! Бред. Почудилось.
Даже мёртвые живее живых
Вот интересно. Существует ли коллективная синестезия? Как бессознательное? Например, волшебные звуки инструмента «бар чаймс» у многих вызывает ощущение мерцающих звёздочек. У меня он, кстати, похож на серебристые овальные конфетти где-то в левом верхнем углу…
Возможно, когда мы были амёбами и трогали мир прямо мозгом – без всего паровоза из нервов и разноуровневых языков программирования психики, – мы ощущали вкус, звук и свет одним органом? Что бы сказал на это старина Фрейд?
Бред. Не я первая задаюсь этим вопросом. Наверняка всё гораздо сложнее.
Странно работает наш психический компилятор. Гнутый и ломаный воспитанием… Ты видишь булочку, желудок пустует. Ну что тут сложного?
Но нет. Машинный код внутри желудка подаёт запрос на пропитание в мозг. Ассемблер должен был перевести этот запрос на уровень выше без изменений… Но в мозгу переводчик уже исковеркан. Вытесненные воспоминания из детства знают, как однажды тебя силой пичкала хлебом бабушка, и тебя стошнило. И этот переводчик вместо: «Ешь быстрее!» говорит: «Ешь, но будет больно». И вот наконец верхний, сознательный уровень вопит в твоей голове: «Опять жрать тянет, посмотри на свой зад – вот это боль!». Желудок говорит: «Дай!», а опыт: «Выкинь!»
Твой биос просит поесть, а дисассемблер выдаёт: «Ненавижу тебя, жирная сука».
В моей голове есть и другая непосильная задача: как увидеть пятое измерение? Как рассказать большинству людей про четвёртое измерение?
Иначе я умру от одиночества!
Кажется, я уже умерла.
Юнг. Фрейд. Шекспир. Ницше… Это мои единственные друзья. Даже мёртвые живее живых.
Даже злые Тени посещают меня чаще, чем люди.
Мёртвые живее живых…
НЕТ
БОЖЕ. КАК МНЕ ПЛОХО
Время четыре часа. Я всю ночь рыдаю лицом в пол и бьюсь головой об него же.
ОТЗОВИСЬ ХОТЯ БЫ АД
Прошу…
Я СЕЙЧАС СВИХНУСЬ ОТ БОЛИ
КТО-НИБУДЬ
УМОЛЯЮ
ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕДНЯЯ ДВЕРЬ В МОЁ ПОДСОЗНАНИЕ
ЭТО ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
Я добилась.
Меня оставили одну.
Как же страшно быть одной против всего мира. Как против стаи диких собак.
Пожалуйста. КТО-НИБУДЬ. Обнимите меня.
Моё сердце льётся наружу очень больно!
Помогите, прошу вас, помогите кто-нибудь…
Я не верю никому.
Все дни впустую. Все серые и бессмысленные.
Я чувствую старость. Мне тошно от себя!
Как я смею страдать, когда многим людям нечего есть?!
У меня нет сердца…
Смерть – это просто шанс, что ада не существует. Шанс, что ад не наступит – ад закончится…
Помогите кто-нибудь.
Реву из окна на весь мир. Молча…
Бьюсь в агонии… Режу себя. Кровь повсюду.
Раны щиплет. Я их сердцем чувствую.
Помогите хоть кто-нибудь.
Умоляю, я человек.
Лучше плохо, чем никак
Перерыв между двумя информатиками.
Кажется, только нули и единицы держат меня в этом мире.
Я выпросила у Г. Г. задания по нижнему уровню и машинным кодам. Хочется вернуться к истокам – к нашим электронным предкам. Теперь я решаю задачи со счётчиками, шифраторами, мультиплексорами… Это ведь так просто: ноль, единица и их искренние, бесхитростные сочетания. Зачем люди всё усложняют?
Я смотрю в пасмурное окно, глядя на отражение своей бархатной бабочки с серебряной ленточкой. Отвернувшись к чёрту от всей гимназии. Кажется, всего в паре шагов за моей спиной все меня ненавидят.
– Ребята про тебя спрашивают!
Лид и Рема с двух сторон атаковали меня объятиями.
– Ну же, ещё разочек – поехали!
– На парковку у вонючей «Ниагары»?
Рема сделала большие глаза и насмешливо закивала.
Лид и вовсе положила голову мне на плечи. Она редко проявляет чувства. Кроме всезнающей сдержанности и страстного безразличия.
Я задумалась, глядя в окно. Серебристая ленточка моей бабочки отражалась так, как будто настоящий серебряный ручеёк сбегал по моей блузке. Там, в прозрачном оконном Зазеркалье. Где у Кристины всё волшебно.
– Да, я поеду с вами.
Не знаю, что я ищу в этом сраном районе. Чего жду от этих странных людей. Живых взглядов? Живых. Пускай звериных, но живых.
Я так ищу людей… Среди людей…
Апрель. Вечер в комнате у Ремы
Предки свалили. Лид лежала на кровати, задрав шпильки на стены с постерами, и посасывала пиво из бутылки. Свет был везде выключен – только диско-шары для вечеринок обстреливали комнату ярко-розовыми брызгами. А по глазам били белые лампы вокруг зеркала. Над столиком с драгоценной косметикой.
– Клёвая брошка, Крис!
Красный лакированный паучок украшал мою чёрную косуху. И охранял покой моего коматозного сердца.
Мы красились перед тусовкой у «Ниагары». Играла громкая музыка, и мы говорили короткими громкими кляксами, заляпывая звуками и без того цветастые от песен стены.
Рема, бёдрами отвоёвывая своё место под светом, ловко ваяла каким-то чудным инструментом свои брови, а когда закончила, в порядке очереди передала его мне. Я даже не знаю, что это.
– Я не подвожу брови.
– Брось, Кристюх! Всем нам сегодня можно быть капельку красивее. Ровно на капельку туши.
– И пива! – Лид приподняла бутылку. Мне нравится, как её персиковый голос тепло разбавляет наше звуковое полотно. Но я разозлилась!
– В том-то и дело, Рем! Ведь это не будет красиво, Рем! – Я брызнула очень кислотную звуковую струю, негодуя: ну как можно не понять такую простую вещь!
Мои бровки тонкие. Не густые, но довольно чёткие и образуют несколько углов. Ниточки узора, притянутые, будто тросы от бушприта к мачтам. Они, точно бронзовая вышивка, безупречно обрамляют гранёную форму моих янтарных глаз. И коричневый карандаш всё только испортит, как пятно от соуса.
– Ты можешь себе представить, как барочной оконной арке пойдут грубые деревянные ставни? – я продолжала отравлять нашу звуковую абстракцию ядовитыми красками. Музыка, сопротивляясь, ответила пёстрой пейнтбольной очередью из ударных.
– В смысле, Крысь, при чём тут бар? – ещё громче переспросила Рема.
– А, расслабься. – Я уже подкрашивала губы вишнёвым. Хм. Почему бы не нарисовать вишнёвую родинку над губой? Маленький рубин – господи, как он мне идёт!
– Недурно! – влезла между мной и зеркалом Рема. – На, хоть тушь прими!
– Только самую малость!
– Фу, зануда!
– Я крашу ресницы лишь на внешних уголках. Так подчёркивается форма, напоминающая готические аркбутаны.
– Чё? Ух ты, клёво! Так правда потрясно смотрится! Слушай, а накрась-ка меня тоже, Крись! Как мне пойдёт? Сегодня мой балбес решает какие-то тупые вопросы, так что явятся все клёвые старшие: Эмиль, Котик, Марс.
Слово «Котик» остро вкололось мне в спину. Пробежала рябь. В животе что-то мутно всколыхнулось, как будто в розовой воде размешали тёмно-синюю акварель. Стало тяжело внутри желудка. Котик! Ужасно! Я решила теперь ни за что не ехать! И поехать во что бы то ни стало.
– Да… – протянула я монотонно и безразлично, – весь высший свет…
Не думала, что вернусь на Ниагарские
– Вот и все наши! – Рема высунула из окошка такси свою руку, сжимавшую банку пива, и привычно помахала ей ребятам, разливая содержимое по дороге. – Вышвырните нас здесь!
Ого. Сегодня толпа побогаче и тачек побольше, чем полгода назад. Полгода! Но я их совсем не боюсь теперь: я вижу, парни меня помнят. Они таращатся на меня с восторгом! Кайф!
Рема уже без прежнего запала повисла на своём псе. Тот тепло кивнул мне. А вот Лид ни к кому не спешит. Кажется, она со своим успела расстаться. Не помню только – с кем…
– О, наша рыжая хакерша! – И как этого зовут, тоже не помню. – А чего ты нас забросила?
– От легавых гасилась. – Я вложила все сраные силы, чтобы ответить как можно развязнее, потому что волнуюсь, как лисица при виде медведей.
Парни растаяли и разулыбались окончательно. Что? Опять? Господи, да это даже не юмор – я ляпнула с испугу первую попавшуюся чепуху! А, ладно. Главное, что вы добрые славные ребята. И я вам ой как по душе! Да, мой медовый бойкий голосок! Ты делаешь людей вокруг меня слаще.
– Я же говорила, ты теперь наша! – Обожаю тебя, Рем.
О. Всё те же психопаты там, поодаль. И пёсик Ремы спешит к ним, и кажется, бывший Лид…
– Не бойся их! Не сцы, мать! – Рема взяла меня под руку и прижалась ко мне сбоку. Что бы я без неё делала! – Они сейчас потупят, пощекочут наших парней и свалят. Сдались им такие малолетки, как мы. – Рема вздохнула почти с обидой.
А я бы очень надеялась.
– Хочешь пивка, Кристи? – Какой-то пухлый сердобольный парень протянул мне маленькую соблазнительную бутылочку.
– Да. Пожалуй, стоит охладить мой перегруженный процессор.
Я глотнула, не сводя глаз с Котика, и протянула назад бутылочку.
– Да твоя, не парься, – ответил заботливый голос.
Я приподняла бутыль в знак благодарности. Котик нервными выпадами нависал над пёсиком, как стена с ядовитыми шипами. Даже издалека было хорошо заметно, как его приросшая к лицу гримаса уродливо искривляет всё пространство вокруг себя: мышцы на лице напряжены в презрительном прищуре, вся кожа бугрится и морщинится, даже волосы кажутся скользкими и сальными. От него воняет таким уродством, что меня тошнит. Без шуток – я смотрю на Котика в почти мазохистическом безумии, и меня укачивает от перекошенной им действительности, от сюра, от того, что никто больше этого не замечает. И от его тёмно-фиолетового запаха…
Да, пожурят здешних ребят – интересно, за что? Ядерный коктейль из чувств. Пёсик боязливо улыбается, а мне за него плакать хочется – так страшно видеть психопресс над человеком. Плюс порция гнусного облегчения – авось на пёсике сорвётся и меня пронесёт: не заметит, свалит. Не заметит? Меня? Котик? Это невыносимо! Да, и это оставшаяся треть из разочарования… Что?!
– Вот бы моему бывшему наваляли. – Лид подошла к нам с Ремой и повернулась к остальным спиной. Она глотнула из моей бутылки. – Козёл сраный!
Рема обняла её свободной рукой и чмокнула в лоб.
– Лиди, твою мать! Тебя вообще хоть что-нибудь, кроме твоего обоссанного недопарня, интересует? Музыка, кино, подруги, не? – Чёрт, как же я на самом деле боюсь Лид! И всегда боялась. Чего мне сейчас стоило отключиться, чтобы наорать на неё почти без сознания. Она одна из тех, кто чует мою неуверенность – и будто нарочно расшатывает! Игнорит, не поддерживает. Держит власть, поганка! Она может бросить меня на полдороги и знает, что я не осмелюсь даже спросить вслед: «Куда же ты?» И вообще делает только то, что хочет, дрянь!
– Ну ты и дрянь, Лид! Мы тебя набухали, дотащили твоё драное штопаное сердце на себе, всю дорогу терпели твой полоумный трёп, – а ты, сучка вшивая, теперь только о нём и чешешь! – Я отобрала бутылку назад. И, кажется, уже минуты две, как наверняк потеряла сознание.
Лид обалдела.
– Простите! – Она бросилась в нас с Ремой с объятиями и впервые размякла не на шутку. – Фу, как он меня бесит! – Лид надула щёки и раздражённо выдохнула.
– Ой-ой, – Рема встрепенулась, – не смотри вперёд.
Вся гнусная шайка уверенно движется на нас. Чёрт, Котик скоро будет совсем рядом, аж не верится.
Ну вот и он. Реванш! Я должна победить в этот раз. Я должна отомстить, верно?
Давай, очнись, Кристина! Сука драная, вылезай из своего колодца!!!
Они остановились шеренгой в десяти метрах от меня.
Я не вижу их лиц – вижу только чёрные тени и искрящиеся дырки глаз…
Время замедлилось.
Шесть пар светящихся глаз…
Нет. Мир хочет убить меня!!!
Коленки стучат друг о друга так громко…
Я падаю на дно колодца, нет!





