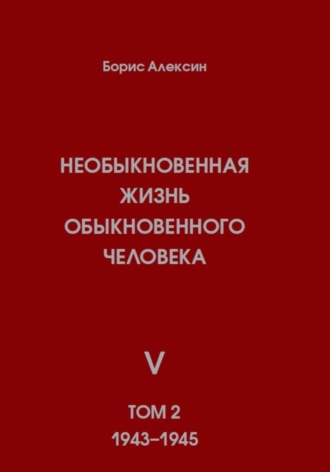
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
Глава восьмая
Хотя по имеющейся у Алёшкина карте можно было определить, что город Варен находится северо-западнее Берлина и, по-видимому, ещё занят фашистами, он за последнее время так привык ничему не удивляться, что, получив приказ, 26 апреля отправился туда. Как всегда, они с Захаровым и двумя автоматчиками выехали вперёд на рекогносцировку, оставив колонну под командованием Павловского на расстоянии 5–8 километров от себя. Одновременно он дал распоряжение, чтобы колонна пока в город не въезжала: возможно, что помещение для его размещения найдётся где-нибудь на окраине.
Варен – маленький, чистенький и совсем не тронутый войной городок производил приятное и в то же время удивительное впечатление. Его, очевидно, сдали без боя, так как никаких следов боевых действий и даже прохождения крупных подразделений наших войск не было. Больше всего изумляло, что он, видимо, совершенно не подвергался бомбёжкам с воздуха.
Многие городки и даже небольшие посёлки Германии, встречавшиеся на пути следования госпиталя, почти всегда носили следы налётов, производимых американской и английской авиацией, даже в том случае, если этот населённый пункт не имел никаких военных объектов, а, следовательно, и стратегического значения.
Варен составлял удивительное исключение. Он располагался на берегу озера Мюриц, имел значительный железнодорожный узел, много складов, в центре было достаточно крупных зданий, и тем не менее, его ни разу не бомбили. Непонятно!
Пока Борис и Захаров делились друг с другом этими впечатлениями, машина бесшумно катилась по асфальтовой мостовой и уже приближалась к центру, который, как и во всех немецких городках, обозначался площадью перед зданием ратуши, отличавшейся от других домов небольшой башней с часами.
В палисадниках чистеньких домов беззаботно играли дети, по тротуарам шли в различных направлениях пешеходы, не было только автомашин. В центре города торговали магазины, большие и маленькие. Вообще, городок выглядел так, как будто никакой войны не было. Более того, когда машина остановилась около здания ратуши, и Алёшкин с Захаровым, сопровождаемые автоматчиками, вышли из неё, то у входа в дом они увидели немецкого полицейского в форме. Борис и Захаров переглянулись: «Уж не попали ли мы в «логово зверя»? Может быть, город ещё в руках фашистов?», – подумали они одновременно. Очевидно, о том же подумал и Лагунцов. Он быстро развернул машину и, не глуша мотора, открыл обе дверцы, как бы приглашая в случае необходимости своих командиров и бойцов быстрее садиться.
Но к немалому удивлению наших разведчиков, шуцман (сотрудник нацистской полиции. Прим. ред.), увидев выходивших из машины советских офицеров, вытянулся, приложил руку к своей форменной каскетке и, распахнув дверь, около которой стоял, вежливо, пожалуй, даже подобострастно, произнёс:
– Битте, комхер!
Кстати сказать, прибытие представителей Красной армии, видимо, заинтересовало прохожих, в основном женщин и детей, вероятно, видевших советских воинов впервые. Они стали останавливаться в некотором отдалении от машины, о чём-то быстро, беспокойно, но тихонько, переговариваясь.
Поднявшись по широкой лестнице на второй этаж, офицеры были встречены пожилой немкой, которая радостно заулыбалась и, сделав приветственный жест, показала рукой на находившуюся почти прямо против лестницы большую дверь, проговорила:
– Хир ист герр бургомистр, битте!
Это выражение оба командира научились понимать. Они направились к двери, оставив второго из сопровождавших их автоматчиков на лестнице, первый уже стоял на улице у входной двери. Сами они, кроме пистолетов, были вооружены автоматами ППШ и готовы были при первом же признаке тревоги открыть из них огонь.
Войдя в большую комнату, они увидели за письменным столом старого, гладко выбритого мужчину. Лысина его была обрамлена венчиком седых волос, а на худом, сморщенном лице отражалась сильная усталость. Он встал, радостно улыбнулся и неожиданно по-русски произнёс:
– Славу Богу, наконец-то вы пришли!
Борис и Захаров от изумления даже остановились.
– Проходите, садитесь, сейчас я вам всё расскажу. Курите.
Всё ещё не придя в себя, гости сели к столу, и закурили. Захаров протянул пачку «Казбека» и старичку. Тот взял папиросу, долго мял её пальцами, потом закурил и сказал:
– О-о! Как давно я не курил русский табак! Зер гут!
Через полчаса Борис и Захаров уже знали, что этот немец – автомеханик. В 1932–1935 годах он работал в качестве иностранного специалиста на Горьковском автозаводе, где научился русскому языку. После возвращения в Германию его отправили в концлагерь на пять лет. Будучи антифашистом, он находился в Варене на нелегальном положении, под чужой фамилией, работая в депо на железной дороге. Эта работа помогла ему избежать тотальной мобилизации.
Тихий провинциальный Варен имел две особенности. Первая – его пригород служил местом отдыха многих берлинских капиталистов, для чего там было построено около трёх десятков роскошных вилл. Большая часть населения и торговые предприятия городка обслуживали эти виллы. Вторая – в противоположной части Варена с 1939 года находился большой лагерь военнопленных, американских и английских лётчиков.
Узнав это, Захаров понимающе посмотрел на Бориса: «Так вот почему англичане и американцы не бомбили этот городок, ведь многие германские крупные капиталисты были тесно связаны не только финансовыми, но и родственными узами с представителями крупного капитала Америки и Англии. Кроме того, и лагерь со своими – англичанами и американцами…»
А между тем старичок рассказывал дальше. Он сообщил, что начальник немногочисленного гарнизона, узнав о приближении Красной армии, выслал делегатов с просьбой не обстреливать Варен, так как город капитулирует без сопротивления. Командир дивизии, к которому обратилась делегация, согласился и пообещал прислать своих людей – коменданта и воинскую часть. Однако до сих пор никто не приехал.
– Гарнизон, охрана лагеря, находившиеся в городе нацисты (бывший бургомистр и часть полицейских) решили не ждать прихода советских войск, а сразу же после ухода делегации покинули город, сев на поезд, отправлявшийся на запад, в сторону Гамбурга. В Варене наступило безвластие. Тогда, – продолжал свой рассказ старый немец, – антифашистский подпольный комитет назначил бургомистром меня. Первым моим распоряжением было, чтобы все жители вывесили белые флаги.
Тут Борис и Захаров поняли, почему из окон домов свисали простыни, они ещё изумились подобному способу сушки белья.
– Мне сейчас очень трудно. Большинство служащих бургомистрата сбежали, осталось всего два-три человека, да несколько полицейских, а в городе начались беспорядки. Англичане и американцы, выйдя из лагеря на свободу, стали грабить население и обижать его, особенно женщин. Я очень рад, что теперь прибыли вы и наведёте соответствующий порядок.
Алёшкин был смущён этим рассказом и особенно его концовкой. Он совсем не готовился к тому, чтобы принимать на себя административные функции в каком-либо немецком городе. Он так и сказал бургомистру:
– Видите ли, камрад бургомистр, мы представляем собой медицинское учреждение, я начальник госпиталя, а это мой помощник. Мы обязаны как можно скорее развернуть госпиталь в каком-нибудь помещении вашего города, скоро придут первые машины с ранеными. Мы не вправе, да просто пока и не сумеем, выполнять административные функции. Единственное, чем мы вам готовы помочь, при условии, что помещение для госпиталя не потребует большой работы по его обустройству, это выделись десять красноармейцев, которые могут патрулировать улицы города.
Было видно, что старик, хотя и разочаровался, что принял не коменданта города, а лишь начальника госпиталя, заинтересованного только в том, чтобы скорее развернуть своё учреждение, обещанной помощи всё-таки обрадовался. Он сказал:
– Очень жаль, что в городе не будет пока твёрдой военной власти, но спасибо и за тех солдат, которых вы мне выделяете. Насчёт размещения госпиталя не волнуйтесь: в том же лесу, где расположены виллы богачей, стоит прекрасное трёхэтажное здание госпиталя для офицеров-подводников. Только вчера оттуда вывезли на катерах по озеру последних раненых. Никаких разрушений, кажется, там нет. Занимайте это здание, я вам дам проводника. А когда ждать ваших солдат?
– Часа через два, – немного подумав, ответил Борис.
Нужно заметить, что этот разговор проходил не так гладко, как мы его описали: немец говорил по-русски всё-таки плоховато, часто вставлял немецкие слова и переиначивал русские, не сразу понимал Бориса, поэтому переговоры заняли порядочно времени, во всяком случае, более часа. Лагунцов, сидевший в машине, уже начал беспокоиться, тем более что среди стаек немецких женщин, детей и стариков вдруг начали появляться здоровенные верзилы, что-то кричавшие на незнакомом языке и, видимо, основательно выпившие. Они находились рядом с женщинами, бесцеремонно расталкивали их, однако ближе к машине подходить не решались. В ответ на это и Лагунцов, и оставленный внизу автоматчик приняли оборонительное положение, направив оружие в сторону этих людей.
Старик-бургомистр позвонил колокольчиком, и когда к нему зашла женщина, встретившая Бориса и Захарова, он ей что-то сказал по-немецки. Вскоре в комнату вбежал молоденький немец, почти мальчишка, и, увидев советских офицеров, испуганно застыл у двери. Бургомистр что-то сказал ему, и он моментально выскочил за дверь.
– Поезжайте за этим пареньком, он вас проводит. Да, пожалуйста, не забудьте про обещанных солдат, – попросил бургомистр.
Попрощавшись со стариком за руку (кстати, это был первый немец, которому Борис пожал руку), посетители вышли из ратуши.
Мальчишка уже стоял около машины с велосипедом, пытаясь что-то объяснить Лагунцову, который сердито на него покрикивал. Сели в машину, паренёк вскочил на велосипед и поехал вперёд.
– Поезжай за ним, – сказал Борис шофёру.
***
В предполагаемое для размещения госпиталя место пришлось ехать по дороге, идущей вдоль берега озера Мюриц. Выехав из города, на развилке дорог они встретили колонну своих машин. Борис приказал колонне следовать за ними. Через 15–20 минут показался лес. Это был обычный немецкий лес, состоявший из молодых сосёнок. Было видно, что он создан искусственно, так как все деревья стояли совершенно правильными рядами, расположенными довольно густо, почва под ними была чисто выметена. Лес прорезало великолепное асфальтированное широкое шоссе. Слева, среди деревьев, то там, то здесь мелькали красивые одно- и двухэтажные небольшие дома, справа, ближе к берегу озера, лес был редкий, естественный и никаких строений не виднелось.
Проехав по этой дороге около трёх километров, вдруг совершенно неожиданно они увидели кирпичное, выкрашенное белой краской, большое трёхэтажное здание, рядом с ним – двухэтажный дом поменьше, а сквозь железную ограду виднелось несколько одноэтажных строений, очевидно, служивших для хозяйственных надобностей. Ворота, ведущие во двор этого здания, были широко распахнуты. Вокруг не было видно ни одного человека. На противоположной стороне дороги, почти прямо напротив большого дома, стояло несколько деревянных бараков, обнесённых изгородью из колючей проволоки, по-видимому, они также пустовали.
Подъехав к зданию, велосипедист остановился, слез с машины и, обведя руками вокруг, сказал:
– Дас из госпиталь!
– Данке, – ответил Борис и показал жестом, что сопровождавший может вернуться в город.
Колонна ещё не успела подойти, как Алёшкин и Захаров уже обежали весь дом и убедились, что фашисты вывозили раненых в большой спешке, поэтому побросали всё медицинское имущество, медикаменты, инструменты и бельё. Все помещения были совершенно целыми, ни одного разбитого стекла. Действовал водопровод. Электричество, поступавшее из города, тоже было исправно. Больше того, работал даже телефон, по которому Борис сумел связаться с бургомистром города. На кроватях лежало частью испачканное кровью постельное бельё, разбросанное в беспорядке.
Для приведения в порядок этого здания и для развёртывания в нём госпиталя требовалось всего несколько часов. К вечеру этого же дня можно было начать приём раненых, так Борис и сообщил связному сануправления, догнавшему колонну ещё в пути. Тот на мотоцикле помчался с донесением, а Алёшкин вместе со своими помощниками распределил помещения между отделениями госпиталя и потребовал от медперсонала закончить их подготовку к 20:00. Это было 29 апреля 1945 года.
Добин организовал охрану территории, занятую госпиталем: выставил часовых у основного помещения, а в полукилометре от него на дороге установил шлагбаум с постовым. При этом выяснилось, что дорога в двух километрах от госпиталя упиралась прямо в берег озера, пересекая, таким образом, как бы небольшой полуостров. Дальше имелись только пешеходные тропинки, ведущие в лес.
Метрах в восьмистах от здания госпиталя на этой же стороне дороги стояло три двухэтажных дома, заполненных детьми, женщинами и стариками. Как удалось выяснить, это были семьи медперсонала, обслуживавшего госпиталь и дома по соседству. Люди были очень напуганы появлением военных в красноармейской форме. Хотя Алёшкин и Павловский, собрав своих подчинённых, настрого запретили им проявлять какие-либо враждебные действия по отношению к местным немцам, а последним запретили проход на территорию госпиталя, всё же на всякий случай с этой стороны поставили второй шлагбаум с часовым, создав ещё один пропускной пункт. Кроме того, для охраны со стороны леса решили выдвинуть подвижной пост – патруль из двух человек для обхода по окраине леса на противоположной стороне дороги.
Здание госпиталя одним своим краем примыкало к самому берегу озера. Там была небольшая бухточка, на волнах которой качалось несколько яхт и около десятка вёсельных лодок. Как потом выяснилось, в распоряжении госпиталя имелось шесть быстроходных катеров, на них-то и были вывезены раненые офицеры-подводники, лечившиеся здесь, обслуга, а также выздоравливающие рядовые матросы, находившиеся в бараках.
Пока Алёшкин и Захаров занимались распределением помещений большого дома для лечебных отделений госпиталя, Павловский занялся размещением личного состава. По просьбе Игнатьича, Алёшкину предоставили две комнаты на втором этаже в двухэтажном доме, находившемся рядом с госпиталем. Остальная часть этого дома отводилась для жилья медсестёр, дружинниц, санитаров и хозяйственников. Для себя и врачей Павловский избрал одну из дач, находившуюся в 150–200 шагах от здания госпиталя.
Лагунцов тоже не терял времени даром. В гараже, обнаруженном во дворе, он нашёл две большие грузовые машины, не требовавшие ремонта, а съездив в город, разыскал в заброшенных гаражах местных богачей, удравших за границу, четыре прекрасные легковые машины. Весь этот автопарк вместе со своим транспортом так же, как и штаб госпиталя, решили разместить на той территории, где находились бараки. При беглом осмотре выяснилось, что и из них фашисты бежали с такой же поспешностью, как и из основного здания.
Когда все службы разместились на территории бараков, в одном из них обнаружили истощённого молодого немецкого солдата, лежавшего на койке. Увидев русских, он страшно испугался и поначалу от страха не мог вымолвить ни слова. Только после того, как переводчица Ася сказала ему несколько ободряющих немецких фраз, он немного успокоился и стал говорить. Рассказал он о том, что эвакуацией госпиталя руководили эсэсовцы. Офицеров, не обращая внимания на их состояние и протесты медиков, грузили на катера, поспешно уходившие в северо-западном направлении. На эти же катера погрузили и весь личный состав госпиталя. Раненых матросов рассортировали: более или менее трудоспособных взяли с собой, остальным приказали вынести на носилках всех лежачих и увели их куда-то в лес.
Дней через пять после того, как госпиталь обосновался в этом месте, Алёшкин и Захаров, бродя по лесу с охотничьими намерениями, так как там оказалось множество коз, служивших дичью для охоты приезжавшим на дачи богачам, наткнулись на большую воронку от бомбы, заполненную трупами немецких матросов, кое-как присыпанную землёй.
Найденный матрос рассказал также, что ему удалось спастись чудом. Он участвовал в погрузке раненых офицеров на катера и в самый последний момент был отправлен в помещение госпиталя, где один из врачей забыл свой серебряный портсигар. Когда с этим портсигаром он вернулся на берег, то катера находились от него более чем в полукилометре. Идти в город он не решился, а спрятался в одном из бараков, надеясь, что как-нибудь сможет вернуться в Берлин.
– Но тут неожиданно появились вы, я испугался ещё больше, ведь эсэсовцы уверяли, что русские расстреливают всех подряд. Я запрятался в самый дальний угол. Сутки перед отъездом нас не кормили, значит, уже двое суток я не ел. Воду ночью пил из бочки, стоявшей под водосточной трубой.
Алёшкин и Павловский с помощью Аси разъяснили перепуганному парнишке (ему было всего 16 лет), что ничего ему не грозит, они его даже в плен не возьмут и, если он хочет, может пойти куда угодно. Однако посоветовали отсидеться в этом городке до окончания войны, а она должна кончиться очень скоро.
Борис приказал Захарову накормить немца, что и было сделано. Поев, парень захотел отблагодарить русских и через переводчицу сообщил Захарову, что на площадке, где стояли бараки, есть вход в подземный продовольственный склад.
– Из него, наверно, не успели вывезти все продукты, – сказал он.
Действительно, в северо-западном углу площадки, почти у самой ограды обнаружили искусно замаскированную дверь, запертую висячим замком. Когда сбили замок и открыли её, внутри оказалось забетонированное обширное подземелье, по стенам которого размещались полки и ящики с самым разнообразным продовольствием, имевшим марки и этикетки различных европейских стран. Тут были и португальские сардины, и итальянские макароны, и голландские сыры, сливочное масло, французские вина, ветчина, копчёности и все виды круп. Находка очень обрадовала и Алёшкина, и Захарова, теперь они могли месяца два-три кормить личный состав госпиталя и полный комплект раненых, не думая о получении продуктов с продсклада фронта.
А раненые уже начали прибывать. 1 мая 1945 года в госпиталь поступила первая партия из Берлина и его северо-западных окраин, их было человек двести. Через день поступило ещё сто человек, затем поток раненых прервался.
Теперь и у Алёшкина, и у Павловского, и у Захарова, и почти у всех врачей имелись радиоприёмники, подобранные в Штольпе и других немецких городах. Благодаря электричеству, можно было слушать как Москву, так и вещание фашистов. Установили приёмники и в палатах.
Из сводок Информбюро стало известно о самоубийстве Гитлера, о прекращении сопротивления фашистов в Берлине. Все ждали со дня на день сообщения о конце войны, и вот этот день наступил, восьмого мая война была окончена. Мы победили!
Сообщение это в госпитале получили поздно вечером, и все, кто имел оружие, выскочили на улицу, открыли отчаянную пальбу в воздух и пустили ракеты. Люди ликовали. Все раненые, способные передвигаться, тоже выбрались на улицу, остальные подобрались к окнам и с восторгом смотрели на салют, устроенный их товарищами.
На следующий день, когда стало известно, что Днём Победы считается 9 мая, устроили торжественный обед для всех раненых и личного состава. Решили пустить в расход весь ассортимент имевшихся трофейных продуктов и вин.
Перед обедом Павловский провёл краткий митинг. В своей речи он призвал командиров и бойцов не расслабляться, помнить о том, что они находятся во вражеской стране, что, несмотря на капитуляцию военного командования фашистов, могут действовать различные диверсионные группы, и поэтому бдительность следует сохранять так же неукоснительно, как и во время войны.
Это было нелишним предупреждением, у многих бойцов появились признаки халатности в несении караульной службы, и Алёшкину с его помощниками иногда приходилось применять строгие наказания.
Сразу же после обеда раненые потребовали немедленной эвакуации в тыл, лучше всего на Родину. Конечно, выполнить это было невозможно, во-первых, по состоянию здоровья некоторых, а во-вторых, потому, что начальник госпиталя просто не знал, куда можно направлять раненых, – связь его с начсанупром оборвалась. Где находились в тот момент фронтовые госпитали, он не представлял.
Для того, чтобы успокоить возмущённых раненых, Борис решил сам съездить в Пренцлау, где ранее находилось сануправление фронта. На хорошей легковой машине, которая теперь была в его распоряжении (шикарный шестиместный «мерседес»), взяв с собой двух автоматчиков, он отправился в путь. 90 километров, которые отделяли Пренцлау от Варена, несмотря на все препятствия (взорванные мосты и объезды многочисленных воронок), они преодолели за два часа. К счастью, генерал-майор медицинской службы оказался на месте.
С интересом выслушав доклад Алёшкина о городе Варене и местоположении госпиталя, он тут же дал распоряжение начальнику орготдела о немедленной полной эвакуации всех транспортабельных раненых из во фронтовые учреждения. Отпуская Бориса, Жуков предупредил, что не позднее чем через два-три дня к нему в госпиталь приедет специальная комиссия в составе члена Военного совета, генерала Рузского, начальника тыла фронта, генерала Лагунова и его самого, Жукова.
– Тебе, товарищ Алёшкин, вероятно, будет дано особое задание. Подтяни своих ребят, наведите в госпитале и вокруг него образцовый порядок, – закончил генерал свою речь.
В тот же день Борис с этой новостью вернулся в Варен, а так как почти вслед за ним прибыл десяток автобусов, то к утру следующего дня из госпиталя вывезли почти всех раненых.
Началась генеральная уборка помещений. В ней принимали участие все – от начальника госпиталя до дружинниц и санитаров. Работа длилась почти сутки, и к утру следующего дня весь госпиталь, а также его территория, прямо-таки блестели.







