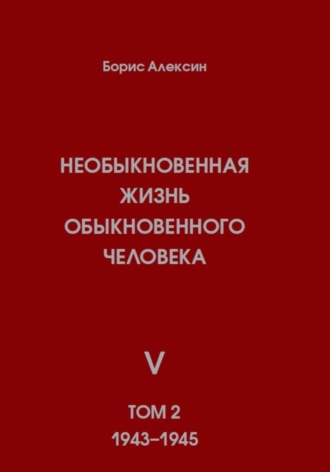
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
Глава пятая
Но вернёмся к переезду в Грауденц.
Когда Борис с Захаровым подъехали к указанному домику, то у его дверей были остановлены часовым, вновь проверившим их документы. Затем им навстречу вышел вызванный часовым старший лейтенант, проводивший их внутрь. Домик этот, видимо, когда-то принадлежал садовнику или огороднику, со всех сторон его окружали плодовые деревья и кустарники. По размерам он был очень мал, и Алёшкин удивился, как такой большой начальник, возглавлявший целую группу войск из нескольких дивизий, выбрал для своего жилья такое маленькое помещение. Впоследствии он узнал, что штаб группы находился в трёх километрах южнее, в помещичьем доме, а здесь помещался только наблюдательный пункт, где командующему, собственно, и быть-то не положено, но где он находился почти постоянно, лично руководя действиями артиллерии.
Старший лейтенант, приведший Бориса, доложил о нём майору, стоявшему у окна, а тот, сделав предостерегающий жест, задержал прибывших возле двери, а сам направился в глубину комнаты к столу, на котором стояло несколько телефонных аппаратов. По одному из них разговаривал, вернее, кричал злым голосом какие-то не совсем понятные слова, упоминая почему-то огурцы, баклажаны и другие овощи, переплетая фразы довольно крепкой бранью, ещё совсем молодой генерал.
Как только он закончил свою беседу, майор подошёл к нему и что-то тихо сказал. Генерал повернулся к двери и недовольным тоном приказал:
– Подойдите ближе.
Борис подошёл на несколько шагов и в соответствии с воинским уставом, вдолбленным ему ещё в 1929–1930 годах, чётко отрапортовал:
– Товарищ генерал-майор, 27 хирургический передвижной полевой госпиталь, по распоряжению Военного совета 2-го Белорусского фронта, прибыл в город Грауденц для оказания медицинской помощи местному населению. Начальник госпиталя майор медслужбы Алёшкин.
Лицо генерала немного прояснилось. Указав на стоявшую перед столом лавку, он сказал:
– Садитесь. Далеко ваш госпиталь?
– В одном километре отсюда.
– Эх, кабы мои госпитали так передвигаться умели! А то застряли где-то километрах в пятнадцати, не знаю, когда и догонят нас, если мы быстро управимся. Хотя тут довольно крепкий орешек: засели в крепости тысячи четыре эсэсовцев и держат под огнём всю северную часть города. Наши сидят в восточной и южной, посылать их на штурм жалко – как-никак, а войне скоро конец, зря губить людей не хочется. Вот и долбим фрицев артиллерией да авиацией.
Тут Борис понял странный разговор генерала по телефону. Он вспомнил, что по существовавшему коду «огурцами» называли тяжёлые снаряды, а «баклажанами» – авиационные бомбы.
– Фрицы отвечают, но больше попадают не по нашим войскам, а по местному населению, а у тех всё разлажено. Никаких действующих больниц нет, врачи, какие остались, попрятались по подвалам. Кое-кто из них в подвалах маленькие лазареты организовал, как сообщили разведчики, но это капля в море. Представители польского правительства просят помочь, вот я и обратился к маршалу Рокоссовскому, ведь у меня-то никаких медиков нет. Быстро откликнулись! Только вчера утром шифровку по радио отправили, а сегодня – пожалуйста, госпиталь! Что там, у него в резерве много, что ли вас?
Борис смущённо ответил:
– Не знаю, товарищ генерал. Мы сами из Эстонии три дня тому назад приехали.
– А, ну тогда понятно.
– Товарищ генерал, где вы мне посоветуете развернуться?
– Где? Надо подумать… Вот что, я надеюсь, что вы и моих бойцов хоть немного, пока мои госпиталя подтянутся, обслужите, поэтому развернуться вам надо коек на пятьсот. Сумеете?
– Мы к этому привычны, развёртывались и на большее.
– Ну что же, хорошо. Товарищ Васильев, – обратился генерал к майору, – проводите начальника госпиталя к зданию училища, в котором раньше немецкий лазарет был. Это отсюда километра два, ближе к центру города. Туда, правда, снаряды и мины долетают, но я думаю, что это вас не испугает. Когда развернётесь, мне доложите, можете связного прислать. Ну, всего хорошего.
Борис попросил генерала сообщить начальнику сануправления Жукову о прибытии госпиталя, затем вместе с Васильевым вышел из домика. У сопровождающего оказался мотоцикл, а Борис залез в свой «опель», где его дожидался Захаров. Прежде чем тронуться в путь, Алёшкин отправил одного из автоматчиков к оставленной колонне с приказанием следовать за ними.
Очень быстро по хорошей дороге, окружённой полуразрушенными домами, они подъехали к трёхэтажному кирпичному зданию, каким-то образом уцелевшему среди мелких домов. Борису сразу это место не понравилось: здание торчало, как пуп на ровном месте, так он и сказал майору. Как только вокруг него начнётся интенсивное движение людей и транспорта, фашистам из крепости будет легко накрыть его артиллерией или даже миномётами.
Кроме того, когда они втроём с Захаровым и Васильевым обошли здание, то убедились, что для быстрой эксплуатации оно совершенно непригодно: в нём не осталось целым ни одного окна, были разбиты и многие внутренние двери. Угол третьего этажа был разрушен прямым попаданием снаряда. Кроме того, очевидно, внутри здания происходил бой, многие стены были изрешечены пулями, виднелись следы от разорвавшихся гранат. Более того, в некоторых комнатах валялись ещё не убранные, начавшие разлагаться трупы фашистских солдат, поэтому в здании стояло зловоние. Чтобы привести его в мало-мальски пригодное состояние, нужно было потратить минимум неделю.
– Нет, – заявил Алёшкин, – это нам не подойдёт. Поедем искать другое помещение.
Оставив колонну машин около этого здания, Борис, Захаров и Васильев поехали по направлению к центру города. На этот раз Васильев сел в машину Алёшкина. Полчаса езды по разным улицам, где стояли большей частью полуразрушенные дома, не дали ничего. Борис уже стал возвращаться мысленно к тому зданию, от которого только что отказался. В очередной раз выбравшись из машины для осмотра какого-то дома, по-видимому, школы, он заметил пожилую женщину, торопливо переходившую большой двор. Она вышла из одного подвала и очень быстро проследовала к другому. В руках она держала вёдра с водой. Алёшкин подбежал к ней и, пользуясь своими скудными знаниями польского языка, обратился с вопросом:
– Пше прашем пани, я шукам помещение, где мог бы развернуть госпиталь, для лиц цивильных поляков.
– Ой, пане, вы естес поляк? – с радостным возбуждением воскликнула женщина, ставя вёдра на землю. – Вы маете видкрыть лечебницу? Ой, як гарно, бардзо добже. О тут в подлоге маю триех ранетых, там теж е. А, хвилину… Який вам дом тшеба? О тут за рогом улицы, е великий будынок. Раньше там була детця мисцова больница. Потом немцы свий лазарет зробили. Здается, що те домина цел.
По её исковерканному языку Борис догадался, что перед ним не полька, и он спросил:
– А пани полька?
– О, ни, я вкраинка, мне сюды с пид Полтавы привезли. Я тут у одного пана эсэсовца в наймичках жила. Вин поихав, а я поки не можу иттить до дому. По ту ранетые есть, я им трохи помогаю.
– Спасибо, тётю. Через день мы ваших раненых заберём и покладём в госпиталь, и вы сможете уехать на ридну Украину. Зараз пойдём побачим дом.
Борис быстро вернулся в машину и, ничего не говоря своим спутникам, приказал Лагунцову ехать вперёд, через квартал завернуть направо. Проехав шагов двести, они очутились перед высокой железной оградой, внутри которой росло несколько рядов деревьев и виднелся большой двухэтажный дом. Въехать в ворота и остановиться у широко распахнутой парадной двери здания было делом пары минут. А ещё через полчаса, обойдя весь дом и убедившись в его почти абсолютной целости, наличии в нём не менее двухсот кроватей, операционной, в которой даже валялись инструменты, исправным водопроводом и относительно небольшой захламлённостью, Борис отправил Захарова за госпитальной колонной. Вместе с ним уехал и Васильев, обещая доложить о найденном помещении генералу Комарову.
Васильев неоднократно бывал в занятой Красной армией части города и, хотя этого здания и не замечал, тем не менее, ориентируясь по плану города, сообщил, что дом находился менее чем в километре от передовой и не подвергался миномётному и артиллерийскому обстрелу, вероятно, потому, что обе стороны боялись попасть в своих. Ему это здание тоже понравилось, но он считал, что такое близкое соседство с противником всё же опасно. Однако Борис заверил его, что им приходилось стоять ещё ближе к фашистам и что в его госпитале люди не из трусливых, но поскольку большая часть санитаров и дружинниц будет занята поисками и переноской раненых поляков, по всей вероятности, прятавшихся по подвалам, было бы очень хорошо, если бы для охраны госпиталя прислали роту, или хотя бы взвод, бойцов на тот случай, чтобы дать отпор прорвавшимся группам фашистов. Васильев обещал доложить генералу.
Вечером этого же дня Алёшкин отправил донесение начальнику сануправления фронта, генералу Жукову о начале работ госпиталя № 27 в городе Грауденце. Донесение увёз Лагунцов. Он торопился в Бромберг, чтобы закончить ремонт раздобытой им трофейной грузовой машины и пригнать её в Грауденц. По пути он передал рапорт начальнику группы войск, ведущей осаду крепости, чтобы это донесение было передано в штаб фронта по радио.
Всю ночь и утро следующего дня санитары, дружинницы и медсёстры, закончившие к тому времени развёртывание госпиталя, группами по 3–4 человека бродили по подвалам домов и приводили или приносили поляков, главным образом стариков, женщин и детей, в помещение госпиталя.
Алёшкин, по предложению Игнатьича, обследовавшего окрестности, разместился в небольшом одноэтажном, совершенно целом домике, окружённом палисадником. В нём было четыре комнаты и кухня. Одну из комнат занял Борис, Игнатьич с Джеком поселились на кухне. Осмотрев помещения, Алёшкин приказал Игнатьичу сообщить о трёх свободных комнатах врачам Минаевой, Батюшкову, Феофановой и предложить им поселиться там. Большинство врачей со всем персоналом госпиталя разместилось на втором этаже основного здания. Оно охранялось часовыми, а домик, найденный Игнатьичем, в зону охраны не попадал – он стоял в стороне, метрах в полутораста.
Между прочим, Феофанова сказала:
– Нет, я уж лучше здесь со всеми останусь, немцы-то ведь близко. Кто их знает, что может случиться.
Однако ни Бориса, ни Игнатьича это не пугало. Они надеялись на верного сторожа Джека, да и вооружены были достаточно хорошо. Кроме того, Алёшкин полагал, что немцы сидят в крепости, а часть города вокруг неё – ничейная зона. Впоследствии выяснилось, что это не так, но пока…
Борис очень устал после двух почти бессонных суток, к тому же в дороге вдобавок ещё и простудился. Он решил в эту ночь отдохнуть. Как-никак, а приказ выполнен, госпиталь развёрнут, раненых поляков уже разыскивают. Пока нашли всего несколько человек. С их обработкой справятся остальные врачи, и он со спокойной душой улёгся в приготовленную Игнатьичем кровать, укрылся толстым меховым одеялом, перед сном выпил двойную дозу аспирина и вскоре спал таким крепким сном, что любой фашист мог его взять голыми руками.
Катя во главе одной из групп отправилась на поиски раненых. Ей удалось хорошо отдохнуть до этого, а развёртывание операционно-перевязочного блока уже за трудную работу не считалось. Собиралась отправиться в поисковый поход и старшая медсестра Журкина, но Алёшкин ей это категорически запретил. Она была уже пожилой женщиной, и ползание по тёмным подвалам оказалось бы слишком тяжёлым для неё.
Проснулся Борис от странной тишины. Вчера, когда он ложился спать, шла интенсивная артиллерийская перестрелка. Снаряды с характерным свистом и шелестом проносились где-то высоко над госпиталем, разрываясь или впереди в крепости, или далеко позади, в расположении артиллерийских позиций окружавших город частей. Сегодня было непривычно тихо.
Борис чувствовал себя лучше. Голова не болела, озноб, который мучил его вчера вечером, прекратился. Когда он приподнялся, то почувствовал небольшую слабость и головокружение, но на такие мелочи в то время внимания не обращали. Он сел и начал одеваться. В комнате было довольно прохладно, а большая чугунная печь, стоявшая в углу комнаты, оказалась холодной. Около неё лежала куча дров.
Борис позвал Игнатьича, чтобы затопить печку, однако тот не отозвался. Не вбежал в комнату, сообщавшуюся с кухней, и Джек, что он непременно сделал бы, услышав голос хозяина. Борис удивился: «Куда же они подевались-то?» – подумал он. И надо сказать, понимание того, что он здесь один, его встревожило. Он поднялся, прошёл на кухню и, убедившись, что там никого нет, вернулся в комнату, растопил печку, поставил чайник, чтобы разогреть, а затем решил пойти и выяснить, в чём дело. Затем вновь задумался: «А вдруг госпиталь заняли немцы, а меня просто не заметили? Проспал госпиталь? Вот это да!» От таких мыслей ему стало не до чая, он поспешил к зданию, занимаемому госпиталем. По дороге Борис слышал стук, издаваемый движком, и это его немного успокоило. Света в городе не было, станция разрушена, но, если движок работает, значит в госпитале всё должно быть в порядке.
Подходя к ограде, он видел, как сюда подводили и подносили женщин, детей, стариков почти беспрерывным потоком. Многие из них были неумело перевязаны, видимо, первыми попавшимися под руку тряпками, кое-кто вообще не имел никаких повязок. Все они выглядели очень истощёнными.
Борис торопливо пересёк двор госпиталя, когда навстречу ему попался Игнатьич с лопатой на плече и каким-то странным выражением лица. Алёшкин встревожился:
– Игнатьич, что случилось? Ты что такой?
Игнатьич смахнул со щеки слезу и печально сказал:
– У нас Джека больше нет.
– Как это нет?
– Да так и нет… Пристрелили его…
– Кто пристрелил? За что?!!
– Не знаю, должно быть, кто-нибудь из наших автоматчиков, разведчиков. Они ведь по этой части города выходы к крепости ищут. Наверно, увидели его, решили, что это немецкая собака, и пристрелили.
– Да ты откуда это знаешь? Видел, что ли, или рассказал кто?
– Нет… Я его вчера вечером гулять выпустил. Думал, что он, как всегда, через полчаса или через час лапой заскребёт в дверь. А тут нет. Я заснул, проснулся часов в шесть – Джека нет. Где же он, думаю, неужто заблудился, а может, кто и приманил? Да ведь он не такой, ни к кому не пойдёт. Ну, вышел я, чтобы поискать его, зову, свищу – Джека нет. Пошёл я вокруг побродить, свернул в один переулок, в другой, там тропка к кладбищу идёт, я по ней решил пройти. Шагов двадцать прошёл, смотрю, собака убитая на дороге лежит. Посмотрел ближе – Джек! Уже и закоченел. Наверно, вечером пристрелили, прямо в голову. И так мне его жалко стало, как человека прямо! Ну, думаю, прожили мы с Джеком и блокаду, и сквозь пол-России прошли, вот теперь уже и в Польше… Не могу его я так бросить, дай похороню как следует. Вернулся в госпиталь, взял у старшины лопату, пошёл к тому месту, куда его с дороги оттащил, вырыл там яму, закопал его. Теперь вот домой иду, помяну его.
– Ну ладно, иди. Вечером вместе ещё Джека помянем. Жаль пса! Я к нему тоже здорово привык. Главное, так нелепо погиб-то…
Алёшкин направился в здание госпиталя. В операционно-перевязочном блоке работа шла полным ходом. В помещении, отведённом под сортировку, находилось человек тридцать поляков разного возраста и пола. Среди них ходил доктор Батюшков, выявлял, нет ли терапевтических и инфекционных больных, таких он немедленно с санитаром направлял в отдельную палату.
Из его рассказа Борис узнал, что Минаева и Феофанова работали всю ночь. С вечера народу было немного, но теперь наши группы приводили и приносили всё новых и новых раненых и больных.
– У многих дистрофия, – сказал он. – Оба врача уже выбились из сил.
Борис надел халат, прошёл в операционный блок и потребовал, чтобы Минаева и Феофанова немедленно шли отдыхать, а он весь день намерен работать вместе с врачом Прянишниковым, которого им дали в эвакопункте и который за это время тоже отдохнул.
От Батюшкова Алёшкин узнал, что одна группа обнаружила польского врача-терапевта, который уже присоединился к работе с больными.
– Между прочим, – сказал Батюшков, – начальник аптеки Иванченко нашла в подвале этого дома аптечный склад, в котором много медикаментов и перевязочного материала.
Это известие обрадовало Бориса, он подумал: «Ну, значит, теперь в Бромберг за этим посылать не придётся, только за продуктами. Генерал Жуков говорил, что продсклады должны подойти со дня на день. Пока-то ещё, наверно, дней на пять хватит. Надо будет позвать Захарова, выяснить».
Но этого делать не пришлось. К нему подошла Шуйская, она только что бегала в аптеку за какими-то медикаментами и на дворе видела Игнатьича. Борис сказал:
– Ты бы шла отдохнуть, ведь всю ночь по подвалам лазила, наверно, устала.
– Да нет, я не устала, я только один раз сходила. Мы привели пятерых, и Журкина меня здесь оставила, было много работы, а затем я часов с четырёх до восьми поспала. Ты-то как?
– Я здоров, а вот Игнатьич говорит, что Джека нет.
– Да я уж знаю, он и мне сказал. Я, признаться, уж и всплакнула о нём. Жалко… Но тут сейчас столько работы, что не о нём, а об этих людях думать надо. Ранения несложные, тяжёлые давно уже померли, в подвалах полно мертвецов. А эта вот, – она кивнула головой на стол, – выжила, но как дальше, не знаю. Все они так истощали, прямо кожа и кости, хуже, чем под Ленинградом! Некоторые недели по две ничего не ели.
Этот разговор происходил в то время, пока Борис мыл руки. Когда он закончил и обработал руки спиртом и йодом, надел при помощи одной из сестёр стерильный халат, перчатки, маску и подошёл к одному из операционных столов, около которого стояла уже успевшая обработаться и экипироваться Шуйская. Он поразился, увидев на столе худенькую маленькую девочку, раненую в живот. Снаружи ранка была невелика и уже покрылась корочкой, по форме ранение было осколочное. Но кто его знает, что мог натворить этот осколок там, внутри. Нужно было делать диагностическую лапаротомию, обследовать брюшную полость, произвести необходимые манипуляции с её повреждёнными органами, а Борису было просто страшно дотрагиваться до этой девочки, такой она казалась хрупкой.
Конечно, ни о каком наркозе не могло быть и речи – она бы его не выдержала. Между прочим, именно поэтому Минаева, всегда оперировавшая на брюшной полости с эфирным наркозом, не стала заниматься этой раненой. Все уже знали, что майор Алёшкин может сделать самую сложную операцию под местной анестезией, он это доказывал не раз.
Девочка, очевидно, очень боялась, но даже плакать была не в силах, лишь испуганно смотрела на хирурга большими голубыми глазами. Борис, чтобы успокоить её, обратился к ней по-польски:
– Добрый день, панна. Как вы себя чувствуете?
В глазах девочки мелькнула радостная искорка. Вместо ответа она спросила:
– Вы поляк? Вы меня не убьёте?
– Я, хотя и не поляк, но постараюсь вам помочь. Вы мне тоже помогите. Будем вместе лечить вас, хорошо?
Девочка кивнула головой, но на лице её отразилось недоверие.
– Сколько вам лет?
– Восемнадцать.
– Сколько?!!
– Восемнадцать, исполнилось ещё в январе.
Борис взглянул на Шуйскую, которая, очевидно, поняла их разговор. Она вздрогнула от ужаса, и на глазах её показались непроизвольные слёзы. Повернув лицо к перевязочной сестре, она попросила вытереть их.
Борис был поражён – перед ним лежал скелетик, обтянутый кожей. На вид девочке было самое большее лет двенадцать, и вдруг – восемнадцать… Он снова спросил:
– Когда вы были ранены?
Пациентка задумалась на несколько мгновений, потом ответила:
– Наверно, недели две тому назад.
– Где вы находились?
– В подвале.
– Что ели?
– Ничего… Пила воду из лужицы на полу.
Борис задумался. Затем аккуратно ощупал живот раненой и справа, ближе к тазовой области, нашёл небольшое уплотнение. Прослушал сердце, посчитал пульс. Он был очень слабый и неровный. Попросил перевязочную медсестру измерить давление, оказалось, 90/50. Но главное, что шока не было. И всё же делать диагностическую лапаротомию, даже под местной анестезией, казалось крайне опасным. Борис решился нарушить медицинский канон, существовавший в то время при проникающих ранениях брюшной полости – «в любых случаях лапаротомия». Он приказал присыпать рану стрептоцидом, перевязать её, а на область уплотнения положить повязку с мазью Вишневского. Затем поручил одной из сестёр вызвать санитара и отнести раненую в терапевтическое отделение, назначил глюкозу капельным способом и полный покой, а часа через два дать ей ложки две-три крепкого бульона. Сестра вызвала санитара. Эго был здоровый парень из нового пополнения, не попавший в строевую часть по зрению. Григорьев (фамилия санитара) не стал перекладывать раненую девушку на носилки, он просто взял её, завёрнутую в простыню, как маленькую, да так, на руках, и отнёс в терапевтическое отделение.
Впоследствии Борис рассказывал своим коллегам, что операция этой девушки, даже под местной анестезией, явилась бы настолько тяжёлой, что она вряд ли бы её перенесла. С момента ранения прошло уже более двух недель, но общий перитонит не развился, значит, очевидно, поражение слепой или тонкой кишки было незначительным, и воспаление в брюшной полости локализовалось. Это подтверждал небольшой размер инфильтрата, который он нащупал. После ранения девушка две недели ничего не ела, да и до ранения голодала, поэтому он решил предоставить ей покой, помочь мазью Вишневского рассасыванию инфильтрата, давать сульфаниламидные препараты, поддержать силы больной вливаниями глюкозы и постепенно усиливать питание.
Забежав вперёд, скажем, что Ядвигу, так звали эту девушку, удалось спасти, и когда госпиталь уже покидал Грауденц, она была вне опасности и могла даже сидеть на постели.
После неё Борису пришлось обработать ещё человек пятьдесят раненых самой разнообразной тяжести. Без перерыва он был в операционнной до восьми часов вечера. Почти столько же отработал и Прянишников со своей медсестрой. Когда Бориса сменила Минаева, а Прянишникова Феофанова, стало понятно, что такого напряжения, которое, несомненно, будет нарастать, работники госпиталя долго не выдержат, нужна помощь.
Ещё перед отъездом из Бромберга начальник эвакопункта Крестовский предупредил Алёшкина, что, поскольку госпиталь укомплектован врачами полностью (а с появлением Прянишникова действительно были заняты все восемь врачебных должностей), надеяться на дополнительные силы не следует, надо справляться самостоятельно.
Раздумывая над создавшимся положением, Борис бродил по двору того дома, где размещался госпиталь. Он решил отдохнуть до восьми часов утра, а вечер потратить на решение административных вопросов. Там, где были сосредоточены машины госпиталя, он увидел группу людей, среди них были Захаров и Гольдберг. Они доложили, что продовольствия осталось совсем немного, не более чем на три дня. Оказалось, что в подвалах было найдено, кроме раненых, много голодающих людей, пришлось госпиталю из своих запасов организовать им питание. Кроме того, необходимо было пополнить запасы белья. Всё это Гольдберг надеялся выхлопотать в эвакопункте. Местные воинские части сами испытывали нужду в продовольствии и помочь ничем не могли. Договорились подготовить грузовую машину ЗИС-5 к концу следующего дня, чтобы Гольдберг съездил в Бромберг, на этом и разошлись.
Однако проблема с медицинскими кадрами не решалась. Помощь была необходима, это становилось всё более очевидным не только с каждым днём, но и с каждым часом. Раненые и больные поляки уже узнали от своих знакомых о появлении какой-то лечебницы и спешили в неё за медпомощью. Теперь уже появлялись в приёмном покое (сортировочной) не столько те, кого приводили или приносили санитары и дружинницы, всё ещё бродившие по подвалам, но и те, кто разыскал госпиталь самостоятельно. Далеко не все из них после оказания помощи могли быть отправлены назад, многих приходилось госпитализировать. И, если в санитарках недостатка не было, так как многие женщины, пришедшие за помощью, охотно оставались здесь работать, то с врачами и фельдшерами дело обстояло плохо.
Так продолжалось около недели. В один из последних дней Минаева перед появлением в операционной обошла все палаты и доложила, что в госпитале находится уже более пятисот больных. Начали готовить под палаты второй этаж, основательно стеснив разместившийся там персонал.
Алёшкин решил проверить всё сам. Он убедился, что несмотря на тесноту (кое-где на двух кроватях лежали по трое), все пострадавшие накормлены, обработаны, медсёстры работают чётко и слаженно, палатные врачи, а их было четверо, хотя и работают с перегрузкой, но равномерно сменяются через каждые 12 часов. Одним словом, всё было как будто в относительном порядке.
Пройдя из хирургического отделения в терапевтическое, где под руководством Батюшкова работал польский врач, Борис в который уже раз подумал: «Неужели в таком сравнительно большом городе совсем не было врачей, где же они? Или всех немцы угнали, или погибли?» И он, бегло осмотрев отделение, обратился с этим вопросом к врачу-поляку. Естественно, разговор вёлся на польском языке. Услыхав родную речь, уже пожилой и, очевидно, чрезвычайно уставший человек, как-то оживился и довольно бодро стал отвечать на вопросы. От него Алёшкин узнал, что в городе было много врачей. Большая часть из них – евреи, они погибли в первые дни оккупации. Фашисты в своё время куда-то их вывезли, обещая хорошую работу, потом стало известно, что они попали в лагеря.
– Остальных, кто был немного помоложе меня, – рассказывал поляк, – немцы угнали на запад, как простых рабочих. Остались только старики, как я, но нас было ещё немало. Мы занимались частной практикой, так как все лечебные учреждения фашисты закрыли. При отступлении нас, женщин и детей оставили в городе. С началом боёв за город кое-кто, наверное, выехал, но большинство, по-видимому, продолжает сидеть в подвалах своих разрушенных домов и так же, как и я до этого, не знают о работе вашего госпиталя. У меня дома есть специальная адресная книга, где указаны фамилии и адреса всех врачей города, она в подвале, где я жил последние дни. Могу за ней сходить, тем более что стрельба как будто утихла.
Борис поговорил с Батюшковым и попросил отпустить поляка. Правда, тот был не очень доволен этим, он заметил:
– Вот посмотрите, товарищ начальник, удерёт этот полячишка! Спрячется опять где-нибудь, а так от него всё-таки польза была.
Но Алёшкин почему-то поверил в искреннее желание врача Скопинского помочь в лечении своих сограждан и разрешил выпустить его из госпиталя. Конечно, всю территорию, занимаемую госпиталем, тщательно охраняли, Добин выставил необходимое число постов, и сам остался бессменным караульным начальником. Да и Васильев выполнил просьбу Алёшкина и добился приказа генерала Комарова о выделении для охраны госпиталя взвода автоматчиков. Эта мера предосторожности была нелишней. По донесениям из некоторых групп, разыскивающих раненых, в подвалах и подземных ходах иногда встречались одиночные фрицы, которые, завидев группу красноармейцев (в полутьме они не могли разглядеть, что это в основном женщины, тем более, что дружинницы и медсёстры, отправляясь в эти походы, надевали ватные брюки и телогрейки и вооружались автоматами), бросались наутёк. По-видимому, это были дезертиры, не успевшие вовремя скрыться в крепости и теперь бродившие по городу, мародёрствуя и одинаково боясь, как своих, так и бойцов Красной армии.
В то время, пока Борис разговаривал со Скопинским, в отделение пришёл Вадим Константинович Павловский. Он принёс пачку свежих газет и раздал их медсёстрам и дружинницам.
Нужно сказать, что между медперсоналом и больными очень скоро появилось довольно сносное взаимопонимание, и Павловский поручал каким-нибудь образом доносить сообщаемые в газетах сведения до больных. В основном это удавалось.
Заглянув во фронтовую газету и просмотрев сводку, Борис увидел, что его госпиталь, как и части, пытавшиеся овладеть крепостью, теперь находились в глубоком тылу, а фронт продвинулся к самым границам Германии. Он спросил Павловского, почему прекратилась артиллерийская стрельба. Вадим Константинович рассказал, что перестрелка прекращается уже во второй раз, так же было на второй день прибытия госпиталя в Грауденц.
– Дело в том, что фашисты выслали парламентёров. Генерал, командующий осаждённой крепостью, обещал прекратить сопротивление, если его войскам разрешат выехать со всем вооружением и присоединиться к своим частям. Генерал Комаров ответил, что ни о каких переговорах не может быть и речи, фашистам остаётся только капитулировать. Парламентёр обещал доложить командованию крепости, а пока просил прекратить артиллерийский обстрел. Со своей стороны, от имени фашистов он обещал также не стрелять. Генерал согласился и отдал приказ о прекращении огня. Фашисты же вместо подготовки к капитуляции согнали к крепости остававшихся в той части города жителей – женщин, стариков и даже детей – и принялись восстанавливать повреждённые укрепления. После получения донесения от разведки об этих действиях, Комаров приказал вновь начать обстрел. Сегодня прибыл второй парламентёр, который также от имени командующего генерала давал обещание прекратить сопротивление, если войскам разрешат выехать из крепости с личным оружием. Очевидно, – продолжал Павловский, – этот генерал плохо представляет себе обстановку и не знает, что, во-первых, почти всё побережье уже в наших руках, а во-вторых, не понимает, что советское командование ни в какие переговоры с фашистами не вступает. Командующий группой Красной армии вторично ответил парламентёру, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции, и предупредил, что он не позволит производить какие-либо работы на укреплениях. Комаров дал им на раздумывание четыре часа, вот потому сегодня и затишье.
В течение прошедшей недели Борис был так занят в операционной, что, по совести говоря, даже и не замечал того, что в это время делалось вокруг. Оставив Павловского в палате, он вышел во двор. На улице было достаточно тепло, и он с наслаждением вдыхал свежий весенний ветерок, слабо дувший откуда-то с северо-запада. В этот момент к нему подошла старшая медсестра Мертенцева, в руках у неё был свёрток белья.
– Товарищ майор, – обратилась она к Алёшкину, – мы только что вернулись после прочёсывания подвалов в двух кварталах от нашей больницы. В одном из них мы наткнулись на целый лазарет, в нём двадцать раненых. Обслуживает их какой-то врач-поляк, помогают ему женщины-монашки. Из его слов мы поняли, что у них плохо с питанием, медикаментами. Я осмотрела этот подвал, оказывается, это было бомбоубежище, и в нём можно разместить человек двести раненых. Мы уже здесь забиты до отказа. Что если там сделать филиал нашего госпиталя?







