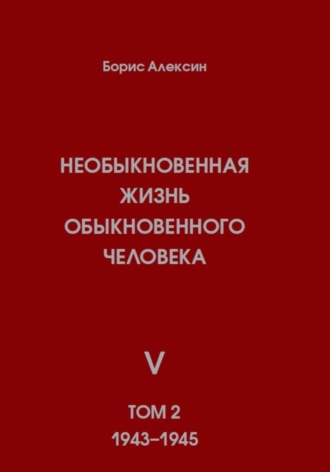
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
Бургомистр подозвал какого-то поляка и попросил его проводить пана майора и капитана к дому епископа.
Епископ жил в большом, двухэтажном, похожем на средневековый замок доме на высоком обрывистом берегу Вислы. От улицы он отделялся вычурной металлической оградой, внутри которой виднелись большие клумбы с яркими цветами. Фасад дома, наличники высоких стрельчатых окон выглядели внушительно. Косяки входных дверей также, как и сами двери, украшались искусной лепниной и резьбой. В палисадник с одной стороны дома выходила большая стеклянная веранда. Было очевидно, что дом епископа или по счастливой случайности совсем не пострадал во время жестоких боёв, проходивших за этот город, или, что, пожалуй, вернее, заботливые прихожане успели восстановить его для своего пастыря в первую очередь. Так или иначе, он представлял собой значительный контраст с теми обшарпанными и частью разрушенными зданиями, которые Борис и Захаров видели даже в центре города.
Провожатый нажал кнопку электрического звонка у калитки, из дома выбежал одетый в чёрный подрясник молоденький послушник. Видимо, бургомистр по телефону успел предупредить епископа о появлении нежданных да и не очень желанных гостей.
Служка проводил прибывших в большую гостиную и попросил подождать епископа. Тот появился минут через пять. Это был представительный человек лет пятидесяти пяти, с седеющими висками, выглядывавшими из-под надетой на голову фиолетовой шапочки. Сутана на нём имела такой же фиолетовый цвет, на груди на массивной золотой цепочке висел крест. Войдя в комнату, он приветливо кивнул головой и пригласил гостей садиться, затем спросил на правильном русском языке:
– Чем могу служить, господа?
Борис, до этого мучавшийся мыслью, как он будет объясняться с этим польским попом, обрадовался, ведь его знания польского языка не были так уж хороши. Сумел бы он объяснить, что нужно? Услышав русскую речь, они с Захаровым невольно выразили удивление. Епископ заметил это, улыбнулся и сказал:
– Не удивляйтесь, господа, я в своё время в Петербурге окончил русскую гимназию и жил там до 1920 года, так что прекрасно понимаю русский язык и, по-моему, неплохо говорю на нём.
– Вы, святой отец, – сказал Борис, – говорите отлично! Разрешите представиться. Я начальник госпиталя, врач-хирург Алёшкин, а это мой заместитель по хозяйственной части, капитан Захаров. У нас приказ командования развернуть госпиталь в вашем городе для оказания помощи раненым польским и советским солдатам, пострадавшим в борьбе с бандитами-бандеровцами и другими, находящимися в лесах по ту сторону Вислы. Кроме того, нам поручено оказывать помощь возвращающимся домой репатриантам, украинцам и русским, которые будут направляться по этой дороге на Восток. Осмотрев город, мы нашли, что самое лучшее место для госпиталя – это учебное здание и общежитие католического колледжа. Мы уже беседовали с настоятелем колледжа, и он дал согласие на размещение там госпиталя, ведь эти здания всё равно сейчас пустуют.
При упоминании о договорённости с настоятелем колледжа епископ нахмурил свои чёрные брови и недовольно проговорил:
– Придётся наказать этого настоятеля, он же прекрасно знает, что любой вопрос, касающийся зданий, принадлежащих духовному ведомству, могу решать только я. Он должен был вас направить ко мне. Хорошо, что в это дело вмешался бургомистр, неглупый человек. Я вам, молодые люди, скажу так: эти здания вам не подойдут. Вы, наверно, обратили внимание, что во дворе колледжа стоит большая церковь – костёл. Это единственный костёл, уцелевший в городе, и все церковные службы проходят там. Каково будет ваше положение, когда во дворе госпиталя два раза в неделю будет собираться толпа прихожан? Они, конечно, возмутятся тем, что в духовном учреждении размещён русский военный госпиталь. Должен вам сказать, что даже фашисты старались не вступать в ссоры с духовенством, ну, а вам-то уж сам Бог велел.
Алёшкин и Захаров задумались. Они поняли, что здания колледжа им не видать, как своих ушей. И, мысленно поругивая попа, уже прикидывали объём работы, которую придётся вести хотя бы в одной из казарм, увиденных ими при въезде в город.
– Да вы особенно не огорчайтесь, – сказал епископ, заметив их удручённый вид. – Я знаю, что здесь, на южной окраине города, в бывших бараках военнопленных и палатках размещается полк польских войск и батальон Красной армии. Их подразделения ежедневно вступают в стычки с бандитами на той стороне Вислы, и ваше присутствие в настоящий момент в городе необходимо, поэтому я вам помогу.
Он встал, подошёл к окну.
– Подойдите сюда, – подозвал он Бориса. – Посмотрите, – он указал на большое кирпичное здание, стоявшее почти рядом с его домом и невидимое с улицы, так как его загораживал большой сад. – Вот это здание тоже наше. В будущем в нём разместится часть классов колледжа. Его начали строить перед войной. Первый этаж почти полностью закончен, второй требует внутренней отделки. Здание подведено под крышу. В него проведён водопровод и электричество. Правда, отопления нет, но сейчас лето, так что это не страшно. Там, конечно, имеются разрушения, причинённые во время боёв за город. Пойдите осмотрите его, и если оно вам подойдёт, то занимайте. Проведение всех необходимых ремонтных работ я вам гарантирую в самый кратчайший срок. С рабочими расплатитесь продуктами. Так и волки будут сыты, и овцы целы, – засмеялся епископ.
Затем он хлопнул несколько раз в ладоши и вошедшему служке сказал по-польски, чтобы тот проводил офицеров в новое здание колледжа и предупредил сторожа. Затем он повернулся к Борису:
– Вот вам провожатый, он переговорит со сторожем. Только, к сожалению, переводчика я вам дать не могу, по-русски здесь говорю только я.
Алёшкин улыбнулся:
– О, падре, то не тщеба, я и разумием и умием мович по польску.
Епископ был приятно удивлён. Он посмотрел на Бориса с большим уважением и уже на своём языке сказал:
– То бардзо пшиемно, пан майор. Я билбим бардзо задоволни, если пан майор знайдже час и не пшийде до мние яко проситель, а на шклянке гербаты.
Борис и Захаров встали, поклонились, надели фуражки и направились к выходу.
***
Здание, предложенное епископом, оказалось подходящим. Оно представляло собой большой двухэтажный кирпичный дом в форме буквы Г. Так же, как и дом епископа, он стоял на самом краю крутого, обрывистого берега Вислы на высоте около 50 метров от уровня воды. На первом этаже имелось более двадцати больших, хорошо отделанных, хотя немного захламленных, комнат. Окна выходили во двор, вернее, в сад и в сторону Вислы. Почти во всех уже были вставлены новые стёкла – очевидно, что и здесь прихожане начали проводить восстановительные работы. Второй этаж, такой же по размерам, имел незастеклённые рамы. Стены в комнатах были отштукатурены, но не побелены. Внизу Захаров обнаружил довольно вместительный подвал, имевший вход со стороны реки. Туда можно было сложить большую часть имущества госпиталя.
Это здание позволяло разместить личный состав и не менее двухсот раненых и больных. Кроме того, имелись помещения и для операционно-перевязочного блока. Задействуя второй этаж, количество коек могло увеличиться до пятисот.
Справа от территории предполагаемого размещения госпиталя, если повернуться лицом к реке, располагался замок епископа, а слева – двухэтажное кирпичное здание, в котором, как выяснилось, находилась беспека, то есть учреждение госбезопасности с отрядом бойцов.
Сообщив епископу через сопровождавшего их служку, что предложенное здание им вполне подходит, Борис вместе с Захаровым направились на площадь, чтобы скомандовать колонне переезд к новому расположению. Там они застали настоящую ярмарку. Вокруг колонны автомашин и кучи сложенных вещей собралась целая толпа поляков разного возраста и пола. Многие из них держали корзины с ягодами и овощами, у некоторых были домашние колбасы и другие кулинарные изделия, все они наперебой предлагали свой товар. Шла оживлённая и бойкая торговля.
В свою очередь, санитары, дружинницы, медсёстры держали в руках разное трофейное барахло и меняли его на предлагаемые продукты. Командованию госпиталя, и прежде всего самому Алёшкину, пришлось потратить немалые усилия, чтобы прекратить этот обмен и заняться переездом.
Через некоторое время во двор отведённого здания перевезли все вещи госпиталя, разгрузили машины, медимущество, оборудование палат и операционного блока внесли в помещение, продовольствие и другие трофеи поместили в подвал. Кухни задымились, поспел обед, после которого Алёшкин и Павловский, посовещавшись, предоставили всем отдых и возможность привести в порядок те комнаты, которые отводились под жильё личному составу госпиталя.
На следующий день Захаров доложил Алёшкину, что около ворот, где, конечно, уже стояли часовые, собралось человек двадцать поляков, присланных бургомистром для ремонта помещений. Борис разрешил впустить их на территорию. Необходимых строительных материалов, кирпича, извёстки, краски, готовых оконных переплётов и дверей, как и стекла, оказалось в достаточном количестве в сарае, стоявшем во дворе. Замок этого сарая открыл служка епископа. Он же сообщил, что рабочие присланы бургомистром по требованию епископа, их работа будет оплачена городским управлением, и от госпиталя требуется только, чтобы во время работы им два раза в день выдавали горячую пищу. Алёшкин на это, конечно, согласился.
На первом этаже ремонтных работ почти не требовалось, поэтому личный состав госпиталя занялся после его уборки развёртыванием там необходимых лечебных помещений. Та часть в которой разместились на жильё медицинские работники, была приведена в порядок ранее.
Несколько рабочих Захаров взял для оборудования складского помещения в подвале. Там поставили стеллажи и сделали ящики для продуктов. Большая часть рабочих занялась устройством второго этажа.
Между прочим, в числе трофеев, кроме белья и другого мягкого инвентаря, имелось много самых разнообразных предметов, в том числе более десятка первоклассных радиоприёмников. Служка епископа заметил их и, подойдя к Алёшкину, сказал, что нужно бы отблагодарить епископа за то, что он так сочувственно отнёсся к нуждам госпиталя. Он намекнул, что святой отец очень страдает из-за отсутствия радио. Фашисты отобрали приёмники у всех жителей, в том числе и у епископа.
Посоветовавшись с Павловским и Захаровым, Борис решил подарить епископу радиоприёмник. Он выбрал «Филипс» и поручил Захарову с одним из санитаров доставить его епископу.
Через три дня ремонт складского помещения и большей части второго этажа был закончен, на первом этаже уже развернули операционно-перевязочный блок, а в палатах поставили койки, полученные от бургомистра. Госпиталь полностью приготовился к приёму раненых. В этот же день со специальным нарочным Алёшкин отправил донесение в сануправление фронта о готовности.
В Сандомир прибыл обоз из шести лошадей, которым командовал Коноваленко. Мы уже знаем, что эти лошади принадлежали госпиталю, их в своё время перевезли по железной дороге в Польшу, а затем и в Германию. Пока госпиталь стоял в Варене, Алёшкин передал животных во временное пользование тому поместью, в котором хозяйничал Коноваленко. Выехав сперва в Бад-Польцен, а оттуда в Сандомир, было решено, что лошади пойдут своим ходом. Таким образом, этот обоз и прибыл сюда через пять дней после приезда автоколонны.
По совету бургомистра лошадей разместили в одной из ближайших деревенек, чтобы их могли использовать в сельских работах крестьяне, которые рассчитывались бы за это овощами. Борис проехал вместе с Коноваленко в одну из таких деревушек и оставил его там с поручением контролировать аренду лошадей и ежедневно принимать от старосты необходимое количество свежих овощей для госпиталя.
Алёшкину пришлось начать приём раненых ещё до получения ответа на своё донесение. Дело в том, что на противоположном берегу Вислы в лесах собрались значительные группы бандеровцев, к ним присоединялись группы немцев – главным образом, эсэсовцев, боявшихся сдаваться в плен. Эти отряды нападали на небольшие гарнизоны правобережья Вислы. Почти всегда они бывали разгромлены, но и гарнизоны несли потери. Раненых красноармейцев и поляков (гарнизоны часто были совместными) привозили в Сандомир и помещали в городскую больницу. С появлением в городе военного госпиталя всех их стали доставлять туда. Правда, поступало их немного, в среднем 5–6 человек в сутки, но это всё равно была работа. Ожидаемого потока больных и раненых из числа репатриированных не произошло. Опасаясь действий бандеровцев, командование фронта направило репатриантов по другим дорогам, минуя Сандомир.
Июль и август 1945 года выдались жаркими, и личный состав госпиталя вместе с жителями города, польскими жолнежами и красноармейцами ежедневно купались в Висле. Вода в ней была тёплой, но очень мутной. Между прочим, во время этих купаний Алёшкин и Захаров убедились, что подняться к их госпиталю от реки было почти невозможно из-за большой крутизны обрыва.
Июль прошёл спокойно, а в середине августа случилось происшествие, повлекшее за собой жертвы среди санитаров госпиталя.
Борис проснулся от перестрелки, разгоревшейся между казармами беспеки и противоположным берегом реки. А спустя десять минут дежурный доложил ему, что представитель команды беспеки хочет его видеть. Борис вышел к польскому офицеру, стоявшему в коридоре госпиталя. Стрельба не утихала, а из-за реки даже усилилась. Офицер этот оказался знакомым, они несколько раз встречались в кинотеатре (в Сандомире открылся кинотеатр, в нём шли советские фильмы). Прибывший сказал, что на город напал большой отряд бандеровцев. Пробиваться через мост они не решились, так как он охранялся сравнительно крупными польскими и советскими воинскими частями с артиллерией, а решили переплыть реку на лодках и ударить здесь.
Всё это беспеке сообщил разведчик ещё вчера, поэтому её солдаты были приведены в боевую готовность, и, как только на том берегу зашевелились, здесь открыли огонь из пулемётов и винтовок. Бандеровцы рассчитывали переправиться незаметно и застать город врасплох. Это не получилось, тогда они тоже вступили в перестрелку.
Солдат в комендатуре беспеки было немного, послали за подкреплением, но его надо было ждать ещё часа два, вот комендант и просил поддержать их огнём.
Борис через дежурного немедленно поднял по тревоге санитаров и шофёров, их в госпитале было примерно сто человек. У них имелось два ручных пулемёта, около полусотни автоматов и столько же винтовок. Вместе с Захаровым они расставили своих бойцов по наиболее укрытым местам, пользуясь окопами, вырытыми на всякий случай заранее, и стенами здания. Борис приказал вести интенсивный огонь по противоположному берегу, по кустам и опушке леса, где вспыхивали огоньки выстрелов. Бандеровцы заметили новые огневые точки и перенесли часть огня на них.
Бой длился около часа и прекратился, только когда два танка и около роты польских солдат от моста направились к прятавшимся в кустах и на опушке леса бандеровцам и ударили им во фланг. После этой перестрелки среди санитаров оказалось три человека раненых и один убитый. В комендатуре беспеки потери были более значительными. Поступило около двадцати раненых красноармейцев и польских солдат из тех, кто оборонял пост. Позднее на берегу насчитали более тридцати убитых бандеровцев.
***
За время пребывания в Сандомире советские газеты «Правда» и «Красная Звезда» поступали в госпиталь очень нерегулярно, только с оказией, когда кто-нибудь из штаба госпиталя ездил с каким-либо поручением в штаб фронта, тогда же привозили и письма. Местная пресса, единственная польская газета, выходившая в Сандомире, сообщала только локальные новости. Из сообщений по радио все знали, что война с фашистской Германией кончилась полным разгромом последней, и 24 июня в Москве состоялся Парад Победы, в котором принимал участие полк, сформированный из наиболее отличившихся бойцов и командиров 2-го Белорусского фронта. Радио сообщало, что в конце июня принято решение о создании Организации Объединенных Наций, а 28 июня в Польше было сформировано правительство Национального единства. Узнали также, что с 17 июля по 2 августа в северо-западном пригороде Берлина, в Потсдаме, произошла конференция глав правительств СССР, США и Великобритании, на эту конференцию прилетал Верховный Главнокомандующий, генералиссимус И. В. Сталин. Было принято решение содержать в Германии оккупационные войска четырёх держав – СССР, Великобритании, Франции и США неопределённо длительное время, одновременно договорились провести демонтаж всех военных фабрик и заводов Германии.
Было сообщение, что 6 августа США сбросили атомную бомбу какой-то огромной разрушительной мощи на японский город Хиросиму. 8 августа Советский Союз объявил войну империалистической Японии и на следующий же день начал боевые действия на Дальнем Востоке. США тем временем сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки.
Все, в том числе и Алёшкин, как-то не очень серьёзно отнеслись к этим новостям. «Ну, подумаешь, ещё бомбу бросили…» Никто не представлял себе масштабов трагедии и тяжёлых последствий, которые произвела атомная бомбардировка. Все думали, что эта бомба – что-то вроде Фау-2, какими фашисты обстреливали Лондон. Однако начало войны с Японией немного обеспокоило, надеялись, что их госпиталь не перебросят на Дальний Восток. Павловский уверенно утверждал:
– Войска, которые были необходимы для действий на Дальнем Востоке, направлялись туда уже давно, начиная с середины мая, и, очевидно, сейчас, в августе, наш госпиталь так далеко не перебросят.
Его слова подтвердились. Несколько неожиданно пришёл приказ демобилизовать всех рядовых, родившихся до 1910 года, их в госпитале оказалось 45 человек. Среди них был, конечно, и Игнатьич. Составили список для управления кадров фронта. Через несколько дней пришёл приказ об отправке команды демобилизованных в город Лигниц, где теперь находился штаб фронта. Оттуда они в эшелонах отправлялись на родину. Одновременно с этим распоряжением в госпиталь прибыла команда молодых, только что мобилизованных солдат для заполнения вакантных должностей.
После совещания с помощниками Алёшкин приказал снабдить каждого демобилизованного двумя парами нового трикотажного белья из трофеев, новым обмундированием, обувью из обменного фонда и некоторым количеством трофейных продуктов.
1 сентября 1945 года команда первых демобилизованных была погружена в машины и отправилась в путь. Надо сказать, что многие из них покидали госпиталь с большой печалью, особенно расстраивался Игнатьич, успевший прикипеть к Борису и Джеку. При расставании он по-настоящему всплакнул.
Ещё месяц после отправки этой группы госпиталь стоял в Сандомире. Бандеровцы были отогнаны. Поступление новых раненых совсем прекратилось, находившиеся там были эвакуированы в тыл или поправились и вернулись в свои части. У личного состава появилось много свободного времени. Борис и Павловский придумывали самые разнообразные занятия с медицинским персоналом, чтобы как-то загрузить людей. Захаров ввёл усиленные строевые занятия с молодыми санитарами и остальным личным составом. Павловский регулярно проводил политзанятия, Алёшкин и Минаева с врачами и медсёстрами совершенствовали медицинские навыки. И всё-таки от безделья люди всё больше стали нарушать дисциплину. Санитары и шофёры всё чаще выпивали, благо самого разнообразного алкоголя в городе можно было купить сколько угодно. Медсёстры и дружинницы ударились в другую крайность – лихорадочно скупали разные безделушки в многочисленных лавчонках, открывавшихся чуть ли не на каждом углу: предметы женского туалета, ткани. Расплачивались злотыми, которыми ещё с Бад-Польцена выплачивалась половина зарплаты и которые считались бросовыми бумажками. Одним словом, в госпитале появился нездоровый дух. Борис и Павловский не замедлили сообщить об этом в сануправление фронта, предлагая направить госпиталь на тот участок, где он мог бы быть полностью загружен. В ответ на этот рапорт 15 октября пришёл приказ о передислокации госпиталя своим транспортом в город Лигниц.
Прежде чем говорить о том, как прошла эта передислокация, следует немного остановиться на состоянии здоровья нашего героя. Дело в том, что ещё с весны 1945 года, после тяжёлой ответственной работы, которую Алёшкину пришлось вести во время боевых дней в Штольпе, в процессе сложных передислокаций по городам Германии и организации совершенно новой работы, которая требовала большого напряжения сил и нервов, у Бориса участились приступы гипертонии. Как правило, повышение кровяного давления сопровождалось резкими болями в сердце. Он не придавал серьёзного значения этим симптомам и, хотя обращался за медпомощью к доктору Батюшкову, единственному терапевту в госпитале, и принимал назначаемые лекарства, но в остальном к его советам не прислушивался, продолжал много курить и работать, не считаясь со временем. Всё это привело к тому, что перед выездом из Сандомира он чувствовал себя очень скверно.
Надо сказать, что методы лечения, которыми в то время пользовался Батюшков, были довольно примитивны. При приступе гипертонии он обычно назначал порошки, содержащие люминал и папаверин, чтобы вызвать сонливое состояние, которое, как тогда считалось, приводило к снижению давления. Для снятия болей в сердце он прописывал капли нитроглицерина или порошки камфары с белладонной. Все эти лекарства, может быть, и оказали бы благотворное действие, если бы Алёшкин одновременно с этим соблюдал необходимый режим.







