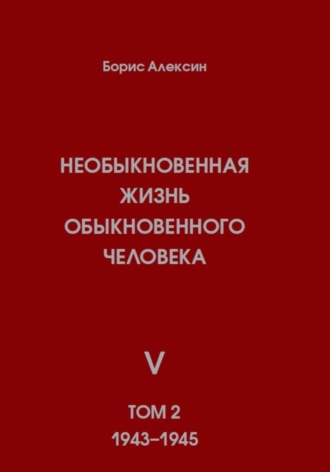
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 5. Том 2
Глава одиннадцатая
Получив приказ о новой передислокации, Алёшкин долго не раздумывал, он так привык, что его госпиталь бросают из конца в конец Польши и Восточной Германии, что нисколько этому не удивился. Это касалось и других лечебных учреждений. В город Лигниц и его окрестности стягивались все полевые, эвакогоспитали и эвакопункты. Генерал Жуков сказал, что пока вопрос о том, какие из них останутся в составе группы войск, а какие будут расформированы, ещё не решён, Алёшкину с его хозяйством нужно быть готовым ко всему, поэтому следует подобрать не очень большое помещение, не развёртываться и ждать дальнейших распоряжений. Открыть только амбулаторный приём для больных, которые могли поступить из частей, ближайших к месту расположения госпиталя. Жуков сообщил также, что один из эвакогоспиталей развёрнут в здании бывшей женской гимназии и выполняет функции стационарного лечебного учреждения. О месте, подобранном для размещения 27 госпиталя, генерал приказал доложить вечером.
Когда Борис вернулся к оставленной машине, он узнал от Захарова, что тот не терял времени даром, а проявил примерную оперативность и кое-что для размещения госпиталя предпринял. После отъезда Алёшкина в сануправление, Захаров, бродя по окраинам улиц, встретил лейтенанта интендантской службы, разговорился с ним и узнал, что тот послан квартирмейстером от одной из тыловых частей фронта и ищет для неё помещение. Кажется, это было какое-то учреждение связи. Лейтенант сообщил, что почти все большие здания в городе заняты управлениями штаба Белорусского фронта и эвакогоспиталями. Захаров подумал, что их госпиталю развёртываться не придётся, а нужно будет скорее всего где-то ожидать приказа в свёрнутом состоянии. Исходя из этого, он осмотрел ближайшие дома. Вопрос о размещении личного состава его не беспокоил, он знал способность работников госпиталя приспосабливаться к любой тесноте. Для них хватило бы одного-двух небольших домов. По улице, где он проходил, пустых домов было много. Его беспокоило подыскание места для стоянки автотранспорта и размещения складов.
Мы помним, что за время путешествия по Германии и Польше хозяйственные запасы госпиталя значительно возросли: увеличился автопарк, накопился большой ассортимент различного трофейного хозяйственного твёрдого и мягкого инвентаря, приличные запасы продовольствия, резерв медикаментов. Поэтому Захарова интересовали те помещения, которые можно было бы использовать как склады.
Проходя по одной из улиц, он заметил через разломанные ворота довольно большую пустующую асфальтированную площадку. Судя по оставленным на ней запчастям, скатам, бочкам из-под горючего, она ранее служила местом стоянки какой-то автотранспортной части. Обойдя всю площадку, он убедился, что для размещения машин госпиталя площадка подойдёт как нельзя лучше. Но ещё больше его обрадовало, когда в глубине двора он обнаружил большой сарай с распахнутыми дверями. Зайдя внутрь, он увидел там кучи разного хлама, в том числе и старое немецкое обмундирование. Прикинув глазами объём помещения, Захаров убедился, что, если сделать перегородки и поставить стеллажи, то здесь можно будет свободно разместить всё имущество госпиталя. Кроме того, останется достаточно места, чтобы как следует рассортировать его, а сделать это было совершенно необходимо. Подбирая трофеи, хозяйственные работники госпиталя складывали всё в общую кучу, и в результате на складах в Сандомире создалась такая неразбериха, что найти что-то нужное было трудно. Следовало всё привести в порядок, избавиться от излишков и правильно складировать положенное по штату.
«Если госпиталь не будут трогать с места хотя бы две недели, то эту работу можно выполнить, помещение позволит, – подумал Захаров. – Теперь нужно искать дом для жилья».
Выйдя из ворот этого склада, как мысленно он назвал найденный сарай, Захаров увидел на противоположной стороне улицы узкий пятиэтажный дом. Половину первого этажа занимало какое-то торговое предприятие, но витрины его были закрыты железными жалюзи. Над входом висела большая вывеска с какой-то немецкой надписью и нарисованной свиной головой, колбасой и окороком. «Колбасная фабрика, – подумал он. – Пригодится!» Оставив автоматчика у ворот склада и приказав ему никого туда не впускать, Захаров направился в здание.
Немцы уже поснимали белые флаги и, привыкнув к постоянным визитам представителей Красной армии, дверей не запирали, поэтому он беспрепятственно вошёл внутрь помещения, которое оказалось магазином. Стены там были выложены белой глазированной плиткой, пол – метлахской плиткой. Прилавок был отделан плиткой из мраморной крошки, а сзади, на железной балке, висело множество крючьев различной величины.
Когда Захаров захлопнул за собой дверь, раздалось звяканье колокольчика, на звук которого из небольшой дверцы за прилавком, с трудом протискиваясь, показался очень толстый пожилой немец. На лице его была написана угодливость и любезность. Он низко поклонился и, показав рукой на пустые крючья, на какой-то польско-немецкой смеси языков извиняющимся тоном произнёс:
– Менса нема. Швайн нема, герр офицер.
Захаров пренебрежительно махнул рукой и, так как его знания немецкого языка были ничтожны, сперва сказал по-русски:
– Не нужно мне мяса, мне дом нужен!
Немец испуганно таращит круглые бесцветные глаза, а в дверце показалась дрожащая от страха женщина. Захаров добавил по-немецки:
– Их габе дер хауз!
Убедившись, что немец всё равно не понял, он поманил его рукой и, показывая на прихожую, через которую он вошёл, приказал:
– Геен зи!
Немец послушно вышел с ним, и они стали подниматься по лестнице. На площадке второго этажа Захаров увидел открытые двери двух квартир. Всё в них находилось в страшном беспорядке: на полу, на стульях и даже на неубранных кроватях валялись разбросанная женская и мужская одежда. Очевидно, хозяева квартир покинули их в такой спешке, что не захватили даже самых нужных вещей. Обе квартиры состояли из трёх больших комнат и кухни. Таким образом, учитывая четыре свободных этажа, в доме имелось восемь квартир, за исключением той, которую занимали хозяева магазина.
Немец молча следовал за Захаровым и когда они обошли все квартиры, сказал:
– Мешканне эсс… капут.
Захаров понял, что здесь жили эсэсовцы, очевидно, офицеры, в своё время сбежавшие, и спросил:
– Каких-нибудь солдат нет?
Немец понял:
– Зольдатен нихт, кайне нихт.
– Хорошо, – сказал Захаров. – Никого не пускайт, моя занимайт.
Неизвестно, понял ли немец эти, непонятно на каком языке произнесённые слова, но согласно кивнул головой.
Выйдя из дома, Захаров вырвал листок из полевой книжки и, написав на нём крупными буквами «Хозяйство Алёшкина», прикрепил его к входной двери. Когда он вернулся к своей машине, сюда же подъехал и Борис. Он одобрил действия Захарова, и спустя сутки на складе уже лежало сваленное в огромные кучи имущество госпиталя, на площадке ровно выстроились разгруженные машины, а в здании напротив шла генеральная уборка помещения и расселение личного состава.
Амбулаторию устроили в помещении магазина, потребовав от хозяина убрать все крючья. Медикаменты разложили на прилавки, посредине поставили два перевязочных стола, у витрины – стол для врача, а у стен – несколько стульев.
Работа амбулатории началась почти с первых часов прибытия госпиталя, и за время стоянки в этом помещении госпиталь принял около трёхсот амбулаторных больных.
Алёшкин поселился в одной из квартир второго этажа, заняв две комнаты и кухню. В кухне жил новый ординарец с Джеком. Первая, проходная, комната служила кабинетом начальника и местом для проведения различных совещаний, вторая – спальней. Третья комната этой квартиры, самая большая, отводилась под штаб, там же жил и начальник штаба Добин. Остальные люди удобно разместились в квартирах, только Павловский поселился в соседнем доме, заняв квартиру из четырёх комнат, очень хорошо обставленную. Очевидно, хозяева этих домов сдавали меблированные квартиры внаём. В период войны в этом районе жили в основном эсэсовцы, сбежавшие при наступлении наших войск. Для размещения строевых воинских частей эти квартиры были непригодны, и поэтому до прихода тыловых частей штаба фронта они пустовали.
Пользуясь временной передышкой, Борис и Захаров решили первым делом по-настоящему разобраться с имевшимся в их распоряжении имуществом. К этой работе они подключили заведующую аптекой Иванченко и старших операционных сестёр. Всех людей, свободных от несения караульной службы, поставили на сортировку имущества.
Расскажем, зачем понадобилась караульная служба. Дело в том, что количество тыловых учреждений в Лигнице всё увеличивалось, и размещаться в городке им было уже негде. Жизнь в соседних фольварках многих не устраивала, поэтому желающих занять помещения госпиталя № 27 находилось немало. В карауле было 36 бойцов, 12 человек дежурили ежесуточно в амбулатории, шофёры занимались ремонтом своих автомашин. Таким образом для работы на складе оставалось около 60 человек.
Алёшкин и Захаров решили так: взяли инвентаризационные ведомости по состоянию на 1 января 1945 года, по ним собрали всё, что полагалось иметь госпиталю по штатному расписанию, не обращая внимания на то, какое это имущество –отечественное или трофейное. Например, по ведомостям числились вёдра оцинкованные, сто штук. Часть их давно выбыла из строя, часть бросили по дороге и заменили трофейными – эмалированными, да ещё и с крышками. Суконных одеял числилось 500 штук, их заменили одеялами из верблюжьей шерсти, которых на складе имелось более 1 500. Точно так же поступили и с другим инвентарём, и с медимуществом. Всё, что полагалось иметь госпиталю по штату, сложили на отдельных стеллажах, чтобы при переезде взять с собой, а излишки складывали в противоположный угол сарая, чтобы передать их трофейному отделу штаба группы войск.
Время за работой проходило быстро. Кончался октябрь, а никаких распоряжений о дальнейшей судьбе госпиталя пока не поступало. Ещё в Сандомире 3 октября 1945 года все военнослужащие госпиталя были награждены медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Их вручал представитель управления кадров фронта на торжественном митинге, собранном по этому поводу.
21 октября Алёшкина и Павловского вызвали в сануправление. Борис предполагал, что госпиталь получит приказ на новую передислокацию, и поэтому приказал Захарову и Лагунцову готовить транспорт и имущество к погрузке, но оказалось другое.
Генерал Жуков объявил, что решением Военного совета Северной группы войск будет произведено сокращение численности войсковых частей, а, следовательно, и расформирование некоторых тыловых учреждений, в том числе и госпиталей. Хирургический полевой передвижной госпиталь № 27 также будет подлежать расформированию. На проведение работ по демобилизации личного состава и сдаче имущества отводится полтора месяца. Демобилизации подлежат в первую очередь женщины, а также мужчины, призванные из запаса. Личный состав, проходящий действительную службу, а также начальствующий состав молодого возраста после окончания всех работ по расформированию должен быть передан в распоряжение управления кадров группы войск. В отношении лично Алёшкина и Павловского вопрос будет рассматриваться особо: о первом будет думать сануправление группы войск, а о втором – политуправление. Так что по окончании всех работ оба должны явиться в эти управления для дальнейшего решения их судьбы.
В связи с тем, что весь личный состав госпиталя в течение военных операций, проводимых 2-м Белорусским фронтом, обеспечил отличное выполнение боевых заданий, командующий, маршал Рокоссовский приказал всех наградить в соответствии с их заслугами. Сануправление уже подало необходимые документы для награждения начальника госпиталя и его замполита. Им же предстояло в самом срочном порядке дать представление на весь остальной личный состав. Кроме того, Алёшкину поручалось написать историю госпиталя, которая впоследствии должна храниться в Военно-медицинском музее. Заканчивая свои распоряжения, генерал Жуков предупредил, что на выполнение последних заданий руководству госпиталя даётся не более двух недель.
Сразу же по возвращении из сануправления Павловский вместе с секретарём партийной организации и начальниками отделений занялся составлением списков представляемых к награде, а Борис уселся за написание истории госпиталя.
30 октября вышел приказ о награждении всего личного состава госпиталя, и награды были вручены. Для многих они явились полной неожиданностью.
К 3 ноября подготовили первую, а по существу, вторую, партию к отправке на Родину. В неё входили в основном женщины, мужчины-врачи и старшие операционные сёстры.
Алёшкин и Захаров обратились к начальнику тыла фронта генерал-лейтенанту Лагунову с просьбой о выделении трофейным отделом кое-какого вещевого имущества для выдачи его отъезжающим в качестве подарка. Тот обещал дать соответствующее распоряжение трофейному отделу. Захаров осмелел:
– Товарищ генерал-лейтенант, у нас у самих накопилось много излишков разных трофейных вещей. Может быть, мы разрешим нашим людям взять с собой не стандартные подарки трофейного отдела, а выбрать каждому, что он пожелает или что ему больше нужно, из того, что имеется у нас?
Генерал усмехнулся:
– А вы, видно, здорово нахапали, если можете себе такое позволить!
Борис и Захаров смущённо переглянулись, и Алёшкин пояснил:
– Мы, товарищ генерал, почти всегда шли следом за боевыми частями, и поэтому всё, что фашисты в панике бросали, могли подбирать. Работы было предостаточно, не до трофеев было, но кое-что всё же брали…
– Ну, хорошо, будь по-вашему. А записку эту в трофейный отдел передайте. Оттуда получите справки для каждого демобилизуемого. Оставшееся у вас имущество после окончания демобилизации также передайте в трофейный отдел. Да смотрите, своё штатное довольствие не разбазарьте!
Получив разрешение, Борис и Захаров долго ломали голову, каким бы образом обеспечить тех, на ком держалась вся работа госпиталя: врачей, операционных сестёр, начальника аптеки и другой начальствующий состав. Решили сделать так: выделить одну из самых больших грузовых машин, погрузить в неё людей вместе со всем трофейным имуществом, которое они себе выберут, и отвезти их до города Бреста. Дальше, уже в пределах СССР, они будут добираться поездом сами.
Почему мы говорим, что «они выберут»? Потому что выбирать было из чего. Вероятно, сам начальник трофейного отдела позавидовал бы тому «барахлу», которое находилось в трофеях госпиталя. Тут были и новенькие радиоприёмники, взятые на разрушенных складах «Телефункена» ещё в Штольпе, ковры из Варена, много самой разнообразной фарфоровой, фаянсовой и даже хрустальной посуды, патефоны, фотоаппараты, много одежды, белья и мануфактуры. Все представляли, что эти вещи в Советском Союзе сейчас являются большой ценностью, и каждому хотелось взять побольше. Естественно, что, следуя к границе обычным путём, то есть немецкой и польской железными дорогами, везти с собой огромный багаж было физически невозможно. Некоторые женщины, да и мужчины, были немолоды, да и молодым-то тащить на себе многое из того, что хотелось, было не под силу. Даже при способе, который придумали Борис и Захаров, и то большинству пришлось расстаться с частью тех вещей, которыми они до этого пользовались или собирались взять с собой.
В конце концов, с багажом разобрались, все остались довольны, и 3 ноября врачи, фельдшеры, начальник аптеки и большая часть работников штаба – всего 30 человек погрузились в машину вместе со своими вещами и отправились в путь.
В числе отъезжавших была и Катя Шуйская. Правда, по возрасту и званию (лейтенант медицинской службы) она не подлежала демобилизации, но Борис отправил её в отпуск, как и других молодых операционных сестёр, чтобы вопрос о демобилизации был решён на месте военкоматом. Оба понимали, что наступило время, когда они должны расстаться.
Следует сказать, что в последние месяцы у Бориса чувство увлечения, которое держалось довольно долго, значительно ослабело, ведь война кончилась. Он знал, что ему надо вернуться к своей семье и, следовательно, прекратить эту связь. Демобилизация этому очень помогла. Борис, хотя и привязался к Шуйской, но всегда помнил и видел перед собой лицо той Кати, которая осталась в Александровке, видел своих девочек и ни на секунду не допускал мысли о том, что, когда его демобилизуют, он может не вернуться к ним. Да и Шуйская, помня о своём обещании ни в коем случае не разрушать семью Бориса, подчинилась этой разлуке, хотя и понимала, что она будет окончательной и бесповоротной.
Перед отправкой этой партии произошло одно событие, очень неприятно повлиявшее как на Алёшкина, так и на его ближайших помощников. В штабе госпиталя работал начальником финансовой части лейтенант интендантской службы Васильев. Одновременно он выполнял обязанности и кассира госпиталя, поэтому имел свободный доступ к деньгам, получаемым на ведение хозяйства и выдачу зарплаты служащим госпиталя. В последние месяцы, после официальной женитьбы на дочери начальницы аптеки Лиде Иванченко, он начал частенько запивать. 1 ноября в связи с началом расформирования госпиталя финотделом управления войск была проведена внезапная ревизия, при которой у Васильева обнаружилась недостача в 6 000 рублей. Капитан, проводивший ревизию, доложил об этом Алёшкину и заявил, что, если в течение двух суток недостача не будет ликвидирована, то Васильева придётся отдать под суд трибунала.
Борис рассказал об этом Павловскому, Захарову и начальнику канцелярии Добину, выполнявшему обязанности главного бухгалтера, и они решили поговорить с Васильевым. Тот держался вызывающе и заявил, что ни в каких трофеях он не нуждается, а отдавать израсходованные деньги не намерен. Алёшкин и все остальные прекрасно понимали, что судебный процесс против Васильева задержит их всех для дачи свидетельских показаний ещё на многие месяцы. Конечно, никого такое положение не устраивало, и, так и не приняв никакого решения, руководители госпиталя разошлись, удручённые случившимся. Особенно тяжело переживали Алёшкин и Павловский, ведь, помимо прочего, обнародование этого преступления бросало тень на весь госпиталь. У Бориса, как это бывало последнее время очень часто, опять подскочило давление, и Батюшков уложил его в постель.
Вечером к нему пришла начальник аптеки Иванченко и со слезами умоляла не отдавать её зятя под суд. Вместе с дочерью, женой Васильева, они набрали около 2 500 рублей, больше не было.
На другой день, снова собравшись вместе, Алёшкин, Павловский, Захаров и Добин решили собрать недостающую сумму – 3 500 рублей и внести её в кассу госпиталя. Добину поручили принять кассу на себя, Васильева к деньгам больше не допускать и постараться как можно быстрее демобилизовать.
В 14 часов капитану, производившему ревизию, были предъявлены недостающие деньги, как остаток, находившийся в кассе. В своём акте он отметил, что госпиталь нарушал финансовую дисциплину, имея в кассе значительные остатки денежных сумм, но это никого не волновало: все знали, что избытком денег их попрекнуть было нельзя, так как госпиталь находился в постоянных разъездах на достаточной удалённости от штаба фронта.
***
После отъезда этой партии Борис, Павловский и Захаров стали готовиться к отправке следующей. В неё входили все медсёстры, дружинницы, санитары и писари штаба. Оставались только кладовщики, начальник штаба Добин, Захаров, Павловский и сам Алёшкин. Отправку наметили на 10 ноября 1945 года. Перед этим прошёл праздник 28 годовщины Великой Октябрьской революции, отпраздновали торжественно. По окончании митинга, проведённого во дворе склада, все разбились на группы и, имея достаточные запасы спиртного и всякого рода съестных припасов, пировали почти всю ночь. Не участвовал в этом празднестве только Борис. Уезжая, Батюшков передал его под наблюдение опытного терапевта из гарнизонного госпиталя Николая Петровича Высоцкого. Тот, обследовав Алёшкина, потребовал, чтобы он ложился к ним на лечение, так как обнаружил значительные изменения в мышце сердца. Борис от этого предложения категорически отказался, он не мог оставить своё хозяйство в момент его расформирования, и, как выяснилось, поступил правильно.
На самом деле сдача имущества на различные склады, передача автотранспорта, оформление документации на демобилизацию личного состава, а также и передача трофеев происходили совсем не просто. Часто на какой-нибудь склад, в какой-нибудь отдел, кроме кладовщиков и писарей, оформлявших передачу, приходилось ехать и Захарову, и самому Борису, и только после их вмешательства тот или иной инцидент удавалось уладить. Вследствие этого отправку остальных демобилизуемых, в том числе и кладовщиков, пришлось перенести на 15 ноября.
Утром в этот день у Алёшкина произошло непредвиденное, чрезвычайное событие. Продолжая принимать лекарства, назначенные Высоцким, Борис работал. Часов в 8 утра, только начав бриться, он услышал, что в дверь его комнаты кто-то постучал. На приглашение войти в дверях показалась Катя Шуйская. Борис так и застыл с наполовину выбритой щекой. В первый момент он просто удивился её появлению, а затем рассердился, ведь перед её отъездом вместе с врачами и остальными операционными сёстрами они ясно договорились, что связь окончена. И вдруг она снова приехала! Алёшкина ждала очень трудная работа, чувствовал он себя всё время плохо – поднималось давление, боли в сердце повторялись очень часто, а тут ещё снова появилась она!
После отправки всего личного состава Борису предстояло оформление документов на сданное имущество. По опыту других, уже расформированных учреждений, он знал, что эта работа доставляла много хлопот, канители и неприятностей. Предстояли многочисленные поездки по различным отделам и складам, расположенным в окрестностях Лигница. Где в это время будет находиться Шуйская, непонятно. Возить её с собой невозможно, а бросать одну в немецком городе тоже нельзя. Он, конечно, всё это выложил девушке и, между прочим, сказал, что очень поражен её возвращением, ведь она прекрасно знала, что уезжает от него навсегда. Катя заплакала и сквозь слёзы проговорила:
– Боренька, миленький, не сердись! Случилось большое несчастье, и я решилась приехать, чтобы тебя предупредить, чтобы помочь тебе.
– Какое несчастье? О чём ты говоришь? – встревожился Борис.
– Ты помнишь то письмо, которое я попросила тебя написать?
– Какое письмо? – недоумевал Борис.
– Ну то, написанное карандашом, где ты писал жене, что к ней не вернёшься, а если и приедешь, то только за тем, чтобы забрать своих детей.
Борис мгновенно вспомнил, и его злость на Шуйскую увеличилась ещё больше. Это случилось в начале ноября. После того, как госпиталь прибыл в Лигниц, у Бориса был очередной тяжёлый приступ гипертонии, и Батюшков основательно накачал его люминалом. Несколько дней он находился в полубредовом-полусонном состоянии, лежал в постели, и поэтому участия в проводах врачей не принимал. В день отъезда к нему зашла Шуйская, чтобы проститься, она сказала:
– Боря, а ведь твоя жена тебя совсем не любит! Я прочитала её письмо, которое лежит на письменном столе, она пишет там обо всём, но только не о любви к тебе, оно какое-то сухое…
Как ни плохо сознавал Борис окружающее, слова Шуйской возмутили его:
– Какое право ты имела читать её письмо? Ведь мы договорились, что личная переписка другого нас не касается! А потом, ты же совсем не знаешь моей жены, она не такая, она может не говорить о любви, но при этом любить меня и думать обо мне.
– Ты в этом уверен? А мне кажется, что она тебе изменяет!
– А я? Я-то ей изменяю всю войну! Так что мне даже и говорить об этом стыдно. Как же я могу её в чём-нибудь упрекать?
– Ну, ты другое дело! Ты мужчина, ты на фронте, а она в тылу. Послушай, а что бы ты сделал, если бы узнал, что она действительно тебе изменила и жить с тобой не захочет?
– Что-о-о? Я бы ей такое письмо написал!
– Какое? – задорно спросила хитрая женщина.
И, плохо сознавая, что он делает, Борис схватил с тумбочки, стоявшей у кровати, листок бумаги, карандаш, наскоро набросал несколько грубых резких строчек, адресованных жене, и с раздражением бросил листок на пол…
Несколько дней Борису было так плохо, что он совсем забыл об этой подлой записке. Вспомнил он о ней лишь перед ноябрьскими праздниками, когда Шуйской уже давно не было в госпитале. Он пересмотрел все бумажки, валявшиеся на столе, и, не найдя того листка, подумал, что, наверно, во время уборки ординарец поднял его с пола и выбросил в печь. Но одновременно у него мелькнула и другая мысль: не взяла ли письмо Шуйская? Он решил подстраховаться и на всякий случай предупредить появление этого письма в Александровке. Борис как раз собирался отвечать на Катино письмо, и сделал там приписку о том, чтобы жена не обращала внимания на письмо, написанное карандашом, если его получит.
Теперь он узнал от Шуйской, что это злосчастное письмо она подобрала с пола и положила в конверт, приготовленный Борисом, лежавший на столе. Она объясняла свои действия так:
– Я оставила это письмо единственно для того, чтобы сохранить память о человеке, с которым я прожила трудные годы войны. Посылать его я никуда не собиралась. Но мама, как-то без меня разбирая мои вещи, нашла этот запечатанный конверт, подумала, что я просто забыла его отправить по адресу, и бросила его в почтовый ящик. Письмо отправилось в путь. Когда я узнала об этом, пришла в ужас, понимая, какое страшное злодеяние я совершила, взяв это письмо с собой, и какую большую ошибку совершила мама, непрошено отправив его. Я всегда говорила и думала, что наши с тобой отношения, какими бы они ни были, не должны отразиться на твоей семье, а тут вдруг случилось такое… Поэтому мне нужно было приехать, чтобы предупредить тебя. Поверь, сделать это было нелегко. Мне и стыдно, и обидно, что ты мне можешь не поверить и станешь меня презирать, а я не хочу, чтобы ты думал, что письмо я отправила умышленно. Поехать к тебе мне было трудно и по другим причинам. Военком предложил мне демобилизоваться и никак не хотел давать литер на обратный проезд, согласился только после долгих просьб и слёз. Делай со мной всё, что хочешь, а я считала своим долгом рассказать тебе лично, не письмом.
Борис задумался. Он и верил Шуйской, которую до этого нельзя было упрекнуть во лжи, и в то же время сомневался в её искренности, но, самое главное, он до глубины души возмутился её поступком. Зачем она взяла это проклятое письмо? Зачем она вынудила написать его? Он понимал, конечно, что его возмущение создавшегося положения не исправит. Надо немедленно написать Кате в Александровку самое подробное письмо, может быть, оно придёт раньше, объяснить ей свою глупость, а, вернее, подлость, которую он совершил.
– Вот что, Катя, тебе здесь больше оставаться нельзя. Сегодня мы отправляем эшелон с медсёстрами, дружинницами и санитарами, призванными из запаса, поедешь с ними. А мне теперь будет очень трудно оправдываться…
К слову сказать, оправдываться по этому поводу ему пришлось до конца своей жизни, мы потом скажем об этом немного подробнее.
Катя Шуйская была отправлена вместе со всеми в этот же день, а Борис написал жене подробное покаянное письмо, в котором вновь говорил о своей любви, вспоминал их жизнь на Дальнем Востоке и умолял не придавать значения той «ерунде», которую он написал карандашом.
***
Как потом стало известно, Катя Алёшкина получила-таки это подлое послание. Оно чуть не убило её. Как всегда, распечатав и прочитав письмо ещё на почте, она была так ошеломлена и обижена, так опечалена и оскорблена, что чуть не потеряла сознание. Выйдя из помещения почты и сев на лавочке у крыльца, она бессильно свесила голову на грудь, крупные слёзы текли по её щекам. Катя прекрасно понимала, что её неугомонный Борька не мог прожить без женщины четыре с половиной года. По его письмам она чувствовала, что есть у него кто-то. Она знала, сама видела, что многие военные, особенно командиры и начальники, обзаводились подругами, и мысленно прощала этот проступок своему шалопутному мужу. Но получив письмо, в котором он отказывался от неё, это возмутило не только её преданную душу, но и женскую гордость. Придя домой и взяв в руки другое письмо от Бориса, которое пришло за несколько дней до этого, она села за стол и задумалась: «Чему верить? Что же он за человек? Как он может так несправедливо поступать?»
В это время на кухню, где сидела Катя, вошла старшая дочь. Увидев расстроенное лицо матери, она подошла и спросила:
– Мама, ты что? Что случилось?
Катя протянула ей письма, которые держала в руке. Эла прочитала письмо, написанное карандашом, и рассерженно крикнула:
– Что ты, мама, расстраиваешься? Неужели ты думаешь, что мы тебя оставим и поедем куда-то с ним? Что он себе воображает? Нам такого отца не нужно! Наверно, он там совсем с ума сошёл. Да ты подожди, не волнуйся, я думаю, всё обойдётся…
Катя, положив лицо на руки, стараясь сдержать слёзы, отрицательно покачала головой.
– Мама, а что это за второе письмо?
– Читай, – глухо проговорила Катя.
Эла взяла конверт и быстро прочитала то письмо, которое Борис послал, уже зная об отправке первого, написанного им в каком-то полубреду. Кроме уверений в любви и желания как можно скорее увидеться, оно было пронизано таким искренним раскаянием за совершённую подлость и глупость, такой надеждой на то, что Катя эту дурацкую пачкотню вовсе не получала, что, прочитав его, Эла не выдержала и рассмеялась:
– Эх, мама, неужели ты до сих пор не знаешь нашего папу? Неужели не привыкла к его взбалмошному характеру и безрассудным поступкам? Перестань нервничать, успокойся, никуда он от нас не денется. Приедет, взбучку ему хорошую дашь. А если вдруг и не приедет, так мы и без него проживём.
Катя подняла голову, взяла обратно протянутые дочерью письма, снова прочитала то, в котором Борис просил прощения за совершённую подлость, слегка улыбнулась и с каким-то внутренним облегчением произнесла:
– Эх, Борька, Борька, наверно, таким ты до самой старости окажешься…
Она немного помолчала и добавила:
– Элочка, о том письме никому не говори. И ему не говори, когда он приедет, ладно?
– Да ладно уж, – усмехнулась дочь, – буду молчать, как рыба.







