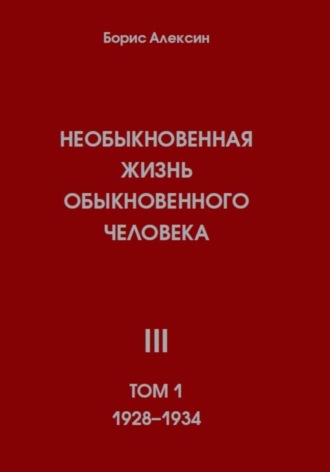
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Савельев успел ответить на три или четыре вопроса, как вдруг за окном на плацу раздался длинный заунывный звук трубы горна – «тра-а-а, та-та», своим ритмом он немного напоминал такое выражение «спа-а-ть пора, спа-а-ть пора».
От политрука курсанты, однако, успели узнать, что винтовки им выдадут только тогда, когда они закончат первичную подготовку бойца и дадут присягу. Обычно это происходило месяца через два-два с половиной, но в теперь темпы учёбы ожидались более напряжёнными; присяга, а следовательно, и выдача оружия, предполагались, вероятно, через месяц-полтора. На вопрос, когда же их отправят для участия в боях с белокитайцами, он ответил очень кратко:
– Когда выучат!
Как только политрук услышал звук горна, он скомандовал «встать!» и предложил всем идти ложиться спать. Одновременно он объявил, что завтра в промежуток между ужином и отбоем будут проведены партийное и комсомольское организационные собрания, точное время будет указано в объявлении на доске.
Через десять минут Борис и все его товарищи уже лежали на своих жёстких соломенных матрацах. Так прошёл первый день красноармейской службы нашего героя. Уже засыпая, он мысленно переживал его. Этот день казался ему бесконечно длинным, тяжёлым, но в то же время очень интересным. До сих пор он и его друзья совсем не так представляли себе службу в армии, и этот первый день показал им много неизвестного, нового и, по-видимому, очень трудного. Много дней было впереди, часть из них оказались гораздо более трудными, но этот его первый армейский день запомнился Борису Алёшкину на всю жизнь, поэтому мы и уделили так много времени на его описание. Молодость и усталость, однако, взяли своё, и вскоре все курсанты роты, сопя, вздыхая и похрапывая на самые разные лады и голоса, спали крепким сном.
Глава вторая
Борису казалось, что он не успел закрыть как следует глаза, как над его ухом раздался громкий крик:
– Подымайсь! Подъём!
Правда, подобный крик ему уже приходилось слышать в карантине, но там он звучал гораздо тише, так как дневальный кричал, сидя у своей тумбочки у входа в казарму. Здесь же, повинуясь приказу старшины, дневальные бегали между койками и кричали действительно над самым ухом каждого. Некоторые, не понимая в чём дело, находясь ещё во власти сна, сидя на кровати, отупело смотрели по сторонам, протирали глаза и потягивались, но на это им не было отпущено времени. Между кроватями ходили командиры отделений, неизвестно когда успевшие одеться и торопили:
– Быстро одеваться, обуваться, гимнастёрки не надевать, оправиться (то есть сбегать в туалет), застелить постель! Быстрее, быстрее, – подгоняли они тех, кто, по их мнению, копался.
Не прошло и пяти минут после подъёма, как старшина уже зычно кричал «становись». После построения роты в две шеренги на том же промежутке, в центре жилой части казармы, Белобородько скомандовал:
– Наряду выйти из строя, два шага вперёд, марш! Остальным подравняться, направо! Шагом марш!
Когда последний курсант вышел из помещения, Евстафьев, уже принявший дежурство, разбил оставшийся наряд на пары, отвёл их в умывальную и раздал орудия производства. Борис и Беляков получили по мягкому венику, насаженному на палку: им предстояло вымести все помещения классов, кабинетов командира, политрука и ленинской комнаты (впоследствии все узнали, что это была самая чистая и, пожалуй, самая лёгкая работа). На них же лежали заботы о поддержании чистоты в этих помещениях в течение всех суток их дежурства. Двум другим досталось подметание жилой части казармы – это уже было потруднее. А следующим двум были вручены тряпки на палках (швабры), им надлежало произвести уборку в умывальной и уборной, это уже было совсем неприятно, тем более что в этих помещениях, как потом выяснилось, убирать приходилось не только утром, не только после каждого умывания, но и каждый раз, когда дежурный или старшина, зайдя туда, обнаруживал там сырость, окурок или даже спичку, валявшуюся на полу. И, наконец, последний из наряда, Павлин Колбин, получил самое «приятное» дело, называлось оно в наряде кратко – пыль, плевательницы. Практически же эта работа заключалась в следующем: получивший наряд должен был специальной тряпкой обтереть все подоконники жилого помещения казармы, все печки, столы, тумбочки и спинки кроватей, все шкафы и вешалки. Затем он должен был собрать плевательницы, а их было двенадцать, вытряхнуть в отдельную корзину из них весь мусор (бумажки, спички и т. п.) и под специальным краном тщательно вымыть их (плевательницы были эмалированные). Последняя работа была, пожалуй, самой противной. Обрабатывать плевательницы нужно было два раза в день. Колбин, выполняя эту работу, едва удержался от рвоты и поклялся, что за этот наряд отомстит старшине при первом же удобном случае.
На всю утреннюю уборку отводилось полчаса, то есть то время, пока рота была на прогулке. Работавшим в умывальной приходилось ещё затрачивать время на уборку и после умывания, которое происходило по окончании прогулки.
Уборка в целом имела большое воспитательное значение: за чистотой казармы, благодаря этому, приучались следить все: младший командный состав – по служебной обязанности, а находившиеся в наряде потому, что им не хотелось лишний раз убирать. Через несколько дней стоило только кому-нибудь не попасть окурком в урну, как на него набрасывались все и заставляли поднять окурок с пола.
Первый наряд, в котором принимал участие Борис, был для всех его товарищей и для него самого самым трудным, тем не менее, беспрестанно подгоняемые Евстафьевым, младшими командирами и дневальными (последние даже помогали кое-кому), они справились вовремя, и когда рота входила, возвращаясь с прогулки, всё было уже закончено.
После умывания курсантам приказали надеть гимнастёрки и построиться для утреннего осмотра. Едва рота выстроилась в две шеренги, старшина приказал первой шеренге сделать два шага вперёд и повернуться кругом. Затем он вошёл внутрь образовавшегося коридора, скомандовал «руки вперёд» и медленно двинулся по строю, внимательно осматривая руки каждого. Хотя Белобородько и ничего не говорил при осмотре, но многие смутились, так как их руки были далеко не в должном порядке. За время карантина, проживания на голых нарах и поездки в грязных вагонах кое-кто перестал следить за своими руками. Ногти, конечно, отросли, под ними, несмотря на вчерашний банный день, были порядочные залежи чернозёма. Они уж никак не ожидали, что в армии старшина будет пальцы осматривать! Среди таких оказался и Борис Алёшкин.
Закончив осмотр, старшина вернул первую шеренгу на место, повернул бойцов к себе лицом, вышел на середину и начал речь:
– Ну, что ж, товарищи курсанты, так и будем ногти отращивать? Так и будем под ними грязюку разводить, а? Эх вы, а ещё антилигенция! После завтрака щоб мне все постригли ногти и больше не отращивали! Проверю и, если ещё раз такое безобразие найду, внеочередной наряд влеплю беспременно! Второе: одежду складывать не умеете, в мёртвый час командирам отделений – научить! Сейчас взять кружки, ложки, построиться для завтрака. Помковзвода Семёнов, отведёте роту. Разойдись!
С этих пор, ежедневно за всё время службы, каждое утро Алёшкин, как и все другие, подвергались какой-либо проверке и очередному разгону старшины. То проверялась посуда, и, взяв какую-либо неприглядную кружку, старшина резюмировал своё выступление фразой:
– Такую кружку не в столовую брать, а в очко немедленно выбросить, антилигенция! Щобы к завтрашнему дню все кружки блестели, як солнышко!
То он обнаруживал оторванную пуговицу у гимнастёрки или – ещё того хуже, на брюках, и тогда он заявлял:
– А расстёгнутую мотню-то для продувания товарищ курсант Павлов держит? Вот вам, за вашу антилигентскую ширинку два наряда вне очереди!
То он обнаруживал беспорядок в тумбочке, то в вещевом мешке, – одним словом, не было ни одного утреннего осмотра, чтобы старшина Белобородько не сумел найти какого-либо изъяна, и не звучало ни одной его разгневанной речи, где он не употреблял бы это презрительное, насмешливое слово «антилигенция». Напрасно за это делал ему замечание командир роты, пробовал разъяснить значение этого слова политрук – старшина без него обойтись не мог. И само это слово, по своему значению ничего обидного не имеющее, произнесённое в том виде, в котором он его употреблял, всем курсантам казалось таким оскорбительным и неприятным, что они были готовы сквозь землю провалиться, только чтобы не быть этими «антилигентами», которые, видимо, в понятии старшины ни на что путное не были способны.
Мы уже упоминали, что день в казарме начинался с утренней прогулки. В первый день Борис на эту прогулку не попал, зато в последующие сумел оценить её «прелесть» в полном объёме. Подъём происходил в пять часов 30 минут утра. Быстро одевшись, но без гимнастёрок (в любую погоду), побывав в туалете, вся рота под командованием старшины быстрым шагом выходила на улицу. Делали один-два круга вокруг плаца шагом, затем переходили на бег. Обычно старшина бежал впереди. Несмотря на свой возраст, видимо, благодаря большой натренированности, он бежал лёгкими, пружинистыми шагами, громко отсчитывая: «Ать-два, ать-два». Иногда, оборачиваясь, покрикивал:
– Шире шаг, не отставать! Подтянуться!
Бежали круга два-три и, когда казалось, что вот-вот лопнет сердце, что ноги уже больше не в состоянии слушаться (а остановиться было невозможно, так как сзади бежали командиры отделений, всё время подгоняя отстающих), старшина, точно почувствовав, что большинство уже на пределе, командовал «шагом марш!» и сам переходил на шаг. После одного-двух кругов бег повторялся, и так – в течение 30 минут всей утренней прогулки.
Никто из курсантов не понимал пользы столь изнурительного бега, все считали, что это самодурство старшины, и лишь гораздо позже, когда пришлось совершать длительные переходы и стремительные марш-броски, они поняли, какую большую услугу оказал им старшина Белобородько, заставляя их в течение первых двух месяцев службы во время утренней прогулки бегать до изнеможения, как говорил Павлин Колбин.
После завтрака, в 8:00 начинались классные занятия. Как правило, первые два часа были посвящены или уставам, или политзанятиям. Изучение уставов – дисциплинарного, внутренней службы, боевого устава пехоты, а также и «Наставления по стрелковому оружию», обычно происходило по отделениям. Взводы, у которых по расписанию были эти занятия, рассаживались группами в отдельных углах казармы, кто-нибудь читал вслух подлежащие изучению параграфы устава. Вначале читать пробовали сами командиры отделений, но потом, убедившись, что все курсанты читать могут лучше их, поручали чтение курсантам по очереди.
Кстати сказать, в обычных ротах читали только командиры отделений, из рядовых красноармейцев почти половина были совсем неграмотны, а остальные могли читать только по складам. После чтения производился разбор прочитанного параграфа, причём пояснение, вернее, толкование этого параграфа давал кто-нибудь из курсантов, а командир отделения лишь изредка поправлял. Заканчивалось изучение параграфа повторением его содержания.
К немалому удивлению Бориса и его друзей, командир отделения Евстафьев не допускал ни малейшего отступления от формулировки изучаемого параграфа, написанного в уставе. Сам он был в состоянии любой из них изложить слово в слово так, как тот был написан. Он требовал этого же и от курсантов. Иногда на этих занятиях, обходя отделения по очереди, присутствовали и старшина, и помкомвзвода, при них командиры отделений в своих требованиях были ещё более придирчивы и суровы.
Нужно сказать, что многие умудрялись, притаившись за спинами соседей, во время этих занятий даже вздремнуть. И, будучи подняты командиром отделения, попадали своими ответами впросак и впоследствии долго подвергались довольно едким насмешкам.
Обычно уставами занималась половина роты, у второй половины в это время проходили политические занятия – по специальной программе, по учебникам, изданным ПУРКК. Пожалуй, только благодаря им, Алёшкин, как, впрочем, и многие из его товарищей, сумел систематизировать и осмыслить целый ряд политических вопросов и событий, которые ранее знал поверхностно. Политзанятия проводил или кто-либо из помкомвзводов (член партии), или командир взвода Новиков. Один раз в неделю политзанятия со всей ротой проводил сам политрук Савельев. Они обычно начинались с обсуждения какого-либо важного политического события, происшедшего в нашей стране или за рубежом. Затем около часа Савельев опрашивал курсантов по тому материалу, который они изучили за неделю. После небольшого 10–15-минутного перерыва все собирались на плацу– начинались строевые занятия: курсанты учились принимать правильное положение тела по командам «равняйсь», «смирно», поворачиваться в разные стороны на месте и на ходу приветствовать друг друга прикладыванием руки к козырьку фуражки. Затем учились маршировать – сперва поодиночке, затем отделениями и, наконец, целыми взводами.
Хуже всего эта наука давалась Якову Штофферу: он беспрестанно сбивался с ноги, путал стороны. Его приветствие было всегда настолько неуклюже, что, глядя на него, многие покатывались от хохота. Обучавший его командир отделения до того с ним измучился, что чуть ли не плакал. Часто в обучении Штоффера строевому делу на помощь приходил старшина.
Время от времени строевые занятия, по очереди у каждого взвода, заменялись так называемой физзарядкой в гимнастическом городке. Тут уж бедному Штофферу приходилось совсем плохо. Правда, первое время и всем-то эти занятия давались нелегко: мало того, что надо было выучиться особым образом подходить к каждому снаряду, следовало выполнить на нём, может быть, и несложные, но требующие значительной физической подготовки упражнения. Например, надо было по лестнице, приставленной наклонно к гимнастическим воротам, забраться до самого верха, подтягиваясь на руках, преодолев 22 ступеньки на высоту четырёх метров, и также спуститься вниз.
Руководивший физкультурой Евстафьев проделывал это упражнение довольно свободно, старшина демонстрировал его артистически. Большинство курсантов в первое время, если и умудрялись добраться до середины лестницы, то никак не напоминали собой стройных, подтянутых спортсменов, как старшина, а походили скорее на каких-то раскоряченных лягушек. Не надо забывать, что почти все одногодичники до призыва выполняли умственную работу и физической подготовкой почти не занимались. Кроме того, эти упражнения, как, впрочем, и другие, выполнялись в полном красноармейском обмундировании: в гимнастёрках, шароварах и тяжёлых кирзовых сапогах. Единственным послаблением во время этих занятий было снятие поясного ремня.
На воротах находились и ещё два предмета – тонкий, почему-то удивительно скользкий, отполированный тысячами рук, шест и толстый канат. По ним также надо было забраться до самого верха на одних руках. Наконец, последним гимнастическим снарядом была так называемая стенка – забор, сделанный из толстых досок, около двух метров длины и такой же высоты. Полагалось с разбега уцепиться руками за верхнюю доску, сильно оттолкнуться одной ногой от земли, а другой от стенки, получившимся от этих толчков размахом тела перенестись через забор и спрыгнуть на землю.
Занятия физкультурой, как и строем, начались с самых первых дней службы. Если на большинстве снарядов Борис был в числе середняков, то на стенке попал в число отличников. Он с детства хорошо прыгал, и это помогло ему быстро овладеть стенкой, но некоторые, в том числе и Штоффер, очень долго не только не могли перескочить через неё, но даже забраться наверх и просто перелезть на другую сторону.
Вообще, эта физкультура имела весьма отдалённое сходство с той, которую мы знаем и видим сейчас. Командиры отделений и старшина не делали никакого различия среди порученных им бойцов. Не считаясь ни с ростом, ни с возрастом, ни с предварительной физической подготовкой, их требования были одинаковы для всех, скидок не делалось никому. Поэтому, если некоторые выполняли заданные упражнения сравнительно легко, другим для этого приходилось вкладывать все свои силы, да и тогда они справиться удовлетворительно не могли. Но как это ни странно, при всей кажущейся несообразности, методической и научной непродуманности такой физкультуры, пользу она принесла. Через два-два с половиной месяца снаряды покорились всем курсантам, они научились выполнять задаваемые упражнения, если и не совсем чётко и красиво, как это делал старшина или кто-нибудь из помощников командиров взводов, то всё-таки достаточно правильно.
Теоретические занятия проводились в течение четырёх часов после строевой или физической подготовки. Они включали в себя изучение материальной части личного оружия, его тактических и боевых свойств, основ тактики ведения современного боя отдельным пехотинцем, изучения противогаза и других предметов, входивших в программу одиночного бойца.
После обеда и мёртвого часа, в течение которого все обязаны были раздеваться и ложиться в постель, до ужина оставалось 3–4 часа. В это время занимались самоподготовкой, повторением пройденного за день и выполнением заданий, данных командирами на уроках. После ужина все собирались в свободной части жилой казармы и часа полтора занимались разучиванием походных песен. Между ротами в полку шло соревнование на лучшее исполнение песен на марше. Первое место всегда занимала первая рота, то есть курсанты-одногодичники. Старшина заявил, что нельзя допустить, чтобы в этом году первенство досталось кому-нибудь другому.
Вскоре рота уже неплохо исполняла все имевшиеся в распоряжении старшины песни. В основном это были песни революционные, песни Гражданской войны: «Слушай, товарищ», «Ты, моряк», «Белая армия, чёрный барон», «Как родная меня мать провожала» и т. п.
Тут неожиданно проявился талант Петьки Белякова, обладавшего красивым баритоном. Он предложил разучить новые, никогда ранее не слыханные в полку песни, гарантируя, что так они добьются получения первого места. Старшина его поддержал, и вскоре курсанты довольно сносно пели эти песни, хотя и не походные, но удачно приспособленные под шаг. Они так понравились всем, что Борису, например, врезались в память на всю жизнь. Одна из них – «Песня коммунаров» начиналась так:
Слушай, мальчик: в городе Париже
Есть заветная стена,
В ней дыханьем жизни камни дышат,
Странной силой эта жизнь полна…
Особенно всем нравился припев:
Это идут коммунары в семьдесят первом году;
В небе пылают пожары всем богачам на беду;
Это идут коммунары, это они идут!..
Вторая песня – «Марш испанских коммунаров»:
Встаньте, братья, встаньте, сёстры!
В строй бойцов стальной колонны,
Пусть восстанут миллионы,
Пусть зажжётся солнца свет!
В кабале и в униженьи,
Кто привык бороться смело,
Средь борцов за наше дело
Для измены места нет! Места нет!
Обе эти песни, спетые ротой во время первого марша по городу, привлекли к себе внимание не только командования полка и дивизии, но и жителей города, стоявших по сторонам улицы и глазевших на проходящий полк.
За час-полтора до сигнала отбоя, звучавшего ровно в 23 часа, каждый курсант получал так называемое свободное время. Можно было почитать газету, книгу, написать письмо домой, починить обмундирование, постирать носовой платок, поиграть в шахматы, просто поболтать с товарищем. Иногда в это же время проводили и какие-либо собрания, готовились к выступлению в самодеятельном концерте и подготавливали выпуск боевого листка.
Кстати сказать, первое партийное собрание роты состоялось на следующий же день после прибытия пополнения в полк именно в это время, комсомольское проходило в часы самоподготовки. Борис участвовал в обоих, ведь он был комсомольцем и кандидатом в члены партии.
Комсомольцев в роте оказалось много – человек сорок, а партийцев – всего девять человек, из них два кандидата – Алёшкин и Колбин. Оказалось, что среди командного состава роты коммунистов было двое – политрук Савельев и командир Новиков, из младшего комсостава – два помкомвзвода. Курсантов-коммунистов было пять человек. С нашей современной точки зрения такая партийная прослойка, вероятно, показалась бы чрезвычайно низкой, но в то время она была высока. В полку были роты, в которых вместе с командным составом находилось всего один-два коммуниста. Роты, имевшие свои партячейки, были наперечёт, в большинстве случаев ячейка создавалась одна на батальон.
На первом собрании после того, как каждый из коммунистов коротко рассказал свою биографию, секретарём ячейки был единогласно избран курсант третьего взвода Хоменко, рекомендованный политруком. Он был, пожалуй, самым пожилым из курсантов, в партии состоял уже пять лет, и перед призывом был секретарём ячейки депо. Впоследствии оказалось, что лучшей кандидатуры подобрать было невозможно. Хоменко показал себя очень уравновешенным, дисциплинированным, спокойным, но в то же время и чрезвычайно принципиальным человеком.
Полной противоположностью ему был секретарь комсомольской ячейки Павлин Колбин. Этот умел отлично говорить и воодушевлять окружающих, был всегда возбуждён, криклив, готов совершить самый отчаянный поступок – как хороший, так и плохой. Ему не раз доставалось от командования, от политрука и от Хоменко. Вместе с тем он отлично руководил буйной ватагой комсомольцев, среди которых, возможно, благодаря своей немного бесшабашной удали, пользовался большим авторитетом.
Когда на собрании партячейки выслушали биографию Бориса и узнали, что на гражданке он был техническим секретарём бюро ячейки, приняли решение о поручении этой же нагрузки ему и здесь. Следовательно, Алёшкину пришлось оформлять протоколы собраний, собирать членские взносы, оповещать о собраниях и т. п.
Мы описали два первых дня жизни Бориса и его товарищей в 5-м Амурском стрелковом полку. Последующие дни были так загружены разнообразной учёбой и другими занятиями, так походили и в то же время так отличались один от другого, мчались с такой быстротой, что никто из курсантов, кажется, не успел и опомниться, как прошло полтора месяца их пребывания в части. Они закончили курс обучения бойца, и им предстояло принять присягу. Это произошло в ноябре 1929 года.
К тому времени события на КВЖД и Дальневосточной границе шли своим чередом: одновременно с ведением всякого рода дипломатических переговоров части ОДВА и прибывшие пополнения из центральных районов страны при каждой попытке китайских вояк перейти советскую границу давали им решительный отпор. Отгоняли их вглубь китайской территории, занимали отдельные пограничные города: Лахасусу, Санчагоу, Фугдин, а затем по приказу реввоенсовета РККА, к своей немалой досаде, возвращались обратно.
Многие, в том числе и курсанты первой роты, с нетерпением ожидавшие своего участия в боях, не понимали причин такого поведения наших войск. А между тем, они были, как уже гораздо позднее стало известно всем, весьма важными. Дело в том, что империалистические державы всего мира только и ждали предлога, чтобы своими вооружёнными силами прийти на помощь гоминдановскому Китаю, ввергнуть молодую Советскую республику в новую тяжёлую войну, а повода-то пока и не было. Никак нельзя было броситься помогать хулигану, который набрасывался с ножом на мирных людей и получал за это по зубам; мирные люди, дав сдачи, вновь продолжали заниматься своим делом. Это было ясно дипломатам и политикам всего мира. Многократные попытки белокитайцев спровоцировать советские войска на вторжение вглубь Китая так ни к чему и не привели.
Между прочим, наши горячие головы – курсанты поняли, наконец, что для участия в боях одного желания и энтузиазма мало, нужно также и большое умение. Поняли они и то, что умение это достаётся немалым трудом, поэтому вся первая рота занималась с таким старанием и желанием, что вскоре усилия её командиров и самих курсантов получили соответствующую награду. Перед принятием присяги командование полка объявило роте благодарность. Такую же благодарность получила и полковая школа, готовившая младших командиров. Она помещалась в той же казарме, в которой и рота одногодичников, только на первом этаже.
Принятие присяги Алёшкину, как, вероятно, и всем остальным курсантам, запомнилось навсегда. Незадолго до этого они впервые надели шинели и сменили фуражки на шлемы. Шинели сидели мешковато, и пришлось кое-как при помощи одного из помкомвзвода, обладавшего знаниями портняжного дела, перешивать крючки (на которые тогда застёгивались шинели) и хлястики. Лучшей подгонки своими силами курсанты сделать не могли.
Накануне присяги командиры отделений и старшина настолько тщательно осмотрели обмундирование каждого курсанта, столько раз заставляли перешивать крючки и пуговицы, перечищать сапоги, что многие, в том числе и Борис, готовы были отказаться от всякой присяги, лишь бы их оставили в покое, но сделать этого было нельзя. Вечером повторяли исполнение своих песен, пели тоже чуть ли не до хрипоты, тщательно отшлифовывая исполнение.
На следующий день утром на прогулке одновременно впервые участвовал весь полк. Вышли все не только в гимнастёрках, но и в шинелях. Хотя личный состав полка (старослужащие) находился где-то около села Михайловского в окопах, а на плацу собралось только новое пополнение, всё же образовалась порядочная колонна человек в восемьсот. Командовал ею помощник командира полка Петровский, замещавший командира, отбывшего с остальной частью полка на границу. Говорили, что на приёме присяги будет присутствовать командир дивизии комбриг Ануфриев, приехавший для этого с границы.
После завтрака все были построены на плацу и, по команде Петровского, во главе со своими командирами, стройными колоннами, с песнями, направились к центральной площади Благовещенска. Поглядывая по сторонам, Борис успел заметить восхищённые взгляды многочисленных прохожих, стоявших на тротуарах и смотревших на колонну. Да он и сам видел, что восхищаться было чем. Как непохожа была эта колонна, с её ровными шеренгами, чётко печатающая шаг по чуть подмёрзшей земле улицы, на ту нестройную толпу, которая двигалась менее двух месяцев тому назад с вокзала. Дни напряжённой учёбы, старание командиров и подчинённых даром не прошли. В проходящих красноармейцах уже чувствовалась воинская выучка.
На площади, кроме подразделений 5-го Амурского стрелкового полка, были собраны также и части 6-го стрелкового, 2-го артполка и спецслужб. Текст присяги огласил комиссар дивизии Щёлоков. Оказалось, приехал не командир дивизии, а он. Комиссар дивизии, имевший в петлицах по одному ромбу, был невысокий подвижный человек. Он обладал звонким высоким голосом, читал очень отчётливо и так громко, что звук его голоса достигал самых дальних углов площади, заполненных красноармейцами (ведь тогда никаких микрофонов не было). После прочтения каждой фразы Щёлоков останавливался, а все красноармейцы повторяли её, и, хотя этим повторением пытались руководить находившиеся на площади командиры, толку от этого получалось мало: фразы присяги, произносимые громко каждым из присутствовавших, создавали громкий, но малоразборчивый шум. Но это было неважно. Повторяя слова присяги, каждый невольно вдумывался в значение произносимых им слов, стараясь высказать их от души, и искренне переживал всю важность происходившего события.
По окончании присяги и короткого поздравительного слова, сказанного комиссаром дивизии, всех охватило такое приподнятое чувство, как будто бы они участвовали в каком-то очень радостном и торжественном празднике. Это праздничное настроение не покидало курсантов и по возращении в казарму, тем более что, как было объявлено, по случаю принятия присяги, занятия в этот день отменили. Все могли заниматься кто чем хочет. Это было настолько необычно и непривычно, что многие даже заскучали, вот ведь как быстро люди привыкают к определённому распорядку!
Для Бориса этот день оказался знаменательным и тем, что он получил первое письмо от Кати, если не считать той записочки, которая была ещё в карантине. Борис писал Кате не реже, чем раз в две недели, он довольно подробно описывал свою жизнь, но, главным образом, насыщал письма разнообразными излияниями своих чувств.
Катино письмо, как и обычное её поведение, было довольно сухим и сдержанным. Она коротко описывала свою работу, жизнь дочки в Шкотове, сообщала, что с продовольствием во Владивостоке становится всё хуже, и лишь в самом конце своего письма вставила одну ласковую фразу, показывавшую, что под её напускной сухостью и сдержанностью таится горячее чувство к своему Борьке.
Так прошёл этот день. Мы не говорим о том, что, несмотря на большую загруженность учёбой, захватывавшей иногда и часть воскресных дней, в полковом клубе каждую неделю показывали какую-нибудь кинокартину маленьким передвижным киноаппаратом. Картины были старые, рваные, но всё равно, на оба сеанса зал был заполнен до отказа. Постоянного механика в клубе не было. Беляков, как оказалось, немного разбирался в этом деле и в течение первого же сеанса обучил и своего приятеля Алёшкина. С тех пор они, как правило, и крутили аппарат, а его действительно надо было крутить. В то время киноаппараты приводились в движение электромоторами только в больших городских кинотеатрах, в клубах же и на сельских передвижках киномеханики крутили проекционные киноаппараты с помощью специальной ручки, поэтому скорость движения происходящего на экране зависела исключительно от настроения киномеханика, и если он, задумавшись, вертел ручку слишком быстро, то даже похоронная процессия неслась бегом, что не раз и случалось. Это вызывало топот и громкие крики в зале: «сапожник!» и тому подобное.
Кроме того, на сцене клуба за эти полтора месяца состоялся и концерт самодеятельности полка. Руководителем был один из политруков полковой школы младших командиров. Участие принимали и некоторые курсанты-одногодичники, прежде всего, конечно, Штоффер, который, кроме своих незаурядных способностей художника-декоратора (ведь до призыва он работал декоратором в театре Мейерхольда в Москве), оказался ещё и хорошим музыкантом. Он всегда обеспечивал музыкальное сопровождение кинокартины, шедшей в клубе (кино-то было немое!), и в самодеятельности стал главным музыкантом. В клубе стоял старенький, довольно разбитый рояль, вот на нём и подвизался Штоффер.
Участвовали в самодеятельности и Борис с Павлином, выступая, главным образом, с юмористическими рассказами, сценками и стихотворениями. Однако ни тому, ни другому эта самодеятельность не нравилась: слишком уж как-то было сухо, по-казённому. Хор исполнял те же песни, что были вообще в полку; пели их, переступая с ноги на ногу для слаженности, как будто шли в строю. Выступал один плясун, весьма посредственно исполнявший «Барыню». Кто-то, тоже из одногодичников, играл на балалайке. Вместо конферансье выступал сам руководитель, объявляя номера сухим скучным голосом. Делал это он так неумело, что даже неискушённые зрители-красноармейцы, и те считали нужным после этого концерта серьёзно его покритиковать. Борис и Павлин решили в дальнейшем покинуть самодеятельность, хотя она и давала некоторые преимущества: участники уходили в клуб на репетиции, и тем самым фактически на несколько часов один-два раза в неделю вырывались из-под бдительного, постоянного и довольно-таки надоевшего надзора со стороны своих младших командиров. Не мог, да и не хотел покидать свой музыкальный пост только Штоффер. Для него самодеятельность оказалась прямо-таки спасительным кругом, который и помог ему, вероятно, благополучно отслужить свой срок до конца. Мы уже отмечали, что благодаря нескладности своей фигуры, чрезвычайно слабому физическому развитию и какой-то неприспособленности к строю и прочим бытовым солдатским делам, он с первых же дней стал служить мишенью для насмешек и проявления своей власти всех младших командиров и в особенности старшины. Уходя в клуб, он мог хоть немного отдохнуть от их бесконечных придирок, в которых эти командиры проявляли иногда прямо-таки неистощимую изобретательность. Командир отделения заставлял Штоффера раз десять перепоясываться, с каждым разом находя в его заправке всё новые изъяны, старшина приказывал ему по нескольку раз в день перестилать койку, помкомвзвода считал, что на строевой подготовке Штоффер допустил очень много ошибок, и в часы самоподготовки устраивал ему индивидуальные занятия, то есть гонял его по казарме, поворачивая во все стороны, и заставлял снова ходить.







