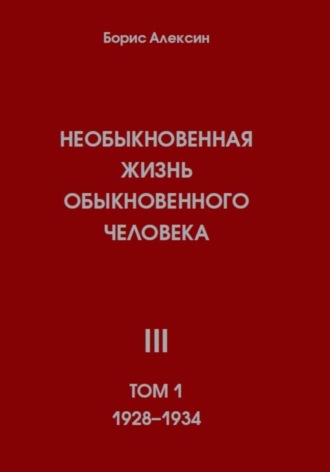
Борис Яковлевич Алексин
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Но не таков был этот невысокий, стройный, кареглазый, с копной вьющихся каштановых волос, энергичный тридцатилетний человек. Сидеть у моря и ждать погоды было не в его правилах. Ознакомившись со всем хозяйством треста, он предложил начать постройку первых деревянных судов на лесном складе, которым заведовал Алёшкин.
Для основной подготовки материала Крамаренко предложил использовать пустующий, доставшийся в наследство от Бородина сарай. Там он хотел установить несколько самых необходимых, простейших станков и циркулярную пилу, а сборку судов производить на улице, заняв для этого часть территории склада.
– Конечно, мы здесь не сможем строить сейнеры, места для них тут мало, но шлюпки, кунгасы и, может быть, «кавасаки» – вполне возможно и полезно во всех отношениях. Во-первых, за это время мы практически сможем обучить и выяснить квалификацию местных рабочих, а во-вторых, практически ознакомиться со строительством неизвестных для нас типов судов, – кунгасов, ведь на Северном море применяют совсем другие суда – карабасы, – так заявил Крамаренко.
Его доводы председателю правления треста Берковичу пришлись по душе и, несмотря на возражения Черняховского и даже Мерперта, считавших такой симбиоз на территории лесного склада недопустимым, в случае пожара грозящим опасностью всем запасам лесоматериалов треста, правление приняло положительное решение. На всякий случай, в штат лесного склада было введено четверо пожарных. Кроме того, заведующему складом Алёшкину было поручено приобрести противопожарный инвентарь, вплоть до мощного пожарного насоса, и к имевшимся на территории склада водоразборным колонкам присоединить шланги, которыми можно было бы воспользоваться немедленно, выявив очаг пожара.
Через неделю после этого решения, работа на судоверфи ДГРТ № 1, как её окрестили, закипела. Часто сталкиваясь на работе с Крамаренко, видя, что этот человек, хотя и беспартийный, старый специалист, отдавался любимому делу с такой же беззаветностью, как и сам Борис, последний быстро с ним подружился. В свою очередь, и Крамаренко ответил на эту дружбу взаимностью. Вскоре в тресте лесной склад и судоверфь стали считать одним целым и, хотя там было два начальника, между ними никаких трений не возникало.
Через месяц судоверфь дала пробную продукцию: на воду спустили первую шлюпку – парусный вельбот, способный поднять не менее двадцати человек. Шлюпки такого типа на Дальнем Востоке не строили, и в бухте Золотой Рог она была действительно первой. До сих пор жители города видели их только на больших океанских пароходах, укреплёнными на шлюпбалках, и обычно на воду в бухте не спускавшихся.
Поэтому первое плавание на ней, предпринятое Крамаренко и Алёшкиным, собрало толпу зрителей. Осматривать шлюпку пришло чуть ли не всё правление треста и весь производственный отдел. Некоторые из пришедших считали, что такие шлюпки в условиях побережья были неудобны, что с плоскодонными кунгасами рыбакам справляться было легче. Судоверфь № 1 сделала всего четыре шлюпки и переключилась на изготовление кунгасов. Строительство последних было делом более лёгким, мурманские специалисты его быстро освоили, а местным рабочим тут и учиться не пришлось. Поэтому к концу октября судоверфь выпустила два десятка кунгасов.
Между прочим, добившись специального разрешения от правления треста, Крамаренко за это же время построил одну прогулочную яхту типа швертбота с опускавшимся килем. Покрашенная ослепительно-белой краской с огромным парусом, она была очень красива. Кстати сказать, эта яхта была тоже одной из первых, появившихся во Владивостоке.
В конце октября помещения судоверфи на мысе Чуркин были готовы. Крамаренко со своими рабочими и большею частью оборудования переехал на мыс Чуркин. Там немедленно приступили к выпуску так необходимых тресту сейнеров для кошелькового лова. Импортные моторы для них уже начали поступать. Предполагалось к весенней путине 1929 года выпустить шесть сейнеров. Лесной склад с отъездом судоверфи снова обрёл тишину и спокойствие, и Борису Алёшкину стало даже немного грустно. Он уже привык к неумолчному визгу пил, скрежету фрезерных станков, стуку молотков, топоров и другим звукам, сопутствующим работе судоверфи. Зато освободившаяся территория склада позволила рассортировать поступивший за это время лес и клёпку.
Глава десятая
Ещё в середине июля из Шкотова приехала Катя. Она почти совсем поправилась, хорошо ходила, болей в укушенной ноге не было, но небольшой отёк ещё держался. Новая квартира ей понравилась. Как бы шумно и сутолочно ни было здесь днём, вечером они, по существу, оставались одни полными хозяевами во всём доме. Только возле ворот в маленькой будке находился старичок-сторож. Была очень приятной и близость моря. Борис и Катя купались поздним вечером, плавая вокруг стоящих на якорях шаланд.
До кинотеатров тоже было близко и, хотя Катя с трудом высиживала сеанс, всё же они ходили в кинематограф часто, не пропуская ни одного нового фильма.
Катерина встала на учёт в одной из ближайших к их дому комсомольских ячеек, и очень скоро её назначили пионервожатой. Она часто проводила время со своими пионерами. Несмотря на то, что беременность её вступила уже во вторую половину, благодаря стройности, спортивной подтянутости и физической крепости фигуры, она была почти незаметной. И если бы не продолжавшиеся, хотя и в меньшей степени, чем ранее, явления токсикоза (Борис узнал потом, что так врачи называют это странное состояние), то о том, что она ждёт ребёнка, можно было бы и не догадаться.
Катя, однако, продолжала «капризничать»: то отказывалась от хлеба, то вдруг испытывала отвращение к мясу, то её тошнило от одного запаха борща, так что Борису пришлось порядочно повоевать с ней, чтобы заставить жену есть хоть что-нибудь.
Между прочим, приехав из Шкотова на новую квартиру, Катя стала наблюдаться в консультации в центре города, и советы врачей ей очень пригодились.
Очень скоро Алёшкины познакомились с близлежащим китайским лавочником, и хотя эти взаимоотношения не были такими всеобъемлющими, как в своё время с Ли Фун Чаном, но, однако, и здесь многие продукты – хлеб, зелень, молоко, а иногда и мясо – доставлялись им на дом. Кроме того, так как их квартира находилась около берега бухты, то легко было приобретать привозимые китайскими рыбаками дары моря: крабов, креветок, свежую сельдь, иваси, кету и др. Всё это покупалось очень свежим, иногда даже живым.
В течение лета Борис много раз на «шампуньках» (небольших китайских лодках), а впоследствии и на собственных катерах ДГРТ, посещал начавший работать бондарный завод, строящийся ящичный цех и судоверфь. Совершали они с Катей прогулки на вельботе и на швертботе, правда, на последнем – в сопровождении Крамаренко, мастерски управлявшим парусами этих судёнышек.
Перед своим окончательным отъездом на Чуркин, Крамаренко оставил первый выстроенный вельбот, оснащённый мачтой, парусом и вёслами, в распоряжение заведующего лесным складом, то есть Бориса. Шагах в двухстах от квартиры Алёшкиных находилась одна из городских лодочных станций. Борис договорился с её сторожем, что до наступления зимы он будет оставлять вельбот под его присмотром.
Время шло быстро. Поглощённые работой, общественными обязанностями и своим личным счастьем (а они были счастливы, что было заметно по улыбкам и сияющим взглядам, когда они оставались вдвоём), ни Борис, ни Катя не замечали, как летели дни, недели и даже месяцы. Поэтому для обоих оказалась совершенно неожиданным, когда в ночь на 31 октября Катя вдруг почувствовала сильные боли внизу живота.
Молодые супруги не имели ни малейшего представления о том, как начинаются роды. Хотя доктор в консультации объяснял кое-что Кате, но большинство этих объяснений из-за её смущения проходили мимо ушей. Пожалуй, только чисто животный инстинкт подсказал женщине, что настало время родить. Разбудив своего крепко спавшего муженька (а было три часа ночи), Катя, корчась от болезненных схваток, просила отвести её в больницу. Борис предлагал сбегать за извозчиком или подождать до утра, но боли были настолько сильными, что, боясь остаться одной даже на короткое время, Катя его от себя не отпускала. Кое-как с его помощью одевшись, она, сжимая руку мужа, вышла из дома.
Больница с родильным отделением от их квартиры находилась довольно далеко: нужно было пройти четыре квартала по улице Ленинской и семь по Алеутской, расстояние составляло примерно два километра. Борис согласился, чтобы они шли пешком, в надежде на то, что им попадётся извозчик и подвезёт их. Взяв под руку Катю и сообщив ночному сторожу склада, что они ушли, Борис направился к воротам. В этот момент схватки прекратились, боль исчезла, и Катя остановилась:
– Ой, Борька, кажется, мы зря идём, у меня всё прошло! Вернёмся домой?
Они вернулись, но лишь только вошли в коридор, как наступил новый приступ схваток. Цепляясь за Бориса и косяки дверей, Катя вновь вышла на улицу. После этого они решили больше не возвращаться. Поначалу, преодолевая боль, Катя ещё могла передвигаться, но затем идти получалось только в период между схватками. Когда же они начинались, Катя хватала Борину руку, прислонялась к стене ближайшего дома или садилась на каменную тумбу, отделявшую тротуар от мостовой и, глядя испуганными глазами на мужа, стонала, корчась от нестерпимой боли. С подобными остановками они шли до больницы почти два часа и появились в приёмном покое около пяти часов утра.
Принимал Катю молодой мужчина – дежурный фельдшер-акушер. Борис был этим очень возмущён: «Как это так! – думал он, – Катя, моя Катя сейчас будет раздеваться при этом парне, и тот увидит её совсем голой!»
Борис хорошо знал скромность и стыдливость своей жены и поэтому представлял себе, как ей будет стыдно и страшно обнажаться перед этим чужим мужчиной. Но она, как потом говорила, была настолько поглощена происходящим внутри её организма, что даже и не обратила большого внимания на того, кто её осматривал. Да и схватки к этому времени сделались почти непрерывными и были так сильны, что Катя временами почти теряла сознание. Через 10–15 минут фельдшер вышел к Борису и сказал, что всё идёт нормально, роженицу они оставляют у себя, а муж может завтра справиться о ней по телефону (он написал на бумажке номер). После этого он выпроводил Бориса за дверь.
Алёшкин не помнил, как дошёл домой, как машинально вскипятил чайник, напился чаю, кое-как прибрал постель и отправился работать. Он опомнился, только когда в контору набрался народ, и Александр Васильевич, заметив растерянный вид своего начальника, зная о положении его жены и сообразив, в чём дело, спросил:
– Ну что, Борис Яковлевич, можно вас поздравить? Папашей стали?
– Да нет, что вы, ещё не знаю, только что отвёл её, – ответил растерянно Борис.
– Телефон у вас есть? Ну, так позвоните скорее и узнаете!
– А не рано?
– Что за «рано», там круглые сутки работают! Звоните, звоните!
Борис подошёл к телефону, стоявшему на столе Александра Васильевича, снял трубку и неуверенно назвал цифры. Услышав через несколько мгновений ответ, он несвойственным ему робким голосом спросил о состоянии здоровья Кати Алёшкиной.
После паузы весёлый женский голос произнёс:
– Она молодец, в восемь часов родила отличную дочь! Поздравляем вас, папаша!
– Как, уже?!! – недоверчиво вскрикнул Борис.
– Уже, уже! – смеясь, повторил тот же голос. – Приходите часов в 12, принесите жене покушать, мы вам через стекло дочку покажем, Фома вы неверующий!
Борис положил трубку телефона, машинально сел на один из стульев и вытер крупные капли пота, выступившие у него на лбу.
– Ну что? Как там? – бросились к нему с вопросами Александр Васильевич и Ярыгин.
Борис вздохнул, улыбнулся и, ещё не осмыслив до конца всю важность происшедшего события, как-то вяло произнёс:
– Дочь…
– Дочь? – хором воскликнули мужчины, – Поздравляем! Ну, а как Екатерина Петровна?
Между прочим, с тех пор, как Катя приехала к Борису, и они стали жить на складе, все служащие называли её Екатериной Петровной, отчего она очень смущалась, а Борис подсмеивался. Но теперь, став не только женой, но и матерью, с его точки зрения, она вполне заслуживала такое солидное имя.
Ровно в 12 часов дня Борис стоял у двери родильного отделения, где толклись несколько человек, таких же глупо-счастливых или старавшихся казаться серьёзными и даже как будто безразличными к тому, что ожидалось или уже совершилось в их семье. Некоторые из них с такой же откровенно восторженной и даже вроде как хвастливой улыбкой, какая всё время блуждала на лице Бориса, оглядывались на остальных.
На двери висела небольшая бумажка со списком, в котором он увидел среди прочих и фамилию своей жены, а напротив неё было написано: «девочка, 4,5 кг». Борис прочёл эту строчку несколько раз, но так и не понял – хорошо это или плохо, тем более рядом ещё стояло совсем непонятное: «р. 50 см».
По дороге в больницу он забежал сперва в кондитерскую, где купил пирожных, булочек, печенья, затем в гастрономический отдел «Кунста и Альберса», где приобрёл несколько сортов колбас, сыра и сливочного масла. Всё это, завёрнутое в огромный кулёк, предназначалось для Кати. Толстая пожилая женщина, принимавшая передачу, внимательно осмотрела все покупки, взяла из них только печенье и сыр, а остальные продукты вернула, сказав, что роженицам это вредно:
– Кушайте это сами за здоровье жены и маленького.
– Да у меня дочь!
Женщина улыбнулась, взглянула на растерянного парня и сказала:
– Ну и хорошо, что дочь, за неё покушайте.
Борис вздохнул, забрал оставшиеся продукты, завернул их в какой-то неуклюжий кулёк и повернулся, чтобы уходить, но та же женщина остановила его:
– Да ты, милок, не уходи! Я сейчас вернусь, от жены записочку принесу, может быть, ей ещё чего-нибудь нужно.
Борис даже не предполагал, что между ним и Катей может быть какая-нибудь письменная связь, поэтому и не догадался написать сам, и от неё не ожидал что-либо получить.
Через 15–20 минут санитарка, принимавшая передачи, вернулась и громко выкрикнула несколько фамилий, среди которых была и его. С внезапно замершим сердцем, Борис подошёл поближе.
– На, вот, папаша, письмо, читай.
Борис схватил крохотную, свёрнутую небрежным квадратиком бумажку, развернул её на ходу, сел на стул, стоявший около окна, и начал читать. На лице его была написана такая радость и счастье, что санитарка, провожавшая его взглядом, улыбнулась и сказала какой-то пожилой женщине, у которой принимала передачу:
– Ну и родители теперь пошли, прямо сами-то ещё дети! Он мальчишка, а жена-то – и совсем как девочка, тонюсенькая такая…
Между тем, Борис, не замечая ничего вокруг, читал и перечитывал несколько строчек, написанных какой-то неуверенной робкой рукой, лишь отдалённо напоминавшей почерк его Катеринки. В письме было сказано: «Борька! У нас уже есть дочь! Она какая-то волосатая, вся чёрная, а глаза голубые. Меня уже не тошнит, принеси мне яиц, сгущённого молока и ещё печенья, больше ничего не нужно. Приходи завтра. Я устала… Целую. Катя». Видимо, действительно устала, потому что последние слова её письма были написаны так слабо, что Борис с трудом их разобрал.
Свернув записку, он помчался обратно на свой склад. Дочь-то дочерью, а работы у него на складе не убавлялось, и ему теперь совсем не хватало времени. Тем не менее, вернувшись в контору, он подробно рассказал Александру Васильевичу и Ярыгину о посещении родильного отделения и, наскоро вскипятив чайник, устроил с ними пир, стараясь употребить как можно больше не принятых в больнице продуктов. Ярыгин предлагал по случаю такого важного события выпить винца, и уже собрался было сбегать за ним в ближайшую лавочку, но ни Борис, ни Соболев его не поддержали и появление на свет члена семьи Алёшкиных – нового гражданина Советского Союза отмечалось только чаепитием, поеданием колбасы и пирожных.
Между прочим, на этом же торжестве оба приятеля дали Борису ряд практических советов о том, что ему нужно приобрести до возвращения Екатерины Петровны из больницы. Борис воспользовался этими советами и в течение следующих двух-трёх дней купил на толкучке подержанную, но ещё вполне хорошую железную детскую кроватку с верёвочной сеткой по бокам. Кроватки такого вида давно уже устарели, и если бы он пошёл в какой-нибудь большой магазин, например, к «Кунсту», то, пожалуй, за ту же цену купил бы более современную кроватку, а может быть, даже и коляску, но эта его пленила тем, что она была до чрезвычайности похожа на его собственную в детстве. Купил он также оцинкованную ванночку, губку, кусок яичного мыла и термометр для измерения температуры воды.
Весть о рождении у заведующего складом дочери распространилась и среди сторожей, и среди китайских рабочих. Все эти на вид грубые и суровые люди при встрече с Борисом улыбались, и каждый по-своему выражал отношение к происшедшему. Некоторые из китайцев говорили:
– Девка шанго, палень пушанго. Палень канходи, тебе помогай… Девка чужой люди отдавай, только колми зля.
Борису и самому хотелось сына, но он так был рад, что всё уже кончилось, Катеринка чувствует себя хорошо и ребёнок здоров, что думал: «Чем плохо, что дочка? Ведь в нашей семье не китайские обычаи. Да у нас с Катей будет не один ребёнок, родим и сына!» Так он рассуждал, лёжа в кровати и считая дни, когда его жена вернётся домой.
А времени до этого оставалось уже не так много: чувствовала она себя хорошо, её молодой сильный организм быстро справился с перенесённым потрясением. Когда Борис приходил в больницу и останавливался против окон её палаты, то даже видел жену. Только до сих пор он всё ещё не мог рассмотреть свою дочь.
О скором возвращении домой думала и Катя. Она подходила к окошку, приветливо махала рукой мужу, но о том, как они будут жить втроём с дочерью, беспокоилась всё больше и больше. Ведь до сих пор ни она, ни Борис с такими маленькими детьми дела не имели, а Катя как-то с детства не любила грудных ребят, держалась от них подальше. Теперь, став мамой, когда уход за новорожденной – не только необходимость, но и обязанность, она серьёзно задумалась. Здесь, в больнице, она видела свою дочку чистенько вымытую, завёрнутую в белоснежные пелёночки, и Кате нужно было только исправно кормить её грудью, а это труда не составляло. Её здоровое тело поставляло столько молока, что его хватило бы не на одну, а на двух таких крошек. Кормление было даже приятным и доставляло какую-то непонятную радость, а вот как её купать, пеленать – вообще, как ухаживать за ней, Катя абсолютно не знала. Она была уверена, что и её юный супруг в этом отношении так же беспомощен.
Конечно, было бы очень хорошо, если бы по приезде домой она там встретила маму, но этого чуда произойти не могло. Мама находилась в Хабаровске: недели три тому назад Милочка родила второго сына, чувствовала себя нездоровой, и Акулина Григорьевна была ей нужна, заполучить её было невозможно. Оставалось надеяться на себя.
В своих письмах, день ото дня становившихся всё более длинными и содержательными, Катя давала мужу массу советов и наставлений по приобретению разных предметов для дочки. Советы эти она сама получала от своих более опытных соседок по палате. Одновременно она настаивала на улучшении и утеплении их жилья.
Борис многие из её просьб и указаний уже предвосхитил. В их комнате (бывшем кабинете Бородина) ногами к стенке печки стояла детская кроватка с матрацем из морской травы и маленькой подушечкой. В противоположном углу комнаты был поставлен второй конторский шкаф, пожертвованный Александром Васильевичем. При помощи одного из столяров верфи в него вставили полочки, на которых Борис разложил всё заранее приготовленное Катей приданое их будущего ребёнка. Тут были пелёночки, одеяльца, распашонки и чепчики. При помощи того же столяра окна этой комнаты полностью застеклили, рамы тщательно проконопатили, подогнали входную дверь в комнату. Дверь из соседней комнаты, выходившую прямо на улицу, которой до этого они часто пользовались, забили наглухо.
Кроме приобретений и мелких поделок, Борис также, как и Катя, подумал о помощи опытного человека, хотя бы на самые первые дни. Он вызвал по телефону мачеху и, рассказав ей об их бедственном положении, попросил её приехать. Та согласилась побыть у них неделю: время совпадало с осенними каникулами. Кате он об этом ничего говорить не стал, и когда в день выписки она была встречена свекровью, то очень удивилась и даже поначалу обиделась.
Вечером этого же дня Борис и Катя, обнявшись, сидели на кровати, глядели на свою темноволосую дочку и думали о том, как же её назвать. Они уже перебрали много имён, но всё это были обыкновенные, знакомые, много раз слышанные, которые можно было встретить на каждом шагу. Новые имена, появившиеся в последние годы, Октябрина, Тракторина, Сталина и тому подобные, как и старые дореволюционные, им тоже не слишком нравились.
Нет, их дочь – это же их ребёнок, она, наверно, будет совсем-совсем особенной, может быть, очень знаменитой, имя должно быть достойно её! Вдруг, почти одновременно, они это имя нашли.
Незадолго до отправления Кати в больницу Алёшкины ходили в кинематограф и смотрели только что появившийся советский боевик, поставленный по роману Алексея Толстого. Фильм назывался «Аэлита», так звали марсианку – главную героиню картины. Это имя было необычным, оно принадлежало гордой красавице, представительнице какого-то неизвестного мира. Оно очень подходило для их дочери, ведь она тоже будет красавицей и жительницей будущего, неизвестного им мира, в котором они сами-то, может быть, и жить не будут. А что она станет очень красивой, в этом ни отец, ни мать не сомневались ни минуты. Итак, решили – Аэлита!
Анна Николаевна немного посмеялась над их фантазией, однако имя своей необычностью и каким-то благозвучием ей тоже понравилось. На следующий день оно было закреплено за новым членом семьи Алёшкиных в документах ЗАГСа. С тех пор и стала расти маленькая девчушка с казавшимся многим странным и непонятным именем Аэлита. Скоро Катя придумала ей и уменьшительно-ласкательное имя – Эла.
Через несколько дней, преподав первые практические уроки по уходу за новорожденным, мачеха уехала, родителям дальше уже пришлось доходить до всего самим. Правда, без поддержки молодая мать не осталась. Консультация, в которую она ходила до родов, не забыла её. Наблюдавший их очень внимательный и чуткий врач вместе с прикреплённой акушеркой своими советами Кате очень помогали. Однако первое самостоятельное, без Анны Николаевны, купание Элочки проводил всё-таки отец, и лишь после нескольких совместных проб Катя решилась делать это сама.
Незаметно наступила зима, выпал первый снег. В маленьком семействе Алёшкиных пока всё обстояло благополучно: Элочка исправно сосала мамину грудь, всегда полную вкусного молока, подолгу спала и пока никаких особенных хлопот, кроме бесконечной стирки и сушки пелёнок, своим родителям не доставляла. Она начала понемногу ориентироваться в окружающей её обстановке и, во всяком случае, уже научилась узнавать свою маму, которая этим очень гордилась и иногда изводила папу, ведь его дочь пока совсем не узнавала. Тем не менее он тоже гордился и радовался успехам Элочки. Когда она сердилась и плакала, что, вообще-то говоря, происходило очень редко, она так смешно болтала язычком, что в её плаче получалось слово, очень похожее на часто повторяемое «идол-идол», и даже этот плач умилял родителей. Одним словом, семейное счастье Бориса Яковлевича и Екатерины Петровны Алёшкиных было полным.
Но на небосклоне их спокойной жизни появились и некоторые тучки. Первая – это открытие филиала лесного склада. Дело в том, что бондарный, или, как его теперь стали чаще называть, тарный завод и начавшая работать судоверфь требовали столько разнообразных лесоматериалов, что производить двойную перевалку было невозможно. До сих пор все доски и клёпка разгружались из вагонов на бородинском складе, отсюда на катерах и шаландах перевозились на мыс Чуркина – на бондарный завод и судоверфь. Правлению треста удалось доказать городским властям нецелесообразность этих перевалок и получить территорию под филиал лесного склада на мысе Чуркина, недалеко от своих предприятий, рядом с лесоэкспортной базой Дальлеса. Материалы сюда доставлялись вагонами.
В то же время ликвидировать бородинский склад было нельзя, так как промыслы и строящиеся береговые рыбзаводы тоже требовали большого количества пиломатериалов, которые удобнее было отправлять с этого склада или на шаландах, или на рейсовых грузовых пароходах Совторгфлота. Шаланды приставали к берегу прямо напротив склада, а пароходы – к причальной линии порта, куда лес подвозили подводами. На мысе Чуркина, около территории лесного склада, причалов не было. Таким образом, Борису Алёшкину пришлось, собственно говоря, заведовать двумя складами, что требовало много сил и, главное, дополнительного времени. Правда, для работы на мысе Чуркина, он выделил своего помощника Ярыгина, который в скором времени волею судьбы стал там полновластным хозяином, лишь подотчётным Алёшкину.
По просьбе Бориса Яковлевича, после открытия филиала лесного склада на Чуркине, ему в штат ввели ещё одного десятника для работы на основном складе, на Корабельной набережной. Человек, занявший эту должность, носил странную фамилию – Комоза. Он был членом ВКП(б), недавно вернувшимся после службы в армии. До армии он жил в небольшом селе около станции Бикин и работал на лесозаготовках. В аппарат ДГРТ его направили, как выдвиженца-коммуниста. Образование Комозы ограничивалось тремя классами сельской школы, и поэтому вот уже около месяца его никуда не могли пристроить. Когда появилась надобность во втором десятнике лесного склада, туда его и направили. Черняховский, определяя этого нового десятника, предупредил Алёшкина, что ему достаётся неопытный работник, и что за возможные его ошибки будет отвечать Борис. Последний знал, что Комоза – член партии, и таким предупреждением не очень смутился, без разговоров согласился его взять.
Забегая вперёд, можно сказать, что новый сотрудник оказался способным учеником: разбираясь в лесе, он скоро освоил арифметические расчёты, необходимые для работы, а отличаясь хорошей сообразительностью и смекалкой, через два-три месяца уже вполне соответствовал той должности, которую занимал.
Второе событие, нарушившее мирную жизнь Бориса и Кати, было чисто семейного свойства. Комитет крестьянской взаимопомощи, в котором служил Яков Матвеевич Алёшкин, был ликвидирован. В это время начали создаваться первые колхозы, образовался такой и в Шкотове. Было принято решение все имевшиеся в Комитете сельхозмашины и орудия передать в колхоз. Яков Матвеевич, за последние четыре года сменивший уже три должности, вновь оказался без работы. Он прекрасно понимал, что найти подходящее дело в селе ему не удастся, а если что-нибудь и подвернётся, то это будет опять ненадолго. Ему уже перевалило за 45 и хотелось какой-то спокойной, прочной и постоянной работы. В поисках её он приехал в г. Владивосток, поселился в квартире сына, оборудовав себе угол в бывшей кладовой. Туда провели электричество, повесили лампочку.
Первое время своим присутствием он не только не стеснял, а даже облегчал положение молодых хозяев. Третий взрослый в доме давал возможность Борису и Кате, оставив на деда спящую дочь, сбегать в ближайший кинематограф, а им этого так хотелось, они были ещё очень молоды.
Однако поиски службы у Якова Алёшкина успехом не увенчались. Возможно, в какой-то степени мешало и то, что при заполнении анкеты ему приходилось указывать, что он бывший офицер и даже какое-то время числился на службе у Колчака. Солгать он не мог, а более подробно объяснить свою историю в краткой анкете не представлялось возможным.
После нескольких бесплодных попыток, когда прошёл уже почти месяц его пребывания в городе, он впал в совершенное отчаяние. Как-то в разговоре с сыном, жалуясь на своё положение, он стал перечислять все специальности, которыми владел. В числе прочего он упомянул, что в юности обучался бондарному делу и работал в бондарной мастерской. Услышав это, Борис предложил отцу пойти на бондарный завод ДГРТ. Он надеялся, что благодаря хорошим отношениям с Николаем Фёдоровичем Антоновым, ставшим к этому времени директором завода, ему помогут устроить там на какую-нибудь работу отца.
Завод очень нуждался в самых разных специалистах, и поэтому Антонов, побеседовав со старшим Алёшкиным, зачислил его сменным мастером в бондарный цех. Зарплата мастера была почти в два раза выше той, которую до сих пор получал Яков Матвеевич, и это не могло не радовать. Как всегда, он отнёсся к делу с энтузиазмом, большой добросовестностью и честностью. Через месяц его перевели на должность старшего мастера завода, освободив тем самым от изнурительных ночных смен. Первое время он продолжал ещё жить у сына, но ежедневные пешие путешествия через замёрзшую бухту отнимали более двух часов и были чрезвычайно утомительны. Вскоре он нашёл небольшую комнату в частной квартире на мысе Чуркина и переселился туда. Он уже выяснил, что в будущем году здесь откроется школа, а значит, сможет получить работу и его жена, и начал подыскивать подходящую квартиру для всей семьи.
Всё это время Яков Матвеевич работал с предельным напряжением. Впервые за время существования ДГРТ бондарный завод самостоятельно должен был обеспечить необходимой тарой все промыслы и рыбозаводы. Помощи ждать было неоткуда: нэпманы, в том числе и владельцы бондарных кустарных мастерских, ликвидировались, правление треста должно было решить вопрос с тарой своими силами. Поэтому завод, ещё не полностью укомплектованный рабочей силой и оборудованием, вынужден был работать с предельной нагрузкой. Не хватало и помещений, часть работ проводилась во дворе. Старшему мастеру, постоянно контролировавшему работу всех цехов и подсобных мастерских, приходилось в течение всего рабочего дня, значительно превышающего восемь часов, то находиться в жарком помещении, где парилась клёпка, то выскакивать на мороз и крутиться на ветру около какой-нибудь внезапно остановившейся циркулярки или другого станка. Такая работа, при слабом здоровье Алёшкина, сказалась на нём пагубно. К концу февраля 1929 года, простудившись, он заболел воспалением лёгких. В больницу лечь не захотел, остаться в квартире сына тоже, и поехал обратно в Шкотово. Проболел он почти месяц, естественно, был уволен и уже о возобновлении работы на бондарном заводе ДГРТ не помышлял.







