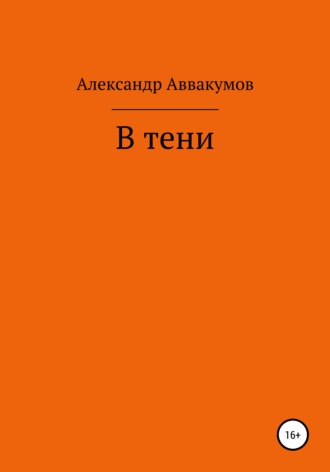
Александр Леонидович Аввакумов
В тени
– Правильно, товарищ Сталин, – поспешил согласиться командующий фронтом. – Подобного просто нельзя допустить!
Это прозвучало так забавно, что вождь насмешливо поморщился.
– А, фильм вы все-таки посмотрите. Я думаю, вы, товарищ Хозин, тоже могли бы стать народным героем, если бы освободили город от блокады. Но пока я не вижу у вас этого стремления…
Генерал побледнел.
«Какое обвинение за этим последует?!» – в ужасе подумал он.
Однако Сталин молчал.
– Недавно я был у командарма Федюнинского, – с трудом выдавил из себя Хозин. – Он получил мою директиву об изменении боевых действий. Теперь он двинется навстречу 2-ой ударной армии…
– Поздно спохватились, вояки! – резко оборвал Сталин. – Что вам мешало сделать это раньше? Два месяца боев и никакой согласованности! Что вы там с Мерецковым не поделили? 2-ая ударная атакует, а вы с Федюнинским спите, как медведи в берлоге. Собираетесь наступать, когда Клыков уже выдохся!
Сталин сделал паузу и посмотрел на побелевшее лицо Хозина.
– Болтаетесь там, как дерьмо в проруби! – подытожил он. – Командовал 54-ой маршал Кулик – без толку. Пришлось его разжаловать в генерал-майоры! Потом командовал ты – безрезультатно! Тебя сменил этот герой халхинголовец Федюнинский – едва не сдал немцам Волхов, растерялся, запаниковал. Не сумей он исправить положение, я б его в лейтенанты разжаловал! Может быть, прав был Мерецков, когда просил подчинить ему эту армию?. Что скажешь?
Хозин ухватился за идею, как за соломинку.
– Совершенно верно, товарищ Сталин! Войска обоих фронтов решают одну и ту же задачу – освобождение от блокады Ленинграда. Было бы хорошо объединить два этих фронта и передать командование в одни руки!
– В чьи руки? – прищурился Сталин. – Впрочем, это неплохая мысль! А почему Федюнинский просил освободить его от командования фронтом? Меня до сих пор интересует этот вопрос…
Хозин покраснел.
– Он объяснял это тем, что я старше его по званию, – тихо ответил генерал.
– Я думаю, он просто боится ответственности.
Сталин замолчал, продолжая пристально глядеть на Хозина. Пауза, затянулась. Внезапно на столе Сталина зазвонил телефон. Вождь снял трубку.
– Сталин слушает, – сказал он. – Хорошо… Можешь возвращаться… Доложишь по возвращении.
Он положил трубку и, встав из-за стола, попрощался с Хозиным.
– Вы свободны, генерал. Считайте, что вторая ударная поступает в ваше распоряжение! Приказ будет подписан завтра. Передавайте привет Жданову…
На тот момент никто не мог и предположить, что это решение будет одной из самых больших ошибок Верховного главнокомандующего!
***
– Смирнов! Почему сдал позиции? Не нужно мне ничего объяснять! – кричал в трубку командир полка. – Вы что там с Капустиным с ума сошли?! Для вас приказ – пустое место?! Да где я тебе возьму боеприпасы, рожу, что ли?! Короче, бери их обратно, иначе пойдешь под трибунал. На все тебе – час! Всего один час!
Николай положил трубку и взглянул на ординарца Сибгатуллина.
– Разрешите мне уничтожить этот пулемет! – неожиданно предложил тот.
Смирнов выглянул из-за сугроба. Немецкий пулемет, установленный на бронетранспортере, бил безостановочно, не давая возможности поднять голову.
«Нельзя: его тут же убьют!» – подумал Смирнов, видя, как засуетился Сибгатуллин.
Николай не раз отмечал такое состояние у людей, которые мысленно подходили к последней черте. Смирнов пытался понять, откуда приходит это предчувствие неминуемой кончины. Он отбрасывал версии о неведомом голосе, как о неком сигнале свыше, объясняя подобное состояние человека общим срывом психики. Именно в такой момент, боец теряет самообладание, а, вместе с ним, и способность воевать. Он начинает суетиться и делать ошибки.
И теперь Смирнов, глядя на ординарца, понимал, что посылать того на задание нельзя, ибо для него наступил тот самый кризис! Он, конечно, его преодолеет и останется одним из лучших бойцов роты; но это произойдет лишь в том случае, если он останется живым! А сейчас Сибгатуллин явно не вояка,в таком состоянии его срежут сразу после выхода из «мертвой» зоны…
«Что делать? – лихорадочно думал Смирнов. – И ординарца потеряю, и приказ командира полка не выполню…».
– Отставить, Сибгатуллин, – сказал он, наконец, берясь за гранаты. – Останешься за меня! Как только он заткнется, поднимешь роту в атаку.
Неожиданно Смирнов ощутил какую-то веселую отчаянность. Теперь он верил, что непременно справится с бронетранспортером и рота снова займет утерянные позиции.
– Выдвинься вправо, – приказал он Сибгатуллину, – и брось несколько гранат, чтобы отвлечь немцев.
Ординарец, молча, кивнул. Смирнов стремительным броском пересек заросший кустами склон и укрылся за кряжистой сосной. Его перемещение осталось незамеченным для немецкого пулеметчика.
«Еще пара-тройка таких перебежек, и я зайду им в тыл!» – размышлял Смирнов, стремительно пересекая небольшую поляну.
– Раз, два, три, – сосчитал он и упал в снег, чувствуя, как по его спине потек пот. Справа раздалось несколько взрывов. Пулеметчик моментально отреагировал на них. Он дал несколько длинных очередей и снова замолчал. Неожиданно из-за откоса, где укрывалась рота, донеслось громкое «ура!», а потом в воздух полетели шапки. Для немца-пулеметчика это было нечто новое; он дал в ту сторону длинную очередь. Пули срезали кусты на откосе, но русских не задели. А те все кричали и кричали, подбрасывая ушанки. Удивленный немец перестал стрелять.
В оставленных траншеях роты обедало подразделение СС, прибывшее для усиления любаньско-чудовской группировки вермахта.
– Курт! Что там происходит? – спросил один из обедавших пулеметчика.
– Не могу понять, господин фельдфебель. Похоже, русские сошли с ума или просятся к нам в плен.
– Держи их на прицеле, скоро прибудет подкрепление!
Смирнов прицелился и швырнул, одну за другой, две гранаты-лимонки, которые рванули в траншеях, поразив осколками десяток эсэсовцев. Третья, противотанковая, полетела под колеса транспортера, мгновенно запылавшего жарким пламенем. Услышав взрывы, рота устремилась вперед.
Смирнов спрыгнул в траншею. Вокруг лежали трупы, пахло сгоревшей взрывчаткой и порохом. У входа в блиндаж лежал немецкий офицер; рядом с ним валялся именной «Парабеллум». Николай нагнулся, поднял пистолет и, повертев его в руке, сунул в карман. Через двадцать минут командиру полка было доложено о том, что рота вернула оставленные ранее позиции.
***
Мерецков долго мерил шагами кабинет, затем поднял трубку.
– Перетрясите все свои тылы! – приказал он командующему 59-ой армией, генералу Галанину. – Соберите всех, кто способен держать оружие! Нужно помочь Сорокину, иначе последствия окажутся непредсказуемыми.
Через полчаса Кирилл Афанасьевич уже трясся в машине, направляясь на командный пункт 59-ой армии. Он решил лично свериться с обстановкой.
«Что делать, где взять резервы?» – размышлял он, всматриваясь в темные дебри леса, стеной стоящего с обеих сторон машины. – Если немцы сомнут дивизию Сорокина, то они окажутся в тылу 2-ой ударной армии и отсекут ее от основных сил Волховского фронта. В одном месте отрежешь, другое подлатаешь, вот к чему сводятся усилия командующего фронтом! Придется, видно, срочно перебросить дивизию из 4-ой армии, получившей пополнение. На это уйдет, как минимум, трое суток! Но может ли он решить этот вопрос лично или нужно посоветоваться со Ставкой?! Наверное, надо…. Иначе его обвинят в самовольстве, а это – тяжкий грех в глазах Сталина! Верховный не любит, когда проявляют собственную инициативу – это прерогатива вождя. Остальные обязаны просто исполнять его волю…».
Неожиданно машина резко затормозила.
– Немецкие самолеты! – доложил ординарец. – Нужно выйти из машины и укрыться под деревьями…
Пятнадцать «Юнкерсов – 87» шли плотным строем, не обращая внимания на две одиноко стоящие на рокадной дороге машины. Никто из летчиков даже не предполагал, кому они принадлежат.
– Товарищ командующий, улетели! – выкрикнул водитель, бросаясь к «Эмке».
Мерецков сел в автомобиль и, откинувшись на сиденье, снова задумался.
«Нужно сначала самому убедиться, что 59-ая полностью исчерпала свои возможности, а уж потом звонить Василевскому», – решил он.
В штабе 52-ой армии, куда по дороге заехал Мерецков, генерал Яковлев встревожено сообщил, что немецкое наступление, со стороны Новгорода, усиливается с каждой минутой. Гитлеровцы сосредоточили свои атаки против позиций 65-ой дивизии, но та кое-как держится, рассчитывая на резервы армии. Хорошо, что в дивизии пока еще есть боеприпасы.
– Товарищ Яковлев, передайте в дивизию – держаться до последнего! – произнес Мерецков и направился к выходу.
– Товарищ командующий…, – попытался протестовать Яковлев.
– Что?! – отрезал Мерецков. – У меня резервов нет!
В дороге он подремал немного. По прибытии, ему доложили, что в 59-ой армии ничего существенного не произошло. Командарм Галанин божился, что наскрести чего-либо путного в тылах его армии практически не возможно! Нестроевики там, в основном, женщины да интенданты, не умеющие зарядить даже винтовку.
«Его необходимо срочно менять!» – подумал Кирилл Афанасьевич.
– Как дела у Сорокина? – спросил Мерецков.
– Туго у него на левом фланге, немцы обходят; остановить их не могут!
– Вам всем придется туго, если не сладите с противником! – зловещим голосом произнес Мерецков.
Оказывается, он умел быть жестоким, чего раньше за собой не замечал…
***
Смирнов положил автомат на бруствер окопа.
– Удержим позиции, товарищ лейтенант? – спросил его Сибгатуллин.
Николай глянул на ординарца и промолчал, врать ему не хотелось, но и говорить правду было бесполезно. Вся правда была на том поле, где они, уже третий день, сдерживали немецкую пехоту, поле, усеянном трупами.
– Товарищ лейтенант, первый на проводе, – доложил связист и протянул трубку.
– Товарищ первый, шестой на связи.
– Слушай, шестой! Нужно атаковать противника, а не отсиживаться в окопах! – произнес подполковник Ржавин.
– Товарищ первый, у меня осталось два неполных взвода; не хватает боеприпасов, люди забыли, когда последний раз ели…
– Отставить, шестой! Сейчас всем трудно! Немцы отрезали нашу армию от фронта; но задачу, поставленную перед нами, никто не отменял! Нужно непрерывно атаковать противника, стягивать на себя его силы, тогда появится возможность прорвать окружение. Как прорвемся, так и отдохнем!
– Понял, товарищ первый; но боеприпасов, все равно, не хватает…
– Где ж я тебе их возьму? Если бы у меня были запасы, неужели, я бы с тобой не поделился?!.
В трубке раздались сигналы отбоя. Смирнов посмотрел на ординарца.
– Сибгатуллин, собери мне командиров взводов!
В воздух поднялась красная ракета. Красноармейцы с неохотой начали вылезать из окопов. Немцы успели хорошо укрепиться, и выбить их с позиций было практически невозможно – это понимал каждый боец, идущий в атаку. Гитлеровцы молчали; и было непонятно, с чем это связано? Молчание пугало бойцов. Они стали чаще останавливаться и падать в снег, с каждой секундой ожидая шквального пулеметного огня. Напряжение нарастало.
Смирнов бежал в первых рядах, размахивая автоматом. Рыхлый снег не давал возможности ускорить движение. До немецких траншей оставалось более шестидесяти метров, когда ударили станковые пулеметы гитлеровцев. Пуля сбила с головы Николая шапку и заставила его повалиться в снег. Он оглянулся назад. Поле было покрыто темными пятнами. Некоторые из них двигались, другие лежали без движения. Раздался скрежет летящих мин, и на поле стали подниматься серые фонтаны земли вперемешку со снегом.
«Нужно отходить!» – решил Николай; но сделать это под шквальным минометным огнем было самоубийственно.
Смирнов лежал в снегу. Сколько прошло времени с начала атаки, он не знал. Он, было, пытался ползти обратно, но пуля немецкого снайпера попала в приклад автомата и разнесла его в щепки.
«Скорей бы стемнело!», – подумал он и посмотрел на солнце, которое никак не хотело закатываться за горизонт.
Он снова сделал несколько движений; снайпер молчал, и трудно было понять, снялся ли он с позиции или просто наблюдает за тем, как борется за жизнь Николай. Стало тихо; даже предсмертные крики раненых умолкли. Неожиданно слух Смирнова уловил скрип снега. Он посмотрел в сторону звука и увидел немецких солдат, которые ползли в его сторону, надеясь захватить его в качестве языка. Николай, начал шарить рукой по поясу, стараясь нащупать кобуру пистолета. Наконец ему удалось достать оружие и передернуть затвор.
Из-за сугроба показалась голова первого немца. Под широким носом, словно клякса, чернели усики «а ля Гитлер». Заметив Смирнова, он заулыбался ему, словно старому знакомому. Недолго думая, Николай выстрелил в лицо немцу и, вскочив, бросился бежать, насколько позволял ему это делать снег. Сзади раздались автоматные очереди. Пуля обожгла Смирнову правое ухо. Он повалился в снег, и прижался к нему раной. Сердце, стучало где-то у горла. Снег возле уха окрасился в красный цвет. За ворот гимнастерки что-то потекло: то ли растаявший снег, то ли кровь. Николай отчаянно полз обратно. До позиций роты оставалось метров пятнадцать, когда пуля немецкого снайпера пробила голенище его валенка. Он вскочил, бросился к траншее и упал в нее прежде, чем снайпер снова нажал на курок.
***
За окном шел снег. Его крупные хлопья, медленно кружась в воздухе, падали на землю. Фюрер стоял у окна, заворожено наблюдая за снегопадом. Он любил снег, его белизну и чистоту. В душе художника, каковым он считал себя, рождался прекрасный пейзаж. Задернув штору, фюрер отошел от окна и направился к рабочему столу, на котором лежала карта. Гитлер любил это скромное строение в лесу, скрывавшем подземные бункеры «Вольфшанце». В Зеленом домике ему было, как нигде, хорошо и уютно. У фюрера было несколько комфортных мест, но это оставалось у него самым любимым.
Почувствовав некоторую усталость, Гитлер решил отвлечься от работы над оперативными документами. Сегодня утром он получил известие об окружении 2-ой ударной армии русских, и настроение у него заметно улучшилось. Обойдя стол, он открыл сейф и достал альбом, хранящий его старые акварели. Он написал их в молодости. Последняя попытка поступить в Академию художеств состоялась осенью 1908 года. Он хорошо помнил тот серый печальный день, когда его не допустили до экзаменов из-за отсутствия среднего образования.
«Сколько еще можно пресмыкаться перед вонючими снобами? – решил тогда Гитлер. – Нет! и еще раз нет! Он должен познать глубину унижения, чтобы затем возвыситься над ничтожествами и отомстить, отомстить им всем!»
Гитлер глубоко задышал, вспоминая прошлое. Ему вдруг стало жалко себя; однако, усилием воли, он заставил себя успокоиться. Фюрер медленно раскрыл альбом и улыбнулся: первая акварель изображала здание венской оперы. Все эти картины кормили его в то трудное время.
«Я сам сделал себя! – с гордостью подумал он. – Самообразованием! Обошелся без жидов, пытавшихся лишить немцев индивидуальности. Да, мне пришлось нелегко; но я много читал и притом основательно. Я достиг того, чего не достигли они – стал фюрером Германии!».
Он взял в руки еще одну акварель. На помятой бумаге, краски которой давно выцвели, был изображен королевский дворец. Гитлер вспомнил, как его дважды прогоняли с площади жандармы, пока он рисовал замок. Хотелось ли ему тогда жить в том дворце, он не помнил. Наверное, нет: ведь он – не толстяк Геринг, столь падкий на роскошь и внешнюю мишуру…
Фюрер отложил альбом и встал с дивана. На столе лежал отпечатанный текст. Буквы были крупными. Он взял в руки листок и быстро пробежал его глазами. Это был текст последнего выступления Геббельса, которое прозвучало на закрытом совещании:
«Чувства оставим поэтам и девицам, за церковью сохраним загробный мир; слабоумные пусть предаются мечтам о героизме и сгорают от любви к родине. Самое главное – все они должны выполнять наши приказы! Мы полагаемся на идеализм немецкого народа…».
Доктор Йозеф Геббельс был единственным человеком с высшим образованием в окружении Гитлера.
«Интеллигент!» – усмехнулся фюрер, хотя слова Геббельса импонировали ему.
Гитлер положил лист на стол, затем подошел к дивану и, захлопнув альбом, убрал его в сейф. Накинув на плечи шинель, он вышел во двор. Небо было серым, снег прекратился.
– Эта проклятая погода посадила все мои самолеты! – проворчал он. – Повезло Мерецкову…
Именно на погоду ссылался Геринг в утреннем докладе, оправдывая снижение активности авиации в районе деревушки Мясной Бор.
***
Командующий фронтом Мерецков мотался между штабами 52-ой и 59-ой армий, пытаясь организовать коридор, к западу от Мясного Бора, для выхода из окружения 2-ой ударной армии, в то время как немецкие дивизии, заполнившие горловину прорыва, пытались оттеснить армии Волховского фронта, как можно дальше к востоку. Оставшись у немцев в тылу, 2-ая ударная армия продолжала атаковать врага, хотя снабжение ее давно прервалось, и она остро нуждалась в боеприпасах, горючем и продовольствии. Бойцы стали голодать. За две недели армия съела всех лошадей, но и это не остановило надвигающийся на армию голод. К концу третьей недели, многие красноармейцы не могли двигаться от истощения, началась цинга…
Нина сидела у палатки, сворачивая выстиранные бинты. Эвакуировать раненых не представлялось возможным, лечить было нечем. Страшно было видеть, как умирают молодые бойцы, которые могли бы еще жить да жить…
– Корнилова! – окликнул ее санитар (Нина оставила при регистрации брака девичью фамилию). – Доктор велел тебе приготовиться к операции.
Нина встала и направилась к зеленой палатке на опушке леса. В палатке было темно и сыро. Она запалила керосиновую лампу и, развернув некогда белую простынь, начала выкладывать на нее хирургические инструменты. В палатку вошел хирург и направился к умывальнику.
– Готова? – спросил он и улыбнулся ей какой-то вымученной улыбкой.
Нина посмотрела на его руки и отметила, что они мелко дрожат.
– Готова, – тихо ответила она. – Как вы себя чувствуете, доктор?
Хирург не успел ответить. Полог палатки отогнулся, и санитары занесли молодого красноармейца. Осколок оторвал ему кисть. Нина быстро размотала пропитанные кровью тряпки и бросила их в ведро. Врач мельком взглянул на бойца и произнес:
– Придется ампутировать руку до локтя. Будет очень больно; но другого выхода нет, сынок!
– Доктор, а как же баян? – испугано спросил тот. – Я же баянист!
– Забудь про баян. Теперь тебе придется слушать, а не играть…
К вечеру среди врачей и раненых прошел слух, что ожидается прибытие самолетов для эвакуации. Откуда появился этот слух, никто, толком не знал.
Судя по басовитым звукам в ночном небе, к ним летели «Дугласы».
– Костры! Разжигай костры!
В небе появились четыре самолета, но, ни один из них не приземлился: то ли, не было приказа, то ли летчики просто боялись садиться на небольшую, окруженную лесом поляну. Они покружились и улетели, сбросив два десятка грузовых мешков. Их быстро собрали и доставили на территорию приемного пункта.
– Давай раскрывай, – приказал капитан ездовому. – Наверное, прислали продукты и медикаменты.
Ездовой вспорол мешок и удивленно посмотрел на капитана. В мешках было сено, предназначенное для лошадей, которых уже неделю, как съели…
– Как же так? – прошептал капитан. – Люди не лошади, им сена не нужно!
– А может, они ошиблись? – хмыкнул ездовой. – Ночью не разглядели да и сбросили нам, а не кавалеристам.
– И – го – го! – дурашливо заржал один из раненых. – Выходит, они нас за лошадей приняли.
Начальник госпиталя зло посмотрел на шутника. Тот оборвал смех и, хромая, заковылял в темноту.
***
Мерецков связался со Ставкой и получил разрешение на переброску к Мясному Бору свежей дивизии из состава 4-ой армии.
– Знаешь, что твою армию окружили немцы? – спросил он по телефону командующего 2-ой ударной армией Клыкова.
– Как не знать! Немцы уже, который день кричат об этом из своих громкоговорителей. Предлагают сложить оружие и сдаться, – ответил Клыков и, помолчав, добавил. – Уже давно прекратился подвоз продовольствия и боеприпасов. Люди голодают, да и стрелять во врага нечем!
В трубке повисла тишина, и было слышно, как тяжело дышит Мерецков.
– Я распорядился активизировать полеты авиации. Многого обещать не могу, но кое-чем они вам помогут.
– Товарищ командующий! У вас одна армия, которая по-прежнему рвется к Ленинграду, а у соседей – две, но они не проявляют никакой активности. Странное дело получается, бойцы не понимают этого! Почему они стоят и не помогают нам? Может, вы мне объясните?!
Мерецков не ответил, так как сам не понимал, что происходит.
– Как тут без меня? – спросил он по приезде на командный пункт своего заместителя, генерал-лейтенанта Власова.
Тот, молча, пожал плечами, находя вопрос некорректным. Андрей Андреевич Власов не был лично знаком с Мерецковым, хотя прежде слышал о нем, как о бывшем начальнике Генерального штаба. Зная о его манере общения с подчиненными, Власов поспешил доложить, что дивизия полковника Угорича начала движение в сторону Мясного Бора.
– Думаю, что раньше, чем через двое суток, дивизия вступить в бой не сможет, – добавил Власов.
– Как обстановка в четвертой армии? – поинтересовался Мерецков.
– Пока сносная; противник проявляет активность между Лезно и Волосье, но это, скорее, отвлекающий маневр. Четвертая держится крепко, товарищ командующий!
В кабинете стало тихо. Мерецков сел за стол и снял с головы папаху.
– Зовите меня по имени-отчеству, Андрей Андреевич: ведь мы с вами одни в кабинете…
– Слушаюсь, – склонил голову Власов.
«Солдафон, – неприязненно подумал Мерецков. – А ведь Академию имени Фрунзе окончил!».
Подавив неприязненное чувство, Мерецков глубоко вздохнул.
– С участием четвертой армии мы освободили Тихвин! – с гордостью сказал он. – Первый город, откуда окончательно выбили немцев.
– А, Малая Вишера? – неожиданно уточнил Власов.
«Смотри-ка, – удивился Мерецков, – умеет поправить начальство!»
– Верно, Малую Вишеру освободил Клыков; но какой это город? Большая деревня…
– Когда я командовал двенадцатой армией, у меня был начальник штаба из четвертой, – добавил Власов. – Сандалов его фамилия. Толковый штабист; до войны бархатный воротничок и штаны с лампасами носил. Под Москвой проявил себя с лучшей стороны: когда я оказался в госпитале, он взял на себя командование армией.
– Славу тоже поделили? – улыбаясь, спросил Мерецков.
– Слава – вещь ненадежная, Кирилл Афанасьевич. Сегодня она есть, а завтра… Мой корпус осенью сорок первого окружили под Киевом. Целый месяц мы бродили по немецким тылам, пытаясь выйти к своим. Отчаяние, страх, чего только не было! Проще было застрелиться, как это сделал генерал Кирпонос. На одного генерала в Красной Армии стало бы меньше. А, я вышел! Взял и вышел, назло всем! Да еще сохранил партийный билет, когда многие сжигали. Поэтому товарищ Сталин мне поверил. А выйди я без билета, где бы я был сейчас?
– Да уж не в Малой Вишере: Сибирь большая… Это в лучшем случае! В худшем – поставили бы к стенке без суда и следствия, как Павлова, Коробкова, Климовских, Григорьева…
– Почему не в Малой Вишере, Кирилл Афанасьевич? – возразил Власов. – Может быть, даже во второй ударной! Только в штрафной роте…
Власов замолчал и в упор посмотрел на Мерецкова. Тот, молча, встал из-за стола, так как понял, что разговор может стать более доверительным, к чему пока он не был готов.
***
Мерецков и Власов шли по улице Малой Вишеры. Было около десяти вечера. Где-то далеко хлопали зенитки и по небу шарили лучи прожекторов.
– Вы ужинали? – неожиданно для Власова, спросил Мерецков.
– Нет. Как-то не до того было, – ответил Андрей Андреевич.
– Может, зайдем ко мне? У меня Евдокия Петровна мастерица готовить!
Решение пригласить Власова к себе возникло у Мерецкова спонтанно. В войсках ходили слухи, что Сталин прочит Власова на его место, и он хотел услышать об этом от самого Андрея Андреевича.
Они вошли в дом, поднялись на второй этаж и, раздевшись в прихожей, прошли в зал. Стол был накрыт. Они выпили и стали ужинать. Добавив еще, Мерецков вернулся к прерванному разговору. Но разгадать Власова оказалось не так-то просто. Он постоянно переводил разговор на Сталина, который, удостоив Власова личной беседой, доверил бывшему командиру корпуса двенадцатую армию, принявшую участие в великом сражении.
– И доверие товарища Сталина мы оправдали! – гордо закончил Власов. – Отняли у фашистов Шаховскую, Солнечногорск, Волоколамск, отбросили врага от столицы!
– Вам, наверное, скучно в новой должности? – запустил пробный шар Мерецков. – Вы же – известный народу полководец, не то, что я, бывший заключенный.
Но, Власов, словно не заметил подвоха.
– Эта должность, конечно, не по мне, – улыбнулся он. – Я сам больше командиром был. Как призвали в девятнадцатом году в Красную Армию из Нижегородского университета, так и командую до сих пор! Поначалу, конечно, был рядовым на белогвардейских фронтах, прошел курсы красных командиров. А потом пошло… Командир взвода, роты, батальона, полка, дивизии. Как говорится, прошел все ступени!
– Я помню, как впервые дни войны ваша дивизия отличилась под Перемышлем, – сказал Мерецков. – Не отступила ни на шаг, пока немцы не начали обходить ее.
– Это была уже не моя дивизия, – скромно возразил Власов. – За два месяца до войны, я сдал ее и получил механизированный корпус! Правда, механизированным он был лишь на бумаге.
– Говорят, вы и в Китае были? – вступила в разговор жена Мерецкова, которая, до этого момента, молча, слушала мужчин. – Орден там получили?
– Было такое дело, – тихо произнес Власов, – получил; но его и золотые часы у меня отобрали сотрудники НКВД.
Андрей Андреевич начал рассказывать о семье, и Мерецков узнал от него, что Власов женат в третий раз.
– На детишек мне не везло! – словно подводя итог, произнес Власов. – Был ребенок от Агнессы, но погиб под бомбежкой…
В комнате стало тихо.
«На карьериста или выскочку из выдвиженцев предвоенных лет, вроде бы, не похож! – размышлял Кирилл Афанасьевич. – И в Китай уехал задолго до того! А после такой должности за кордоном вполне мог оказаться в застенках НКВД с обвинением в работе на японскую разведку. Но, Власов, вернулся и позже стал комдивом! И это при нем девяносто девятая стрелковая дивизия заняла первое место в РККА! Должность заместителя его явно тяготит, так как он, похоже, любит держать вожжи в своих руках. Перевести его в штаб? А, если он глаза и уши самого Сталина?! Пожалуй, стоит проверить его «на вшивость»…».
– Андрей Андреевич, – обратился он к Власову, – есть у меня для вас одно предложение. Не знаю, может ли оно вас как-то заинтересовать, но, все же…
Власов повернулся и в упор глянул на Мерецкова. Глаза их встретились. Они долго всматривались друг в друга. Наконец Мерецков продолжил:
– Сложная обстановка у командарма второй ударной, Клыкова. А ведь мы, я имею в виду себя и Ставку, возлагали на него большие надежды. Мне одному не разобраться в этом вопросе. Надо кому-то на фронтовом хозяйстве сидеть, ведь у нас, помимо второй, еще три армии… Хочу направить вас к Клыкову с полномочиями от фронта. Я – здесь, а вы – там. Надеюсь, в четыре руки управимся, если не будем мешать друг другу!
Мерецков затаил дыхание, ожидая ответа Власова; но тот молчал, так как хорошо понимал, что Мерецков хочет хоть на время от него избавиться.
«Почему он предложил мне именно 2-ую ударную армию? – думал Власов. – Разве, он не знает, в каком положении она находится?! Похоже, он боится последствий!»
– Но армия в окружении… – тихо произнес Андрей Андреевич. – Там нет боеприпасов, продуктов питания…
– Вам ли этого бояться?! Вот освободим проход и вперед! Сталин обещал еще одну армию…
«Похоже, он не верит в эту мифическую армию, – размышлял Мерецков, поедая глазами Власова. – Ну, соглашайся, соглашайся же!»
– Хорошо, Кирилл Афанасьевич, я приму армию, – все так же тихо произнес Андрей Андреевич, – только согласуйте свое решение со Ставкой. Я бы не хотел садиться на занятую должность, это не в моих правилах.
– Вот и договорились, – радостно заключил Мерецков.
«Как быстро мне удалось решить этот вопрос! – думал он. – Неужели, Власов не догадался о моем плане? Зачем мне этот любимец Сталина? Работать под его присмотром я не собираюсь, два медведя редко уживаются в одной берлоге! Нужно срочно переговорить со Сталиным! Скажу, что Власов сам напросился. Главное, чтобы Ставка согласилась на замену Клыкова! А, если откажут?! Нужно убедить их, что Власов необходим именно там, а не здесь…».
Тем временем Власов встал и направился в прихожую. Накинув шинель, он покинул квартиру Мерецкова.
***
2-ая ударная армия продолжала сражаться, атакуя превосходящие силы противника. За последние недели, пока шли бои за восстановление коридора, ни одна машина с продовольствием не пробилась в этот «мешок». По ночам летали «кукурузники» и сбрасывали сухари и тушенку. Но, разве накормишь десятком сухарей целую армию?! Особенно тяжело было госпиталям.
Появились первые проталины, и армия стала переходить на «подножный корм». Красноармейцы вооружались ножами и ножницами и стригли с еловых лап зеленые иголки. Все это настаивалось на кипятке, и этим раствором поили каждого раненого бойца. Многие бойцы отказывались принимать этот горький напиток, и тогда в дело вступал представитель Особого отдела, который, под страхом расстрела, заставлял пить раствор, объясняя это тем, что тот спасает от цинги. Это было правдой: у людей, из-за отсутствия питания, начали выпадать зубы, обессилевших бойцов приходилось отправлять в госпиталь, словно пострадавших от вражеской пули, а это было сродни дезертирству и членовредительству, за которое ставили к стенке.
Нина написала письмишко Смирнову и, сложив треугольником, сунула его в карман халата. Выйдя из палатки, она столкнулась с военврачом, который сопровождал незнакомую ей женщину.
– Собирайся, Корнилова: поедешь с Измайловой, – приказал он.
Нина критически осмотрела женщину: невысокая, в замурзанной шинели, подпоясанной брезентовым ремнем, в ботинках с обмотками. Все это жалкое одеяние сидело на ней относительно ловко, а шапка-ушанка, сбитая на затылок, придавала Измайловой какой-то задорный вид.
– Возьмете полуторку и попытаетесь провезти сквозь коридор раненых.
Заметив недоуменный взгляд Нины, врач быстро затараторил:
– Я понимаю, что днем прорываться сложно; но другого пути у нас нет.
– Но нам сказали, что госпиталь раненых не принимает, – возразила Нина.
– Знаю, Нина, знаю. А, ты исхитрись и сдай их! Главное, добудь хоть несколько флаконов эфира! Объясни, что у нас много тяжелораненых! Чем мне их усыплять? Ну, как: рискнешь?!







