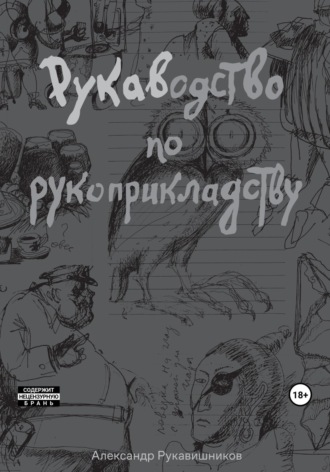
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Надо сказать, что выставки в те времена были совсем другими. Да, безусловно, существовал налет совковой безвкусицы, но художники, принимавшие в них участие, вызывали уважение: Пластов, Коржев, Салахов, Сидоркин, Захаров, Шварцман. Из скульпторов: Нерода, Пологова, Берлин, Соколова и много других. Часто выставлялись вещи ушедших великих: Корина, Тышлера, Цаплина, Матвеева, Конёнкова, Голубкиной. Каждый раз это было событием значительным. В наши дни, дабы не обижать коллег, я даю на теперешние экспозиции что-то маленькое, но контекст там такой, что притащи хоть Мантенью с Вермеером – не заметишь.Так сильны современные мастера!
Так вот в Манеж мы отправились с Ниной Максимовной уже после открытия, почему-то вдвоем, Штурмина не было. Вокруг скульптуры Высоцкого толпились посетители. Нина Максимовна тихо подошла, постояла, дотронулась рукой. Ей сразу сделала замечание пожилая смотритель. Я, отведя ее в сторону, сказал ей, кто это и что я автор. И, мол, трогать можно. Мы еще постояли минут пять, которые показались вечностью. В машине Нина Максимовна меня благодарила, спрашивала, как мне это удалось, трудно ли работать в мраморе. Около дома на Малой Грузинской, куда я с шиком доставил ее на ярко-зеленом «жигуле» с разбитой жопой, Нина Максимовна меня поцеловала и еще раз поблагодарила. Потом дней через десять я привез ей копию той полуфигуры в гипсе, и еще позже Нина Максимовна написала мне письмо, которое нельзя читать без слез. Храню его как зеницу ока. Публиковать не имею права, оно слишком личное.
Мне не разрешали ставить памятник на могиле Высоцкого нужной высоты, и вообще не разрешали делать его связанным и вырывающимся. А как же его изображать, когда идиотизм доходил до того, что Володю дублировали в кино. Всеми способами травили такой мощный талант. Звонил незнакомый мне тогда космонавт Гречко и просил по-дружески: «Саша, сделай поспокойнее лицо и развяжи ты его, я обещаю тебе, сразу установим». В ответ я применял какую-то ходульность, не помню точно, типа: «Тогда вечность мне этого не простит!» или «Буду нечестен перед вечностью!» Он серьезно, с уважением тянул: «Понимаю». Спасибо ему, поддержал тогда. Спасибо Иосифу Кобзону, приходил ко мне в мастерскую и после долгого разговора сделал все, чтобы помочь. Активно включился друг Володи Вадим Туманов со своими резко континентальными связями. Я чувствовал, что всем хотелось помочь Высоцкому, его памяти. И от бессилия по молодости я чуть ли не лопался. Лицо его, которое я постоянно «переделывал», становилось все аморфнее и хуже. Позже меня заставили отпилить сантиметров пятьдесят от низа скульптуры, и мы с Семеном Владимировичем, радостные, на пойманном на Садовой грузовике повезли модель в Мытищи. Месяца через четыре сияющий Семен приехал оплачивать бронзолитье на комбинат. Мы с моим верным другом и помощником Витькой Хаврошечкиным с серо-зелеными от въевшейся бронзовой пыли лицами встретили его у стен комбината. Когда каждый день пилишь бронзу, особенно в жару, она въедается в кожу и даже после горячего душа с мылом не отмывается до конца. Кожа зудит, хочется утопиться. Семен Владимирович, оплатив в кассе бронзолитье, попытался и мне ввести пару увесистых котлет, трогательно завернутых в газету. Я гордо сказал, что ни копейки не возьму, что это мой долг, что мы с ним, Семеном, друзья. И не взял. Потом было открытие. Народ висел на заборах кладбища и на деревьях. Высоцкий в очередной раз собрал всех. Потом почему-то отмечали открытие в «Пекине» на Маяковке. Было человек тридцать. Мы сидели рядом с Золотухиным и грустили – он, наверное, вспоминал их с Володей театральную и киношную жизнь, а у меня было обычное после такой пашни и нервотрепки внутреннее опустошение. 3адорнее всех был Хаврошечкин, но недолго, пока его не унесли. Еще причиной моей грусти был, конечно, сам памятник, изуродованный цензурой. Я тогда виду не показывал, чтобы не портить ощущение победы, но в душе решил: придет время, я ночью отпилю голову и приварю заранее подготовленную новую, главное, чтобы она подошла.
Приближалось сорокалетие со дня гибели Поэта. Я не молодел. Если не сейчас, то никогда, сказал внутренний голос, и окажешься ты обычным п......лом. Позвонил сенсею. Тот, выслушав, одобрительно крякнул, но предложил собрать Володиных близких товарищей во главе с сыном Никитой. Пришло человек пятнадцать, каждый высказывал свои за и против. Позвонили Мише Шемякину, он поддержал мою идею, сказав: «Это твое право, ты же автор, сколько хочешь можешь переделывать». Позвонили Вадиму Туманову. Он, помолчав, спросил, уверен ли я, что будет лучше. «Уверен», – ответил я.
Началась работа. Я, чтобы не повторить старой ошибки, решил устроить так называемую клаузуру. Запереться в своем деревенском срубе, оборудованном под мастерскую, выключить телефон и, пока не сделаю новый бюст, не выходить. Обклеил весь сруб фотографиями Володи, взял пару планшетов, чтобы пользоваться стоп-кадрами (полезно, кстати), и понеслась. Дня через три голова в глине была готова. Скинул фотки Володиным товарищам. Всем вроде бы понравилось. Вызвал форматора и после него проработал восковку. И так далее. Короче, когда наконец новая голова была готова в бронзе, мы, как собирались, поставили их рядом для сравнения. Все собравшиеся высказались в пользу новой. Участь старой головы была решена, она будет экспонатом Музея Высоцкого. Все-таки тридцать пять лет венчала фигуру Поэта. Минуя подробности об обычных технологических трудностях и загадках, мы установили обновленный вариант. Ну и тут началось, как обычно. Я, по своему обыкновению, выключил телефон. Булгаковский Воланд исчерпывающе охарактеризовал москвичей, помните, на Патриарших: «Они люди как люди…» Но, на мой взгляд, немного напоминающие парадоксальностью суждений персонажей пьесы Эжена Ионеско. Кто утверждал, что скульптура стала ниже, а отрезанное продали, кто говорил, что раньше был похож, а теперь нет, некоторые опускались до прически, мол, не там пробор, некоторые были в восторге. Представляю, как бы удивился и что бы сказал Володя Высоцкий, узнав, что у него есть прическа!
Кербель, Меркуров, Конёнков
Скульптор вообще профессия излишне романтизированная у нас в стране. Наш учитель Лев Ефимович Кербель – гениальный мастер скульптурного портрета – не раз показывал нам, как надо себя вести в советском обществе. Помню, как он делал памятник Ленину для Москвы. Едва получив заказ, сразу обратился то ли в горком, то ли в ЦК, где ему выделили новую «волгу» со спецсигналами и спецсвязью. Чудо по тем временам. Водитель в костюме учтиво открывал дверь маэстро в песочном пальто и светлой шляпе, будто из «Индианы Джонса». А тот с подчеркнуто серьезным лицом плюхался на заднее сиденье. Не скрою: мне всегда было приятно как бы походя сказать, кивнув в его сторону: «Это мой Учитель». Лев Ефимович купался в этом. Как-то он, сильно опоздав на заседание Президиума Академии художеств, вошел в зал и хорошо поставленным голосом заявил президенту и всем присутствующим: «Мне срочно нужно забрать своих учеников Переяславца и Рукавишникова. Непредвиденные обстоятельства! Если успеем, еще вернемся». Мы с озабоченными лицами выбежали и уже за дверью с волнением обратились к учителю:
– Что случилось, Лев Ефимыч?
– Да ничего не случилось, давайте пожрем где-нибудь, что там сидеть.
«Пожрать» мы шли в ресторан напротив. Верх цинизма, не находите? В этом был весь Кербель. И всю жизнь я старался ему в подобных делах подражать.
Кто-то из скульпторов рассказывал, как они, будучи молодыми, работали у Льва Ефимовича: прокладывали очередного «Ленина». Во время обеда сказали, что собираются отойти куда-то перекусить. Кербель отреагировал незамедлительно: «Не надо никуда ходить, в этом доме прекрасный кафетерий. Алё, кулинария? Народный художник, лауреат Ленинской премии, академик Лев Кербель беспокоит. В творческой мастерской, что левее вас, выполняем важный правительственный заказ. Принесите нам, голубушка, пару чайников кофе с молоком и по пять бутербродов с сыром и с колбаской», – проговорил властным низким голосом маэстро и, спокойно выслушав ответ, положил трубку.
– Неужто принесут? – восхитилась молодежь.
– Да нет, конечно. На хер послали, – засмеялся Лев Ефимович.
У Кербеля никогда не менялось отношение к друзьям молодости. С Юрием Петровичем Поммером у них сохранилась дружба на всю жизнь. Как-то они поехали в командировку в Ялту от худсовета. И прислали телеграмму в Союз художников: долетели хорошо. всё в порядке. кербель помер.
Из легендарных и успешных скульпторов еще вспоминается имя Сергея Меркурова, с которым дружил мой дед Николай Филиппов. Моя мама ходила к нему готовиться перед поступлением в Сурок. Он ее научил приему, который делает нос скульптуры дышащим: в ноздри снизу втыкаешь стеку среднего сечения. Я пользуюсь этим до сих пор и ребят учу. Мама рассказывала, что у Сергея Дмитриевича в середине мастерской была каморка типа скворечника. С окошками на все четыре стороны, на «курьих ножках». Он там, видимо придумывая композиции и делая эскизы, параллельно наблюдал за тем, как идет работа снаружи. А еще около входной двери мастерской стоял мешок из-под картошки, набитый деньгами. Каждый, кто уходил домой, брал ровно столько, на сколько наработал. Связи и масштабы у Меркурова были серьезные, скульптуры тогда стоили в СССР нормально, не как сейчас, в новой России. И потому маэстро то и дело приходили со всей страны вагоны с баранами, арбузами, вином. Шли годы. Мастерство и чудачества Сергея Дмитриевича остались только в легендах и в книге, которую мне недавно подарил один из талантливейших моих учеников Кирилл Чижов. А мастерство осталось, конечно, и в произведениях. Его «Тимирязев» восхищает меня с детства и поныне. Такая замечательная вещь! А скандальный шедевр «Похороны вождя», про который Сталин сказал: «Я такие дорогие подарки не принимаю», уверен, будет оценен следующими поколениями. У Меркурова остались два сына. Дядя Гога – яркий, высокий, белозубый полковник с семиструнной гитарой, был долгие годы неотъемлемой частью дедовских и родительских раутов. И Дмитрий – маленького росточка человек, абсолютно из гоголевской «Шинели», с печальной улыбкой и подчеркнуто тихим голоском, долгое время скромно работал увеличителем скульптур в одной из бригад.
Еще из великих своим нестандартным мышлением и поведением славился Сергей Конёнков. Мой дед Митрофан, учившийся у него, проникся его сказочным подходом к творчеству. Он не раз говорил моему отцу, что его поражал в Конёнкове резко континентальный характер отношения к работе и к отдыху. Во время работы над какой-нибудь вещью он, подобно многим православным иконописцам, вел аскетичный образ жизни: мало спал, мало ел, почти не разговаривал, совсем не пил спиртного. Это органично для настоящего пассионария – в таких вот нетривиальных условиях происходит таинство рождения нового произведения. После такого художника, ясное дело, охватывает смешанное чувство: вроде бы радость победы, но вместе с тем расставание – с чем-то привычным, почти родным, с частью себя самого. У Конёнкова за этим расставанием происходил примерно следующий сценарий: он в белоснежной расстегнутой косоворотке, с гармошкой в руках идет покачиваясь, а за ним следуют все шаромыжники Красной Пресни: оборванцы, пьяницы, беспризорники, воришки, шпана. Пестрое нечто в сапогах, клешах, кепках, с измятыми папиросами во рту хохотало, орало и плясало, не забывая задирать встречающихся прохожих. На вопросы непосвященных посвященные с придыханием вполголоса отвечали: «Конёнков гуляет! Вторая неделя пошла». Да, так расслаблялся наш философ, загадочный автор неразгаданной до сих пор «Графической Библии», автор не показанных им при жизни никому космогоний, о существовании которых было известно только Альберту Эйнштейну и Иосифу Сталину, пророк-самородок, предсказавший нападение Гитлера с неточностью только в один месяц. Великий русский скульптор Сергей Тимофеевич Конёнков.
Божественное начало
Скульптор, как мастер боевых искусств, должен входить все время в разные образы, ощущать себя по-новому. В бою это необходимо, чтобы дезориентировать противника алогичностью поведения, меняя внутреннее состояние и внешние повадки: то росомаха, то бронзовый боец, то челнок однообразный и ныряющий вправо и влево.
В скульптуре тоже в зависимости от задачи надо перевоплощаться, становясь то классиком, то примитивистом, то умалишенным, то вообще девушкой. Я выделяю среди этого всего два основных состояния: рациональный, все просчитывающий наперед аккуратный ремесленник и освобожденный от всех условностей, смелый, иногда до безумия мятущийся гений, творец. С первым состоянием все более или менее понятно. Здесь большую роль играет взвешенная аккуратность, знание законов физики, геометрии, анатомии. В общем, традиционная школа. Для достижения второго художник сначала должен познакомиться со скульптурой всех народов и эпох. Идеально, конечно, вживую. На крайняк хотя бы в интернете. Также хорошо бы познакомиться с разными философскими направлениями, в результате чего у скульптора сформируются гораздо более прочные связи со Вселенной, нежели у рядового гражданина. На мой взгляд, очень важно избавиться от сдерживающих центров: «Ну, батенька, это уж слишком» или «Не, старичок, это не пройдет. Не поймут или не примут». Ответ мастера на подобные сентенции должен быть неизменен: «Ой, правда? Вы так считаете? А мне похеру».
Страх и оглядка на чужое мнение, нерешительность блокируют движение творческой энергии художника. Главное – внутренне освободиться. А без внутреннего заряда мы опять получим все тех же стаффажных истуканов, которыми наводнена Москва, да и вся страна за мизерным исключением. Вы знаете, какой разрушительной силой обладают умалишенные. А знаете почему? Да потому что они не сомневаются и идут до конца, напролом. Ради справедливости надо сказать, что и у наших коллег за границей, как их сейчас принято называть с легкой руки президента, этого несчастья – ужасной скульптуры – не меньше. Чтобы выскочить из этого порочного круга, на мой взгляд, нужно удивляться окружающему, настроиться на соревнование с великими мастерами: Фидием, Мироном, Поликлетом. Почувствовать себя правильно, достичь состояния внутренней десоциализации. Многие художники для этого прибегают к водке с портвейном. Не знаю, не пробовал. Нет, выпить я люблю и стараюсь делать это регулярно, но не для достижения особых состояний. Но точно уверен: каждый творец должен найти свой метод входа в состояние. Многие великие художники веровали в Творца. Сколько шедевров создано благодаря этой вере. Временно находясь на большой Земле, лишь некоторые из людей способны оценить масштаб и величие деяний Его. «Вначале познай Бога в себе, а потом делай все что угодно» – Святой Августин. Либо – «Нужно стать маленьким, ничем, умереть и, умерев, в потустороннем мире с Богом встретиться». Вместе с тем истинный мастер из мира Востока умеет показать ученику оборотную сторону любого явления. Отсюда все эти алогичные, парадоксальные действия дзенских учителей, являющиеся ответами на вопросы учеников. Все дуально. Все правильно и так и сяк. Тогда ученику легче освобождаться от условностей, принимать смелые решения, действовать, творя нетленку. Примером масштаба подвига может служить жизненный путь великого японского скульптора – монаха Энку. Дав себе обет, он создал огромное количество статуй Будды из дерева, камня и кости. А когда почувствовал, что силы покинули его, он живым лег в могилу, попросив учеников закопать его. Находясь в могиле, дышал через трубочку тростника и звонил в колокольчик, привязанный к нитке, продетой через ту же трубочку. Монахи знали, что Энку еще жив и молится за них. Были люди! К чему я это: полезно бывает прикинуть, а каков твой обет? Будущему скульптору также необходимо почитать литературу о понятии «дурак». Дураки счастливее и зачастую принимают более правильные решения, нежели умные. Мозг человека, как известно, загадочен и не изучен. Вспомните историю хоть бы прошлого века, страшного своей оголтелой жестокостью. Многие персонажи, жившие в нем, считали себя гуманистами. Так что особо не полагайтесь на свой разум, разве что в создании каркаса, постепенно по возможности реанимируя убитую материалистами интуицию. Она, дух и фантазия – три краеугольных камня искусства. Работая с глиной, старайтесь почувствовать ее происхождение, ее волшебные пластические свойства. Просто относитесь к ней, как повар к тесту: бережно и с уважением! Без перегибов типа: «энергия земли входит в вас через кисти ваших рук, соединившись с вашей творческой энергией, уходит в произведение…бла-бла-бла». Осточертела эта жвачка. Важно другое: каким-то образом накрутить себя, чтобы не прикасаться к глине, пока не готов. Помните об ответственности, что на одну скульптуру в мире станет больше. Трудно это состояние описать, но пробуйте, и получится. Это очень похоже на такие картинки с однообразными 3D узорами, на которых лишь единицы видят обещанные сюжеты.
Настаиваю: старательность – неоднозначная вещь. Все начинают робко и осторожно, а потом надо небрежно, смело и до хамства. «Ибо чего убоюсь я перед лицом вечности».
Пока нет связи с Ним (с Всевышним) – творчества нет, есть просто приличное занятие. Делаешь что-то, и вдруг как рыба клюнула. И стало интересно, увлекательно, наладилась связь с Ним. Как воздушный змей, поймавший ВЕТЕР. Пока нет этого, нет и счастья. А как поперло – все, есть контакт. Связь эта как прозрачная труба произвольного диаметра, идущая вверх. Важно научиться вызывать ее, чтобы она возникала и была достаточного сечения, а ты уже в ней. И учиться надо не стараясь и как бы от нечего делать. Что-то калякать, примериваться, применяя метод Филонова от частного к общему. Ничего хорошего, может быть, в это время и не сделаешь, но цель ясна – творец нащупывает вход в это состояние. Иной бывает и входит, а результат посредственный, вялый, мозговой, засушенный, скучный. Но это уже от совокупности знаний базовой техники, генетического вкуса, природных данных, таланта и драйва. По-русски – куража. И наоборот, обладающим всеми этими качествами ни разу не удается найти и почувствовать это состояние, эту божественную связь – натянутую, невидимую, но прочнейшую нить. Она возникла, и тебя немного потянуло, ты еще не уверен, а потом тянет, как в замечательном фильме Тарковского. Лечу! Лечу!
В такие моменты важно, чтобы телефон был выкинут к чертовой матери. Ну или выключен, на худой конец. В якобы настраивающих на творчество книгах часто звучит фраза: «Дыхание ваше отпущено». Да какое там, к черту, дыхание! В минуты настоящего создания вы вообще не понимаете, кто вы и где находитесь. Вам интересно, вы никогда еще не были так счастливы. А пропорции, построение, спросите вы. Это все, конечно, тоже важно. Но сейчас я про такой этап мастерства и совершенства, где необходимо забыть о пропорциях и построении. Иначе будет как у всех.
Делая скульптуру, пытайтесь вспоминать и анализировать созданное Творцом. Как же все это органично, остроумно, широко и вместе с тем оптимально и красиво. Ведь мы же – Его подмастерья и работаем у Него в мастерской, по очень правильному утверждению Саши Соколова. Старайтесь изучать и понимать законы, руководствуясь которыми Он создал все. Пусть это недостижимо, ничего страшного. Результатом этих попыток должно быть рождение вашего собственного стиля. Без этого не стоит и начинать. Иначе получится имитация деятельности и трата времени, материалов, денег, обман надежд публики, друзей и родственников. А в глобальном результате – засорение психосферы. Кто этого не поймет и не ощутит, хорошим скульптором стать не сможет. Разве что использующим высокие технологии. Но скульптура ли это? И еще, чуть не забыл. Перед тем как пробовать создавать скульптуру, попробуйте научиться ее видеть.
* * *
Культура, особенно через время, играет коварную роль. Основной проблемой является то, что скульптура долговечна, и будучи установленной, настойчиво негативно влияет на психосферу планеты, заражая ее. Хотя призвана очищать, как делала это в лучшие времена. Идя каждый день в школу, дети вынуждены сталкиваться с бронзовыми истуканами. Эти так называемые памятники замусоривают наши города, уродуют веками сложившиеся красивейшие архитектурные ансамбли, влияют на сознание, портят настроение, как неразлагающийся пластиковый пакет пагубно влияет на экологию. Лично я по многим привычным для себя в Москве маршрутам теперь на машине не езжу, чтобы не расстраиваться. А маршрутов этих с каждым годом становится все больше.
Театральный роман
Мама с бабушкой все детство таскали меня на оперы и балеты в Большой и другие театры. В «Князе Игоре», я помню, все ждал, когда выведут живую лошадь на сцену. В «Евгении Онегине» раздражала пухлость Ленского. Помню, в «Аиде» мне не понравились декорации: было слишком много аляповатого золота, дома в книгах о Британском музее я видел другой Египет. «Ты слушай тетю Галю (партию Аиды исполняла Вишневская), а не смешивай все в одну кучу», – шепотом замечала бабушка. К счастью, на этом мое знакомство с театром не закончилось.
Как-то раз, в конце восьмидесятых годов, я обнаружил на чердаке ужасного вида большой тяжеленный чемодан. И предположить не мог, какой же невероятный клад в нем все это время лежал. Это были рисунки Митрофана, и какие! Сто девятнадцать, если быть точным. И вырезанные кальки с чертежами. Все виды бумаги и картона, на которых они были исполнены, обрели за эти годы историческую убедительность благодаря пыли, сырости и холодам. Бо́льшая и красивейшая часть их относилась к театру. Роскошные, стильные цветные эскизы к костюмам. С размашистыми подписями, кому из героев пьесы предназначается тот или иной образ. Эскизы сценографий для разных спектаклей. Чертежи на кальках, предназначавшиеся, по всей видимости, для технологического устройства декораций. С благоговением я разбирал и рассматривал всё это неожиданно появившееся у меня богатство: это окантовать с паспарту, это просто красиво, это в папку. Датировались рисунки началом двадцатых годов. Неповторимая манера, в которой всё это было исполнено, выдавала самобытного, уверенного, недюжинного в своей отвязанности мастера начала двадцатого века. Ай да Митрофан, думал я.
Театральное искусство вообще-то своего рода бездна, вселенная. А у него так смело, уверенно, лаконично. Были ли поставлены эти спектакли, кем и на каких сценах? Увы, спросить уже не у кого. Известно только, что молодой Митрофан был в дружеских отношениях с Эдвардом Гордоном Крэгом – английским знаменитым актером, режиссером и крупнейшим символистом в театральном мире Европы. Крэг приезжал работать в Москву по приглашению Станиславского, с которым его познакомила Айседора Дункан. А над скульптурной мастерской, где жил и работал Митрофан с семьей, а теперь живем и работаем мы, располагалась точно такая же мастерская Георгия Якулова, в которой – вот совпадение – познакомились Есенин с Айседорой. И потом часто бывали. До сих пор сохранился диван, на котором они оставались ночевать, засидевшись у Якулова в гостях. Этажом выше писал свои экспрессивные полотна великий Кончаловский. Вот такая была тусовка. Конечно, общение с Айседорой и дружба с Эдвардом не могли не повлиять на молодого скульптора. В этом же дворе, колодцем, построенном в стиле ар нуво, жил и работал Булгаков с 1921-го по 1925-й. Ему удалось прославить этот дом на весь мир. Правда, были ли они знакомы с Митрофаном, неизвестно.
Что же касается меня, то в страшном сне я не мог представить себя в роли театрального сценографа. Приходя на спектакли в разные театры, я, конечно, критически оценивал декорации, но мнения своего не высказывал, не будучи искушенным в этой области искусства. Просто они мне иногда нравились, иногда не очень, иногда раздражали своей беспомощностью. Так жил я спокойно, пока не раздался анонимный звонок. До сих пор помню ту минуту, когда из трубки сказали до боли знакомым голосом: «Александр? Здравствуйте. Владимир Машков беспокоит. Есть идея. Не могли бы вы заехать к нам в театр?»
Вообще, меня трудно удивить звонком, но чтобы сам Гоцман из «Ликвидации»… Сами понимаете. Договорились о встрече, и вскоре я, будто Максудов, попал в знаменитый, бывший угольный подвал, в котором бывал и раньше, но в роли зрителя. В красивом светлом кабинете со штангой, лежащей на станке для жима лежа, со множеством фотографий великих театральных деятелей меня встретил Сам. Наговорив друг другу комплиментов, мы перешли к сути дела. Машков предложил мне подумать о памятнике Олегу Павловичу Табакову, который будет установлен на Сухаревке перед новым зданием театра его имени. «Мы, его ученики, посоветовались. Всем хотелось бы в композицию включить кота Матроскина и атом солнца», – сказал Владимир.
Я взял под козырек и отправился придумывать эскиз. Всю жизнь учился этому и научился придумывать быстро и хорошо. Потом, если не забуду, расскажу, как это делается. Наутро фор-эскиз был готов. Позвонил моему замечательному ученику Илье Феклину и попросил помочь проложить его, чтобы не терять времени. Сам я в тот момент работал над «Стефаном Неманей» для Белграда. У Ильи получилось неплохо, мне осталось поработать несколько дней, и подробный эскиз был готов в пластилине. Машков приехал в «Рукав» со свитой и начал рассматривать. Я как человек антипафосный через какое-то время потихонечку начал склонять всех к обеду. А Машков все смотрит. Смотрит десять минут, полчаса, час. Я не знал его тогда, поэтому подумал, что он из вежливости играет восторг и заинтересованность. Только потом понял: у него просто смещены временны́е рамки. Он включен в любимое дело двадцать четыре часа в сутки. Вообще думаю, что слово «пассионарий» – это как раз про Машкова. Для него понятия «отдых» не существует. И поэтому все вокруг вынуждены пахать. При этом, что удивительно, он никакой не деспот и не узурпатор. Мне очень нравится, как он работает с людьми: бережно и предупредительно. До знакомства с ним у меня было два друга, ну совершенно необычных и великих сумасшедших. Не думал, что их список когда-нибудь может пополниться, но сейчас, похоже, их три.
Вскоре после нашего знакомства Володя (мы быстро перешли на ты) позвонил и попросил заехать. На встрече я услышал: «Такое дело: ставлю спектакль по Агате Кристи. Сделай сценографию?»
Я чуть не подавился печеньем, с которым пили чай. Повисла пауза.
– Как ты себе это представляешь? Я ж ни одного закулисного термина не знаю. Нет, нет и нет!
Сценографию я в итоге делать согласился. На этом пути было много интересного, для меня абсолютно нового, веселого. Пришлось и повкалывать, конечно. Машков ненавязчиво и умело познакомил меня с обширным коллективом инженеров, художников, бутафоров, специалистов по свету и звуку, работающих в театральных мастерских. Накрыв поляну на всю ораву, он произнес проникновенный и расширенный тост, в котором назвал меня своим другом. Видимо так было надо, чтобы меня не убили. После этого началась работа, во время которой ставшие мне близкими ребята, дабы не позорить перед остальными горе-сценографа, негромко подсказывали мне: «Александр Иулианович, не фиговина, а падуга21. Не хренотень, а колосники22». Я очень им благодарен.
Кончилось тем, что я в очередной раз почувствовал себя Максудовым, когда на афише Театра Табакова прочел: «И никого не стало». Агата Кристи. Режиссер: В. Л. Машков. Сценография: А. И. Рукавишников. Костюмы: В. А. Юдашкин.
Метро
Не могу не рассказать вам, любезные читатели, об одном великом и ужасном товарище моем – Коле Шумакове. В нем все необычно. Он прежде всего художник жизни, архитектор света, интуит дружбы, пофигист и хулиган. Результатом, казалось бы, его раздолбайства, внешней легкости подхода к работе неизбежно является шедевр. Мосты и аэропорты звенят от конструктивной слаженности и выверенности, небанальных решений. Станции метро, созданные им и его талантливыми соратниками, наполняют вас радостью и, как он выражается, «желанием умереть от восторга». Живопись его безжалостна, точна и прекрасна. Мастеру такого масштаба для реализации творческих идей должен принадлежать мир без границ, а он зачастую вынужден доказывать очевидные вещи всякого рода «начальникам умывальников». Смешно, право. На таких людей надо молиться. Николай Иванович году в две тысячи пятом предложил мне поработать в метро. Я обрадовался. Какие мастера украшали московское метро! Пристегнуться бы к этому «составу». Пятнадцать лет упорной работы результатов не дали. То одного снимут, то другого. Наконец на «Электрозаводской» что-то получилось, и то не без анекдота. Станция эта должна была называться «Рубцовская» – на этом месте находилась деревня Рубцово, которая принадлежала легендарному воину по кличке Рубец. Этот бесстрашный боец принимал участие во многих сражениях и был достаточно успешен. Вот Николай и предложил мне с соавтором станции Александром Некрасовым на путевой стене изобразить битву. Я начал царапать в своей технике «острый коготь». Когда примерно через год все левкасы были мною выполнены, Некрасову сообщили, что станция для удобства пересадок будет называться «Электрозаводская», на аглицкий манер, как это сделано в городе Лондон. Кстати надо сказать, что это правильно, чтобы пассажиры не путались в лишних названиях. Рассказывают, что Александра Некрасова вызвали в некую организацию и сказали, что «битва» не нужна, после чего тот залез на подоконник, чтобы выброситься с одиннадцатого этажа. Принесшие дурную весть, видимо, испугались, стащили его на пол, пообещав, что «битву» постараются оставить, объяснив это историческим названием деревни. Мне все это рассказали позже, видимо, не желая травмировать художника. Но я, закаленный в боях несправедливых наших конкурсов, вообще не волнуюсь – и участвую теперь только в международных. Еще одна фигня приключилась на этой станции. Работая над «битвой», дабы показать серьезность происходящего и продолжить традиции великих мастеров – Джорджоне, Мантеньи, Штука и многих, многих других, я изобразил одного обезглавленного витязя, голову которого как трофей за волосы держит злой плохиш на пятнистом жеребце. Чтобы не было натуралистично, обошелся без крови и патрубков гортани, артерий и позвоночника, понимая, что будут смотреть и дети, и некоторые неуравновешенные их родители. Как по сценарию, возник скандал, и архитекторы ко мне обратились с вопросом, не буду ли я возражать, если голову «пришьют» на компьютере обратно. «А не будет ли это плагиатом на Михаила Афанасьевича?» – в шутку поинтересовался я. В результате бедным монтажникам пришлось аккуратно снимать девять стеклянных панелей и с переделанным ухудшенным изображением ставить их на место. Извините меня, ребята, я не нарочно. Когда на еще недостроенной станции состоялся худсовет, нам всем выдали белые каски. После совета, на котором никто ничего не посоветовал, а только все члены его по очереди подходили к нам с рукопожатиями, около меня нарисовался какой-то большой тщетланин в красной каске (типа бригадир). И как мне показалось, довольно безапелляционным тоном стал говорить чушь про отрезанную голову. Сначала я не обращал на него внимания. Он не унимался и перешел к обсуждению крупов лошадей, сравнивая их с порнографией и настаивая на том, чтобы я и их переделал. Я повернул голову в его сторону, как это делал Высоцкий, встречаясь с подобными умниками. Парень почувствовал неладное и включил обратку. «У кого какие ассоциации», – сказал я и пошел догонять Шумакова и Некрасова.


