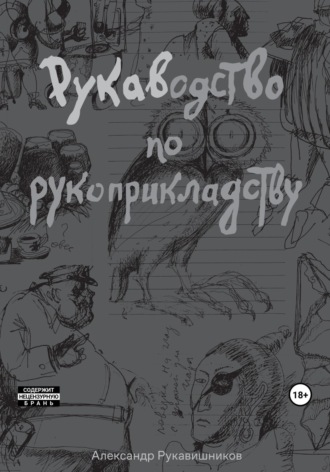
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Критика
Надо быть очень культурным человеком,
чтобы удержаться от советов художнику.
А. П. Чехов
Почти в каждом интервью задают вопрос: «Как вы относитесь к критике?» Отвечу. Когда критикует человек, имеющий на это право, то есть создавший сам нечто достойное в истории мировой скульптуры, выслушаю, но не со всяким из достойных соглашусь. Ведь скульптура постоянно меняется, меняется в зависимости от многих причин: времени, места, контекста, технического прогресса. Сейчас технологии позволяют, например, делать громадные с идеальной поверхностью формы из листовой нержавейки. Еще раз вспомним Аниша Капура или Джеффа Кунса. Во многом успех их произведений зависит от качества сварки, лазерной резки, обработки. Это удивляет (в хорошем смысле этого слова) и замещает умение непосредственно лепить. Это эффектно и здорово. Это отдельный сегмент современной скульптуры, который родился относительно недавно. В то же время она не всегда опирается на традиции. Поэтому великий Фидий вряд ли имел бы право критиковать какого-нибудь Ипостеге за чрезмерную физиологию, и наоборот. Но есть, конечно, скульпторы, критику которых я выслушал бы с благоговением, сняв шляпу и стоя на коленях. Это в первую очередь Фидий, Марино Марини, Генри Мур, наверное, Исаму Ногути и, конечно, из русских – Великий Дмитрий Цаплин.
Несуразная критика может даже улучшить настроение, рассмешить. Например, была восхитительная по наивности заказная статья по поводу моей выставки в Музее современного искусства на Гоголевском бульваре. Фамилию автора, к сожалению, не запомнил, но утверждал он следующее: мол, все женщины были изображены мною в момент оргазма. Я был польщен. Долго этого добивался. Дурак, а тоже кое-что понял.
Бывают трогательные письменные обращения. Одну гениальную записку, сохраненную мною специально, хотел привести в подлиннике, но автор ее ушла из жизни, царство ей небесное. Не хочу компрометировать автора этого гневного опуса с орфографическими ошибками. Ибо автор – дама с уважаемой фамилией.
Моя бабушка вспоминала, с каким «благородным неистовством» критиковали их друзей: Стенберга, Меркурова, Дейнеку. И как глупо выглядели критиканы, которым позже, когда критикуемых настигало признание, приходилось перестраиваться. Помню, как-то, сидя в дедовской мастерской, я слышал, как дед Николай отчитывал какого-то молодого искусствоведа, типа того: «Как ты, мракобес, ничего не понимающий в искусстве, можешь доводить свои убогие взгляды до высоты критерия?!» На мой вопрос: «И чего ты так на него накинулся?» Николай Васильевич отмахнулся: «Нечего писать всякую х…ю, да еще в „Огоньке“». Дед вообще считал профессию критиков паразитической. Я с ним согласиться не могу. Ринго Старр как-то давно сказал, что каждый ударник должен знать свое место. Есть замечательные арт-критики, которые помогают продвижению художников. Благодаря им публика узнает творчество молодых или забытых художников. Искусствовед Ирина Седова, например, много сделала для того, чтобы реанимировать имя Митрофана Рукавишникова. Провела исследовательскую работу, раскопала массу интересного.
Я благодарен выдающемуся искусствоведу Валерию Турчину за нестандартный, творческий подход к моим работам. Несравненному Александру Рожину, моему другу, – за безотказное удовлетворение моих просьб написать что-нибудь о той или иной моей скульптуре. Якимовичу Александру Клавдиановичу, который смог увидеть сложность и глубину направления в скульптуре, которое создал Иулиан Рукавишников.
* * *
Мама рассказывала, как она ходила в МОСХ, где выступал великий Дмитрий Филиппович Цаплин, недавно вернувшийся из Европы. Он тщетно пытался открыть глаза членам тогдашнего Союза художников на то, что такое настоящая скульптура. Какие качества ценны в ней. Его, пожилого человека, освистали, улюлюкали, орали с мест, оскорбляли. Он растерялся, не ожидая такой дикости. Я же считаю Цаплина номером один в истории скульптуры нашей страны. Это величайший из мастеров. Жаль, что почти никто этого не видит и не понимает. Его, как многих, обвиняли в формализме, издевались, не давали заказов. Во Франции и Испании Дмитрий был довольно успешен, но не продавал своих вещей даже просившим его об этом музеям, считая, что они должны вернуться на родину. Он достоин ста музеев, но, увы, нет ни одного. Несколько анималистических скульптур есть в собрании Третьяковки. Большая часть каменных и стеклянных скульптур исчезла в результате нападения «черных риелторов» уже в начале двадцать первого века. Изуверски убита его дочь Вера. А остальные уцелевшие после разграбления вещи валяются в ужасных условиях в полуразрушенных комбинатах. Спасибо скульпторам Буйначеву и Тугаринову, что они хоть что-то сохранили. Странно, что у нас нет национальных героев. Правда?
Петр Барановский
Там дураки власть берут.
Андрей Платонов
Как же нам повезло, что «товарищи», захватившие власть в 1917-м, не обладали последовательным умом, как какие-нибудь немцы, например. И не могли довести задуманное до конца. Иначе мы бы не увидели остатки шедевров нашей архитектуры. Прекрасное ведь действует на неискушенное око подобно зеркалу, которое ничего не отражает, если в комнате никого нет. Замечаю, что немногие теперь умеют видеть. Однако люди, для которых уничтожение великой культуры являлось непоправимой трагедией, нет-нет да встречались. Пожалуй, самой мощной фигурой из этой немногочисленной группы был Петр Дмитриевич Барановский. Незаметный, скромнейший человек-подвижник – страдалец всю свою жизнь посвятил реальному спасению древнерусской архитектуры. А жизнь его аккурат совпала с самыми страшными для нашей культуры десятилетиями, когда руководящее быдло оголтело уничтожало все национальные шедевры по всей необъятной стране. Как завещал Сергий Радонежский, на собственном примере Барановский, взяв свой объемистый саквояж с инструментами для обмеров, в костюме, ширина брюк которого напоминала чаплинский, в неизменной кепке, попросившись на какую-нибудь попутную подводу, ежедневно, из года в год, приближался к очередному храму или монастырю, который или собираются взорвать, или уже уничтоженному. Его сажали, он работал в лагере, организовывая там строительные отряды и спасая в окрестностях погибающие древности. После отсидки его селили за сто первый километр от Москвы, откуда он тайком каждый день ездил на объекты, которые у нас сейчас есть благодаря его подвигу: Казанский собор на Красной площади, храм Василия Блаженного, Крутицкое подворье, Коломенское. Его опять арестовывали, отпускали, он опять ехал реставрировать и обмерять. Замерзал, промокал, болел, не мог уговорить никого помочь, но не сдавался. Унижался перед Фурцевой, которая вела себя с великим ученым высокомерно, отказывая ему во всех просьбах. Благодаря Петру Дмитриевичу мы имеем возможность пройтись по Коломенскому, навестив домик Петра Первого, посетить Крутицы, завернуть в Спасо-Андроников монастырь, посмотреть мощнейшую коллекцию икон и многое, многое другое по всей оставшейся у нас территории и на территориях государств, отделившихся от Российской Федерации.
Громадный и уникальный архив его дочь передала в Музей архитектуры. Я хотел поставить Петру Дмитриевичу памятник в Коломенском за свой счет, но не нашел понимания.
Крёстные
Крещён я был в младенчестве в церкви на улице Неждановой. Кстати, лет через шестьдесят пять напротив этой церкви я установил памятник Ростроповичу. Нарекли меня Александром в честь Саши Соркина, одного из друзей моих родителей, которые, собравшись в тот вечер и, по рассказам, изрядно выпив, положили в шапку записки со своими именами. Я мог стать Марком, Наумом, Исааком и Юрием. Последний и стал моим крестным папой, будучи единственным православным из присутствующих. Это был легендарный в Москве Юра Нерода, или дядя Юра. Человек-праздник. У него было особое отношение к жизни и ко всему, что с ней связано. Являясь сыном успешного и востребованного скульптора Георгия Васильевича Нероды, седовласого джентльмена с благородными манерами и аристократической внешностью, Юрий был смолоду обласкан судьбой. Говорили, что Нерода-старший как-то на заседании прилюдно сказал Гришину, когда тот посмел повысить на него голос: «Вас когда-нибудь снимут, а я навсегда останусь русским скульптором». И вышел.
Пожалуй, крестный – единственный из знакомых мне людей умел извлекать блага из жизни в социалистическом обществе. Во время войны мечтал, что по ее окончании – если останется в живых – первым делом выкинет из матраца начинку и набъет его рафинадом. В немногочисленных ресторанах Москвы шестидесятых, которые по пальцам можно было пересчитать – «Метрополь», «Берлин», «Прага», «Советская» – бывший «Яр», конечно, «Пекин« с «Националем», – его появление производило фурор в рядах гардеробщиков, официантов и метрдотелей. Лично имел честь наблюдать это. Он частенько таскал крестника за собой на футбол, бокс, ипподром, где иногда проходили помимо бегов скачки, в которых победителем неизменно был великий жокей Николай Насибов на своем знаменитом Анилине, а зимой мотогонки по льду, легендой которых являлся Габдрахман Кадыров, гонщик из Башкирии. Дядя Юра, неизменно короткостриженый, бледный и немного трагически-печальный, модно и сдержанно одетый, сиживал в ресторанах за столами, накрытыми белыми крахмальными скатертями, подперев подбородок сильной скульптурной кистью, и иногда слегка улыбался бескровным ртом, глядя на меня. Как будто говорил глазами: «Что тебя ждет в этой жизни, Сашка?» Его необычное умное лицо мне очень нравилось. Столы ломились, официанты почтительно кланялись, перекинув крахмальную салфетку через черно-белое предплечье.
Он был новатором в скульптуре. Не уставал шокировать публику всякого рода экспериментами на московских и всесоюзных выставках. До сих пор помню его Гагарина из красной пластмассы, в котором с трудом можно было различить советского героя-космонавта. Его произведения нравились мне необычной пластикой. Он любил поражать собеседника нестандартностью суждений. Говорил: «Надо занимать побольше денег у всех. Когда умрешь, все равно уже не спросят». Довольно часто, бывая за границей, даже работая там и возвращаясь, делал определенные выводы и делился ими со мной, когда я подрос. Скажем, после поездки на очередной зарубежный аукцион искусств он убеждал всех в том, что имя художника порой куда важнее того, что тот делает. Это очень влияло на меня, тем более что я любил дядю Юру и старался ему подражать. Приезжая к нам в гости, он обычно сильно опаздывал и неизменно появлялся со своей свитой. Из свиты я выделял Ирку, его дочь, и Эдика, которого Юрий Георгиевич усыновил. Ира и Эдик были постарше меня лет на десять и являли собой совершенство, к которому я так стремился. Модные, взрослые, в красивых шмотках.
Дядя Юра обожал Вертинского, и когда под утро все гости, подустав от буги-вуги, фокстрота, еды и пьянства, просили его спеть, он проникновенно это делал. И, на мой взгляд, лучше автора. Хотя в кульминационных моментах мог и упасть. Его подхватывали, ставили на ноги, и он продолжал петь.
Но не только с ипподромом, стадионами и ресторанами знакомил меня крестный папа. Первый мой «обезьянник» случился тоже с ним. Точнее, в его компании. После бокса в «Крылышках», где проходило что-то типа первенства Москвы, он взял меня пообедать в знаменитую в то время шашлычную у Никитских Ворот. Дело прошлое, но таких вкусных шашлыков по-карски я больше за жизнь не пробовал нигде, даже в Грузии. Вскоре приехал Эдик с каким-то скромным парнем необычайной красоты. По крайней мере мне так показалось. Небольшая античная голова на накачанной шее, гармоничное телосложение, безукоризненная одежда. «Бывает же!» – подумал я с завистью. Мне было лет пятнадцать. Беседа шла ни о чем. Взрослые выпивали. Когда красавец вышел в уборную, Эдик сообщил мне, что это Логофет. Хоть я и не интересовался футболом, но имя Геннадия Логофета я знал: оно звучало из каждого утюга. Уважение мое выросло еще сильнее. Я, с гордостью посмотрев по сторонам, заметил, что вся шашлычная таращится на наш столик. Посидев еще какое-то время, Геннадий, откланявшись, ушел. Я был счастлив от того, что он мне как взрослому пожал руку. И даже сказал, что ему приятно познакомиться. Не помню точно, как это произошло, но, кажется, удалившийся в уборную десять минут назад дядя Юра вскоре появился из-за стеклянных дверей с обувной коробкой под мышкой, да еще и в компании двух милиционеров. Они его осторожно придерживали с обеих сторон. Помню, меня тогда удивило его поведение: оно было подчеркнуто спокойным. Мы с Эдуардом кинулись за ними. На их предложение проследовать в отделение крестный как бы нехотя их посылал, чуть ли не зевая. Эдик кипятился, говоря милиционерам: «Вы что! Это заслуженный художник СССР! С нами только что сидел Логофет». «Ну да, ну да, а Стрельцов с Яшиным случайно не заходили?» – саркастически ухмылялись менты. Забирали дядю Юру за то, что он в сортире у какого-то фарцовщика успел прикупить итальянские ботинки. Спекулянта тоже замели. Но по законам того времени покупающий был так же виновен, как и продавец. Да еще сопротивлением или словом крестный, видимо, успел вывести сотрудников из себя. Мы с Эдиком сели в милицейскую машину из солидарности и орали по дороге всякие глупости. По приезде в отделение, чтобы нас проучить, всех закрыли в «обезьяннике». Это было на улице Щусева, где мы с родителями в то время жили. От этого ситуация казалась мне еще трагичнее. Я представлял себе бабушку, маму, папу. Представлял, как они там будут без меня, даже не догадываясь о том, что я вообще-то неподалеку. Длилось это все минут двадцать, которые показались мне вечностью. Потом Эдик напомнил Нероде о дружбе с главным гаишником города, тот попросил телефон, набрал номер, дал раскалившуюся от мата трубку одному из привезших нас милиционеров, и нас быстренько отвезли к дяди-Юриной машине, припаркованной у шашлычной. Вместо извинения прозвучало: «Поосторожнее, граждане-художники».
Пустяк, с кем не бывало, скажете вы. Конечно пустяк. Но опыт был приобретен, и еще долго до следующих, не столь удачных, «обезьянников» я между делом упоминал в разговорах этот случай, сильно его приукрашивая. Сев в неродовскую «волгу», мы приехали опять на Щусева, но уже домой. «Ну ты, Рыжий, в своем амплуа, – сказал папа (папа всегда называл дядю Юру именно так, имея в виду Рыжий клоун). – Тебе необходимо все одновременно: и с футболистом дружить, и шашлык жрать, и ботинки итальянские скупать». Дядя Юра, спокойно улыбаясь и привычно подперев рукой подбородок, глядел на папу. Если не ошибаюсь, в итоге та беседа затянулась до утра – главным образом выясняли, кто кого уважает. Правда, я ушел спать, утром нужно было идти в школу.
Моей крестной согласилась быть Оля Барановская, дочь упомянутого выше великого подвижника Петра Дмитриевича. Как и моя родная мама, она была скульптором. Она еще работала начальницей на комбинате, в связи с чем у нее выработался властный, не терпящий возражений тон, и это с природным подчеркнуто тихим голосом. Все скульпторы без исключения боялись ее как огня. На меня, уже на взрослого, она тоже действовала как удав на кролика. Тетя Оля, так я называл ее с детства, была ближайшей подругой моей мамы. И только мама – одна из немногих – периодически в сердцах посылала ее на хер. А после этого тетя Оля звонила как ни в чем не бывало: «Сашенька, здравствуй, дружочек, позови маму». Мозг модницы тети Оли не отдыхал, она неустанно придумывала наряды с конкретными деталями, которые должно было искать и доставлять ей все ее окружение. Когда я вырос, она по телефону общалась примерно так: «Саша, здравствуй, тебе нигде не попадался серо-голубой сарафан в мелкую клетку? Если кто-нибудь будет продавать, купи мне, у меня сорок шестой. Да, еще помнишь, я отдала тебе папины галстуки-бабочки, когда тебе было лет десять. Так вот, один из них был темно-коричневый в мелкий светлый горошек, срочно верни мне его». Так весь дом начинал тщетные поиски. Гонцы ехали по комиссионкам и к знакомым фарцовщикам. Найдя нечто похожее, я ехал к тете Оле.
– Нет, Сашенька, это бордовый и горошек крупнее. Поищи еще, прошу тебя.
Я понуро покидал ее уютнейшую квартирку с потрясающими древними предметами и антикварной мебелью. Драматизм нарастал. Тетя Оля позванивала:
– Сашенька, не нашел? Ну поищи, он же не мог сквозь землю провалиться.
Я не решался ответить, что в десятилетнем возрасте мог его сразу выкинуть вместе с другими бабочками. По натуре я не стукач, но от безвыходности я обращался к маме, и она, когда раздавался очередной звонок, вырывала у меня трубку и страшным голосом орала в нее: «Ольга, … твою мать! Что ты привязалась к парню со своей сраной бабочкой?!»
Ни в чем не повинная трубка летела и билась об телефон. Подобные разговоры в среде творческой интеллигенции случались и были нормой. Тетя Оля поражала своей эрудицией. Она знала про древнерусское искусство и архитектуру все досконально. Ее дотошность в данном случае помогла ей стать недюжинным специалистом в этой области.
Свет или комфорт
Зa жизнь свою я сделал штук, наверное, двести станковых скульптур так называемой нетленки в разных материалах. Штук четыреста-пятьсот картинок и рисунков, больших и не очень. Наверное, штук сто памятников там и сям и только две больших скульптурных композиции: «Гладиатор» для Москвы и «Неманя» для Белграда – двадцать пять и двадцать два метра, не считая меча. Когда приступаешь к подобной работе, в размер сооружения, с первых шагов становится понятно – закончить ее невозможно. Скрываешь это от ребят-помощников, бывших учеников, хорохоришься, шутишь чаще, чем обычно. За день незаметно кладешь тонны глины. Ученики реально помогают, стараются, верят учителю – он же все может. У некоторых хорошо получается. Ближе к ночи неизбежно появляются малодушные мечты: упасть бы мордой в яму с глиной да полежать так тихонечко, но кто-то не дает. Положив кусок, тянешься за другим – как семечки, не оторвешься. Мятущийся гений, епрст! И так месяцами. Все труднее заставлять себя утром вставать. 3а окнами меняются сезоны. Жаль, родился не немцем или прибалтом каким-нибудь. Семь часофф – конец рабочий день, до завтра, тофарищи. Под четырнадцатиметровым потолком летом жарко невыносимо и душно, вентиляторы не справляются. Гнутый фонарь для правильного света над головой сделан из прозрачного пластика. Выбирай – или свет, или комфорт. Бойцы скульптурного братства выбирают свет. Тогда и нечего пытаться дышать. Часто в респираторе – привыкаешь. Тем более сухая глина, состоящая из микрочастиц, стоит облаком. Частые поливания и мокрые веники не помогают, да и с поливаниями надо быть поосторожнее – скользкая глина и высота – костей не соберешь.
Незабываемое впечатление от наслаждения творчеством усиливается еще и тем, что в руки периодически впиваются сантиметровые кусочки стальной ржавой тонкой проволоки. Бессменный технический директор и соратник Леня Петухов по доброте душевной дает взаймы глину нашим «друзьям». А возвращают они ее с разными вкраплениями и в разы уменьшившуюся. Успокаивает то, что глина обладает заживляющими свойствами, поэтому мы не обращаем внимания на порезы и уколы. А пашем, пашем и пашем.
Потом романтика бронзолитья. Печь гудит с надрывом, дрожит, раскаленный белый металл полился. Как будто другая планета – взметнулось под потолок облако черного дыма и поползло, затягивая все и медленно серея, почти ничего не видно. Невозможно продохнуть. Все ломанули на воздух. По всей линейке тихо дымятся куски ХТС18. Завтра посмотрим, пролилось или нет. Ребята как из преисподней, потемневшие, улыбаются белыми зубами и белками глаз – устали.
Глаз устал
Первый свой полноценный памятник – памятник Микешину для Смоленска – я лепил в заброшенной церкви на Старо-Рязанском направлении, где располагался какой-то скульптурный комбинат. Дикость? Но в те времена это было не худшее применение для разрушенных храмов.
Рядом создавался десятиметровый солдат для Новомосковска, если не ошибаюсь. Авторами его были Леонид Васильевич Присяжнюк, который преподавал у нас скульптуру на первом курсе, и опереточный персонаж с громоподобным голосом, знаменитый тем, что помогал Кибале – так все называли советского классика Александра Павловича Кибальникова. Помню, в моем детстве папа, разговаривая с кем-то по телефону, не хотел ехать к какой-то Кибале:
– Да он пристанет со своим уставшим глазом, напьешься с утра, не поеду.
Мне было интересно, и я спросил его:
– Кто это?
Он сказал тогда, что это неважно.
Много позже, когда мы жили на даче в Вельяминово, соседями по улице были Кибальниковы. Появлялся и сам классик. Глаз у него уставал хронически и, чтобы он отдохнул, нужно было бежать в сельпо на станцию, что я и делал регулярно из уважения к нему. Как-то мы послали четырехлетнего Филиппа к Кибальникову, чтобы он пригласил его к себе на детский день рождения. Мальчик быстро вернулся с выпученными глазами:
– Александр Палыч спрашивает, а жидкий хлеб будет?
– Будет, пусть не волнуется, – сказали все хором.
Но вернемся к глиняному солдату. Третьим был безотказный курносый парень, которого шпыняли и в хвост и в гриву. Скульпторы в силу возраста и опыта командовали снизу, а Ваня (так звали курносого) лазил по лесам с ведрами, наполненными глиной, лопатой, веревками, которыми он на каждом ярусе то привязывался, то отвязывался. Он был счастлив. Иногда создавалось впечатление, что роль нижних заключалась в том, чтобы не дать Ивану ни секунды покоя. Ор стоял непрекращающийся. Высокий и низкий голоса как бы соревновались в глупости:
– Освободи глазницы и поэкспрессивней скулы. И виски прямо с волосами, до каски. Да, да, да. Ещё срежь лопатой левую дельту сантиметров на пять. Ещё, ещё, стоп.
– Старииик! Возьми всё цельнее, обстучи всё колотушкой, ещё, ещё. Остааавь, старииик! Глаааз устааал! Слезай, обед. Час волка!
При чем тут волк? При том, что в те времена какой-то из генеральных секретарей, руководивших СССР, издал указ: продавать бухло с одиннадцати утра. А на Кукольном театре Образцова недавно установили нарядные цветные часы, на которых каждый новый час сопровождался выходом какого-нибудь зверя. Волк выходил ровно в одиннадцать. Так и повелось, что полноценная жизнь в СССР начиналась с выхода волка. А у настоящих скульпторов тем паче. Выражение «глаз устал» прозвучало для меня как старая, до слез знакомая мелодия.
Далее работа над статуей солдата проходила обычно так: Ваня шел в магазин за водкой и закуской. Все садились обедать в отдельную каморку. Звали и меня. Я отказывался, вежливо отшучиваясь. Уклонялся. Примерно через час звук голосов оттуда усиливался, слышалась какая-то возня, иногда раздавалось нестройное задушевное пение. Потом мастера выходили и учили меня лепить и жить.
Например, сам маэстро своим густым басом объяснял про форму колодок ботинок, полагая, что они были тогда, как сейчас: правые и левые. Я, помню, здорово обескуражил его, заявив, что в те времена их шили одинаковыми и только потом обладатель разнашивал один на правую, а второй на левую ногу. Он победоносно было хохотнул, взглядом призывая окружающих присоединиться к порицанию меня, но когда Присяжнюк утвердительно кивнул, маэстро хмыкнул и отошел, возмущенно бормоча.
«Микешин» мой катился к концу, как говаривал Михаил Афанасьевич в своем великом произведении о романе Мастера. «Солдат» стоял на месте. Вернее сказать, то, что стояло, только называлось солдатом, оно не было похоже на человека. Разве что количеством рук, ног, глаз…
Однажды, когда я на лесах совершал последние «единицы действия», приехал Кербель. Я слез поздороваться. Лев Ефимович приехал по просьбе Присяжнюка, чтобы помочь принять статую. Ее прокрутил Ваня, после чего Кербель в шутку замахнулся на авторов:
– Поубивал бы, шо за у…ще зробыли?! Ладно, Миша, – он всегда путал нас с Переяславцем, – давай подпишем, что мы принимаем. Ты же член худсовета, который должен это принимать.
– Член, – подтвердил я.
Откуда ни возьмись появилась бумага с хвалебными отзывами, относящимися к «шедевру», и два ФИО: Кербель Л. Е. и Рукавишников А. И. Лев Ефимович лихо подмахнул около своей фамилии и проникновенно посмотрел на меня. Я подписал. Дня через три я с советом приехал на автобусе смотреть «Солдата».
Иван прокрутил скульптуру. Въедливые члены просили крутить помедленнее. Бумага, подписанная нами, оказалась у председателя – тогда Ю. Г. Орехов. Он незамедлительно ознакомил с этой бумагой всех-всех. Все с ужасом посмотрели на меня. Покраснев до слез (я был молод и романтичен), я довольно неожиданно для себя вдруг прокричал:
– А что, у вас у всех любимого учителя что ль не было?!
Говорил мне кто-то, что «Солдата» установили в Новомосковске. Жаль местных жителей, конечно. Хотя жизнь не стоит на месте. Теперь это стало нормой. Такого великолепия полным-полно по всей Российской Федерации, не исключая столицы.
Учитель
Это он стоял у истоков создания Федерации каратэ СССР. Это он открыл первую в стране секцию каратэ, учредил Центральную школу этого вида спорта и организовал первый чемпионат СССР.
Алексей Штурмин – человек-легенда. Основатель нашей школы каратэ.
Когда в компании присутствует он, все остальные попадают в расфокус. Что-то есть в нем особенное, отличающее от других. Нудное и неряшливое слово «харизма» не подходит абсолютно. Наверное, это дух, соединенный с невероятным умом и добротой. Те же чувства возникали в присутствии Высоцкого: если он рядом, ловишь себя на том, что с идиотской улыбкой, приоткрыв рот, смотришь на него и не можешь отвести взгляд. Так герой Сергея Бодрова в фильме «Брат» смотрел на Бутусова. Кстати, Высоцкий и мой сенсей Алексей Штурмин дружили. Он-то и познакомил нас, бойцов своей школы, с Высоцким – за что громадная ему благодарность.
Paзбавленное крымское обильной пены не дало, а в «Мастере» на Патриках абрикосовая дала – вспомнил я начало из только что появившегося в журнале «Москва» романа. Пива мы заказали больше двадцати кружек. поэтому в каждой руке несли по две. Мы – это часть объединения зрелых тинейджеров с шутливым названием «трезвенники-интеллектуалы» и другая, сборная часть, прибившаяся к первой. Достаточно эксцентрично выглядящая по тем временам, объединенная любовью к брит-попу тех времен, «вяло антисоветски настроенная», нищеватая, но с замашками, обожающая загадочно-мистическое, недоступное логичным лохам, довольно жестокая в своем идиотизме группа товарищей. Дина Бродская, наша хиппующая богиня, «срубила» на набережной Судака длинного, напоминающего сенбернара неустойчивостью походки Ваню Лактионова. Где же генетический след в этом Лактионове от великого отца, думал я, сидя на тротуаре и глядя на него. Шумный «врун, болтун и хохотун», добрый, умный парень, взяв гитару, как-то плохо спел про каких-то лошадей, утонувших вместе с баржей. Всех возмутил, но слушали молча, и это после признанного рокера Хмелевского. Он понял, и чтобы реабилитироваться, вдруг сказал: «У меня товарищ – реальный гений дзюдо, тьфу, гений каратэ».
Каратистами у нас тогда были все, кроме меня – сейчас очень интересно вспомнить степень непосвященности ребят и их придумывания на эту тему: девяносто девять процентов рассказов и один процент показов. Я в тот момент уже занимался боксом.
«Богато бачили таких гениев», – произнес задумчиво, имитируя хохляцкий акцент и глядя на море, хорошенький светлоглазый Саша Костенко. «Без базара познакомлю всех, спорим еще на два пива. Все будем заниматься и станем мастерами». В итоге после этого разговора из всех на «Маяк» пришли только Ваня и я. В зале с крашенными зеленой краской полами появились люди, одетые в белые каратэги. Я зауважал Лактионова. Тренируюшихся было человек семь. Самый старший и значительный Тадеуш Касьянов оказался не главным. Сенсей – изящный журнальный красавец с аккуратной прической – мне сначала не понравился, но когда тренировка окончилась, я готов был на коленях ползти за ним на край света. Это был тогда никому еще не известный Алексей Штурмин. Ему было лет двадцать. Когда я в компании Вани с подобострастным выражением лица ждал во дворе его выхода и обдумывал, как принято здороваться с подобными людьми, он вышел и с улыбкой просто протянул нам руку. Эта метаморфоза, произошедшая с ним после отданных им же громоподобных команд и демонстрации безупречной техники, меня поразила. Примерно подобное случилось со мной, когда патриарх Алексий, впервые посетив мою мастерскую, не дал мне возможности продемонстрировать заученные просьбы о благословении и просто поздоровался за руку.
На следующей тренировке в школе появились два «красавца» с белыми поясами, в дзюдогах до колен, купленных в Военторге. Потом я ходил уже один, преисполненный романтических ощущений. Отличие от бокса со стороны было таково: раньше Рукав все время ходил с разбитой рожей, теперь хромой со сломанными руками. Как-то на очередном симпозиуме творческой молодежи девочки-балеринки спросили меня: а вы, наверное, пианист? Кисти обеих рук у меня были в гипсе. Учитывая то, что я вскоре поступил в Суриковский на факультет скульптуры, это было вовремя. Анализируя те времена, испытываю смешанное чувство. Например, все люди с узкими глазами вызывали гиперуважение. Никаких белых драчунов на экранах, кроме Бельмондо, не было. Фетиш иероглифов (вырезалось и клеилось все и везде), плакаты, книги и конечно же фильмы. Видики появились гораздо позже. Сколько времени теряли в очередях в клубы и подобные места, когда должно было что-нибудь демонстрироваться… Перепечатки самиздатовских дзен-буддистских книг остались со мной на всю жизнь. Чуть позже появилось великое Дао. Эти философские представления повлияли сильно на мое искусство и сейчас рикошетом влияют на моих учеников по скульптуре. Что еще выявилось в связи с каратэ, так это какое-то совершенно отличное от прежнего чувство друга, друзей, дружбы вообще. Полное отсутствие возможности реалистически оценивать ситуацию. Чувство опасности, страха – неоправданно исчезло. Не буду перечислять всякие случаи из «героической» юности, чтобы не показаться суперменом с недалеким умом. Но вот как ухитрялись оставаться живыми ребята из Центральной школы, участвовавшие в разных переделках, сейчас совершенно непонятно.
Возвращаясь к Штурмину, хочу сказать, что он был всегда спокоен, весел, приветлив, со вкусом одет. Никак его облик не вяжется с тем, что с ним сделали. За подвижническую жизнь человека не раз хотели уничтожить. Поясню для тех, кто не в курсе: в 1981 году партия решила поставить каратэ вне закона. И учредила соответствующую уголовную статью, после чего все школы позакрывали, а тренеры были вынуждены уйти в подполье.


