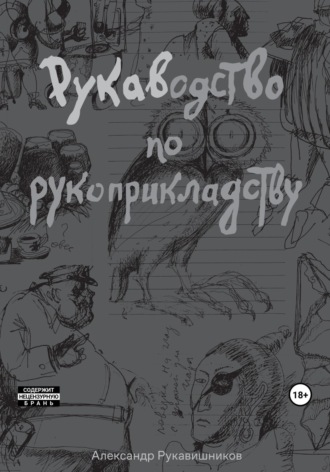
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Хорошо, что его с таким внутренним стержнем не удалось сломать, как ни пытались. О своих годах заключения он мне скупо, сдержанно рассказывал. Я просил написать, но он ограничился небольшой книжечкой стихов, объясняя тем, что чистую правду написать невозможно, а адаптированную – неинтересно. Я для этой книжки стихов рисовал иллюстрации, не переставая расспрашивать. И все полнее и полнее представлялся ужас случившегося. При этом Штурмин выглядит и ведет себя так, что можно подумать, что эти без малого девять лет он провел где-нибудь на островах, ловя рыбу и собирая гербарий.
Нужно понимать, какого масштаба дело ему удалось сделать. Он зажег огромную часть молодежи любовью к каратэ – к восьмидесятым единоборствами занимались уже порядка шести миллионов человек! Таким образом сделал из нас, советских людей, достойных граждан.
Говорят, с подачи Володи Винокура (респект ему) Учителя наградили государственным орденом Почёта, а японцы присвоили ему девятый дан. Слава богу, что в наши дни все это стало возможным. От себя скажу, я благодарен судьбе за то, что она подарила мне такого Учителя – такого друга. Мне хотелось написать то, чего не напишут другие, чтобы не повторяться. Несколько ироничный тон продиктован тем, что недолюбливаю ложный пафос. Штурмин навсегда остался моим Учителем и другом. За это я благодарю Ваню Лактионова, который давно ушел от нас, царство ему небесное. И еще я благодарен судьбе, что она дала мне мощнейший, нерушимый, как океан, тыл.
И как часто бывает в дзен-буддистских легендах, после этого знакомства мне открылась еще одна ступень просветления, толчок – дверь унылой анфилады однообразной и тупой советской жизни с агиткой распахнулась, потянуло апрельским морским воздухом, открылись простирающиеся в сумерках поля с редкими огоньками на горизонте, и не сразу, а по одному формировались и с прошествием времени постепенно поднимались фигуры вновь приобретенных братьев-воинов. Сергей Шаповалов – гений обитания в воздухе. Возможно, никто в мире не был близок к тому, что умеет он. Виталий Пак – фарфоровой красоты и изящества мастер с армией корейских товарищей, каждый из которых явление: Шин, Хан, Кан. Люди очень трогательно и тонко организованные. Коварный весельчак Саша Костенко. Саша Иншаков – благородный мастер, справедливый Робин Гуд, не забывающий о себе. Сдержанный и немногословный трудяга Гена Антонов с кулаками терминатора, не знающими усталости. Володя Томилов – античный Дорифор, защищающий своих учеников от всякого рода невзгод, обладающий поистине страшной скоростью удара. Великий и ужасный Юра Кутырев, взгляда которого бывает достаточно, чтобы сами собой решались все разногласия между сторонами. Хотелось бы продолжать этот список, но это надолго.
Большая языческая богиня
Лет с шестнадцати я все время рисовал придуманную, как мне казалось, девушку. Как вдруг она явилась мне в реальности. У нее было мужское древнеримское имя Инна. Они с одним моим товарищем заехали ко мне в мастерскую. Я тогда разбирал чемодан, только что вернувшись из Сеула, где в императорском парке сделал большой, около десяти метров в длину, гранитный торс лежащей беременной женщины, как бы возникающей из скал. Приближалась ночь, в холодильнике было пусто, и я предложил им кофе. Встреча оказалась мимолетной и случайной, но впоследствии перевернула мою жизнь. Помню первое впечатление, когда они вошли и я увидел её: фантастическая фигура, прямо как у меня в рисунках. Плечи высокие и широкие, узкий таз и, главное, голова с узким лицом и слегка горбатым носом, правильно сидящая на шее. Вытянутые глаза с зеленой радужной оболочкой и опущенными книзу слезниками смотрят спокойно, изучающе, без эмоций. Так смотрят большие уверенные в себе звери кошачьей породы. Подумалось тогда: «Какая индифферентно самостоятельная, вежливая, но холодная и молодая. На фига я ей?»
После длительных перелетов я клевал носом. Мое возвращение пришлось на время, когда СССР вроде бы случайно сбил корейский пассажирский самолет, и они перестали летать над нашей территорией. Поэтому мне пришлось лететь обратно через Аляску и Париж. Вежливые полуночники, увидев скульптора засыпающим, вскоре ушли. Зевнув и подумав: «Не судьба», я завалился спать. Прошло больше года. Затем я случайно оказался в нашей галерее «Марс», уже не помню, по какому делу. Там я обратил внимание на двух девушек, отбирающих картинки. В одной из них я узнал ночную гостью, ту самую материализовавшуюся мою модель. Подошел. Ни к чему не обязывающий московский разговор. Ла-ла-ла, туда-сюда. Ну пока. «Помогите барышням выбрать приличные картинки и сделайте скидку!» – крикнул я, уходя, продавщице нашего салона. Не знаю, сколько бы еще продолжалась эта тягомотина, пока я не додумался до хитроумного трюка. Решив использовать преимущества своей профессии и не без труда найдя ее телефон, я попросил мне попозировать для «Большой языческой богини». Она согласилась. Мне показалось тогда, будто она ждала чего-то подобного. Работая над «Богиней», мы узнали друг друга получше. «Богиня» получилась похожей на рисунки и скульптуры, сделанные мною раньше. Двадцать лет спустя, зимой 2013 года, у меня была выставке в MMOMA на Гоголевском бульваре. Когда она монтировалась, мы с Инной пришли туда, и я представил ее кураторам и искусствоведам. Они заcмеялись и сказали: «А мы давно знакомы, вот же она выглядывает из каждого произведения».
Она работала в Московском онкологическом центре врачом. Эмоционально тяжелая профессия. Ее коллеги, с частью из которых Инка меня познакомила, позже рассказывали, что поначалу приняли меня за бандита. То ли слухи обо мне сделали свое, то ли брутальная тогда внешность. На защите ее кандидатской один доктор, встретив в коридоре приятеля, доверительно сообщил ему: «Там Рукавишников». – «Да ты что? Никого еще там не заколбасил?»
Хорошее медицинское образование и воистину ведьминское чутье сделали ее недюжинным диагностом, что потом не раз спасало стареющего скульптора от неприятностей со здоровьем.
Спустя время у нас родилась дочка Наташа, щекастая положительная красавица. Рассудительная, в домашних тапочках и кофтах с оленями, с полными карманами конфет и сушек, привнесла в мою и так счастливую жизнь особый уют и любовь. Мы старались быть хорошими родителями, таскали ее везде по разным странам, жили в деревне в окружении животных, катались на всем, на чем можно, – лодки, велосипеды, лошади. Читали книжки и обсуждали шедевры мировой литературы, живописи и музыки. Я, помню, даже подарил ей пятилетней Пончика – белого с черными пятнами и разными по цвету глазами злобного пони, тоже пяти лет от роду. Кстати, интересно, что пони бывают очень злыми. Может быть, в связи с малым ростом. Их даже используют для охраны территорий. Пончика привезли поздно зимним вечером на «газели», так как не нашли коневозки, примотали его через одеяло и толстый поролон скотчем к борту. Когда его освободили, Пончик благодарно заржал. Может быть, по дороге думал, что станет колбасой?
Наташка, конечно, сначала онемела от восторга. А потом они стали, что называется, не разлей вода. Какая это была трагедия, когда с приближением ночи надо было разлучаться!
С возрастом менялся размер лошадей. Как-то незаметно дочь закончила журфак МГУ. А после универа, как случается в мыльных операх, свалила в столицу Великобритании – доучиваться искусству графического дизайна и ещё каким-то современным штуковинам. А мы с её мамой и псом Карлом очень скучаем по ней.
Фрэнк Заппа
Как-то раз мой детский товарищ Стас Намин, отличный, кстати, живописец при всех его основных талантах, очень глубокий, интересный человек, пассионарий, ещё в том веке познакомил меня с великим Заппой, попросив показать ему «художническую» Москву. Фрэнк приехал с двумя операторами, чтобы снять фильм о Стасе, его центре и о советской неформальной тусовке. Я взял с собой любимую подругу – модняцкую красавицу Инку, и мы втроем покатили по трущобным мастерским, где люди жили коммуной в выселенных домах, по подпольным клубам, по притонам и жутким стоячим пивным, наполненным сомнительными людьми. Чтобы соблюсти контраст, мы водили его и в респектабельные рестораны, и в Большой театр, и в консерваторию, а потом опять ипподром, три вокзала, Мытищи. Пили водку на подмосковных заплеванных и заблеванных перронах, занюхивая рукавом. Захмелев, Фрэнк хватал Инку за жопу, в связи с чем она была очень горда, а я ржал над этим как сивый мерин. Есть по-русски он не мог и частенько умолял бросить его, как просит раненый солдат в бою, показывая двумя пальцами на горло. Одевался он будто аккуратный бомж и был в экстазе от того, что его почти никто не узнает. Но там, где люди были предупреждены, что приведем Заппу, выстраивалась очередь с дисками и пластинками за автографом. Он безропотно всем подписывал черным фломастером. В это время у меня в мастерской жили два грузинских художника – Отар и Бесо. После очередного знакомства с московскими трущобами мы с Фрэнком Заппой как-то заявились в мастерскую. Бесо, который был не только художником, но и играл рок-н-ролл, когда увидел Звезду, потерял дар речи и с излишним панибратством прицепился к нему, чтобы тот послушал записи их тбилисской группы. Мне было очень интересно увидеть поведение Фрэнка. Он ни в какую не соглашался, объяснял, что сейчас у него в Москве другая миссия, он снимает фильм. Длилось это довольно долго, но он не поддался на уговоры. Я понял, что бываю неправ, соглашаясь посмотреть чьи-либо произведения. Об этом здорово написано у Довлатова в рассказе «Жизнь коротка».
«У вас такая великая музыка, такие корни», – хватаясь за голову сокрушался Заппа, – а вы в хвосте за нашими плететесь, которые у ваших предков и воруют, да и их-то догнать не можете. Если, например, нужны деньги, нужно написать хит! Приходится делать медляк про любовь. А я хочу написать песню про сельдерей. Хита не получится, не поймут. People are idiots». "The same situation with sculpture", – с сожалением поддакивал я. Действительно, по гамбургскому счету, в скульптуре разбираются очень немногие.
Двое из ларца
Московское лето. Жара. Дважды коротко бибикаю у нашей мастерской. Помощник Юрка открывает ворота: никаких дистанционных пультов еще нет и в помине. С восторгом сообщает мне в открытое окно машины: «Только что были Шаповалов и Пак. Пошли в Дом книги, обещали еще зайти». Юрка тоже занимается каратэ, у какого-то из учеников Пака. Они для него мафия, боги. Я, раздевшись по пояс, лезу на леса: доделывать «Достоевского». Вчера ученики помогали, сегодня я один.
Фигура стоит в садике перед мастерской, на открытом воздухе. Так глина хоть и сохнет быстрее, зато свет там такой, какой будет на скульптуре всегда – а это важно. Пока лезу на леса, вспоминаю ситуацию, случившуюся на днях. Работал себе спокойно, как вдруг подъезжает грязная BMW. Из нее вылезает мой патинировщик Саша с незнакомыми ребятами. Матерясь про себя (отвлекают!), слезаю знакомиться – все-таки я хозяин. Пожав всем руки, представляюсь спокойно, улыбчиво: «Саша». И тут замечаю, что у патинировщика что-то странное с рожей – нос распух и кровь под ним запеклась. Тут он начинает мямлить про то, что в них въехал и что теперь денег должен и все такое. В итоге все вышло само собой. Когда один из приехавших вытащил из-за спины бейсбольную металлическую биту, он сразу же получил ею же по заднице. После чего бита, честное слово, сама оказалась у меня в руках (потом она еще много лет валялась в мастерской). Ну а потом едва задел ногой второго, легонько так, и он живенько удрал. Третий в панике рванул к забору, вопя: «Убивают!», и с удивительной легкостью перевалился через ограду. Видимо реагируя на мои специальные звуки, которые я в стертой форме успел продемонстрировать для убедительности. Удивительно, но это всегда действует на неподготовленных. Даже очень умелые от природы и опытные драчуны на долю секунды остолбеневают. А этой доли хватает. Тот, что получил своей же битой, злобно скалясь из-за калитки, обещал, что «приедут старшие» и тогда я «буду раскаиваться». Я от такой угрозы чуть не помер со страха. А потом объяснил патинировщику, что раскрывать локацию дома кому ни попадя – затея сомнительная.
Стал объясним сегодняшний визит «двоих из ларца», книголюбов. Кто-то уже им, видать, успел настучать.
– Юр, а кто ребятам мог сказать про инцидент?
– Я Исаеву только сказал, – пробурчал Юрка, потупив взгляд.
Исаев – один из бойцов нашей школы, ныне священник.
– Ты б лучше на работу ходил каждый день, а не стучал. Меня позавчера убить могли вообще-то.
Тут раздался смех у калитки, и во двор ввалились родные рожи.
– Чего ржем? – спрашиваю.
Выяснилось, что этих двух легендарных мастеров боевых искусств какой-то смелый книгочей – посетитель магазина, взяв обоих за шиворот, выкинул на улицу. За что, уж и не помню. Помню, что «даже не бил».
– Какой молодец, хоть одним глазком взглянуть бы на него, – восхитился я.
– Да, здоровенький такой мужичок был, похож на работягу. Мы даже не пикнули, – заметил Пак.
«До какой степени мастерства надо дойти, чтобы так благородно поступить с незнакомым человеком», – подумал я.
Чтобы ночами не подвергать мастерскую риску, было решено заселить туда кого-нибудь. Шаповалов решил посадить туда двоих из своих товарищей. Где-то через час с небольшим они подъехали на убитом оранжевом «жигуле» и, бросив его чуть ли не открытым за забором, вошли в калитку, обвешанные целлофановыми пакетами в Микки Маусах и Дональдах Даках. Когда я увидел их, я сам почувствовал себя Микки Маусом, и предательский холодок пополз у меня по спине. По всему, особенно по глазам, чувствовалось: это мужчины с биографией. Что было у них в пакетах, мне неизвестно до сих пор. Наверное конфеты. Мне стало жаль «старших», которые могли подъехать на разборку. Может быть, еще не приедут, может, набакланила молодежь. Сергей конструктивно отдал им распоряжения, представил им Юрку, и мы свалили восвояси поесть. Юрка, оставшийся с ребятами, потом восхищался их аккуратностью и деликатностью. Обычно вечерами, после того как я уходил, отработав, они периодически звонили мне с докладами: «Александр, все спокойно, вам звонили такие-то и такие-то».
В субботу, то есть дня через три, появились «старшие». Я, как водится, был на лесах. Они приехали с одним из успевших смыться. Это были средней руки бандиты, типа из Железнодорожного или еще откуда-то. Раза в полтора постарше первых. Они приехали, чтобы проверить, нельзя ли тут чем-нибудь поживиться. Спрыгнув, на этот раз я без рукопожатий наехал на них: чего, мол, детей каких-то на разборки присылаете. Бандиты начали было оправдываться, а потом, когда по очереди появились шаповаловские ребята, как это часто бывает, один из бандитов узнал их и стал вежливо лебезить: нашлись общие знакомые.
В итоге пили чай с вареньем из крыжовника под глиняным Федором Михайловичем. Бандиты эти частенько стали появляться у меня в мастерской и даже выполняли какие-то безобидные поручения. Дружба с ними длится и по сей день. Теперь, правда, заматерели, обросли шерстью и обзавелись «бентли». А эпизод я этот вспомнил вот к чему: «лихие девяностые», да и вообще все последующие, прошли для меня спокойно. С такими друзьями, как Серега, Виталий и всеми остальными, я был как за каменной стеной.
Школа
В отрочестве из книг про художников мне очень нравились тогда книжки про творчество Франца фон Штука, сомнительного вкуса австрийского символиста начала двадцатого века, и про Карла Миллеса, шведского скульптора того же времени, замечательного мастера, создавшего свой неподражаемый стиль. Еще вернемся к нему, мой читатель.
В то время я страдал одним недугом: мне хотелось посвятить всех друзей в свою любовь, и я их мучил, показывая им эти книжки. В основном все терпели, наверное из уважения к необычной обстановке. Правда, некоторые будущие художники, например Гена Павлов, открывали там для себя новые имена, что мне казалось удивительным. Он жил неподалеку на Малой Бронной с мамой и кошкой, в большой полутемной коммунальной квартире. Гена, безусловно, являлся моим кумиром. Был старше меня ровно на два года, дни рождения в один день. Писал как бог свои примитивы про наши переулки. Был не от мира сего – настоящий художник. Не обращал никакого внимания на одежду, не то что другие. Занимался боксом у Льва Марковича Сегаловича в «Труде». Он научился брать руками в краске одежду, не пачкая ее, – указательным и средним пальцами. Еще у него был сосед Василий Ситников, только другой, тоже интересный художник. Генка общался со мной немного свысока долгие годы, как мне казалось, а я молился на него тогда. Прошло пятьдесят лет, а кажется, что пятьсот – столько исследовано, познано, сделано. Он звонил мне неделю назад, справлялся о здоровье, сказал, что давно написал мой портрет и хочет мне его подарить: «Может, повесишь куда-нибудь, если тебе он понравится». – «Спасибо, – говорю. – Я тоже сделаю твой скульптурный портрет. Сделаю для проекта „Воины“, он выразительный».
Еще одним нашим товарищем в те далекие времена был Русик, Саша Русишвили. Он знал всю шпану нашего района, благодаря ему меня лупили не так часто. Позже Русик стал гинекологом и славился тем, что после его абортов рождались прекрасные двойни. Мой товарищ, который мне много помогал, Витя Колосов, до сих пор благодарит его за сыновей.
После восьмого класса нас с Русиком вышибли из «двадцатки», элитарной в то время английской спецшколы, за неуспеваемость и поведение. Надо сказать, что учеником я был, мягко говоря, не самым лучшим. Много времени проводил за дверью. Там мне становилось лучше, легче дышать, как Ихтиандру под водой. Всегда было неприятно возвращаться домой из-за бабушки, которая с порога с надеждой спрашивала, что я получил. Что я мог ответить? Три кола и две двойки, примерно так.
Как следствие этого, мы благополучно поступили в школу рабочей молодежи в девятый класс, и в ночь на первое сентября, взяв с собой ведро черной фасадной краски и лестницу, нарисовали на подновленной желтой штукатурке двадцатой школы шестиметровый летящий пенис с крыльями над входом как символ прощания. А утром стали наблюдать с Сашкиного балкона за происходящим праздником знаний. Надо сказать, что ряды членов Политбюро, которые привели внучат, и их домработницы оказались к этому не готовы и дрогнули, не говоря уж про директора Антона Петровича, двойника Хрущева, который, увидев наш артефакт и осознав его, присел и просто завертелся на месте в своей светло-серенькой синтетической шляпочке. Да, я уверен: время драгоценное, которое можно было бы провести так интересно, тратилось напрасно в этой квинтэссенции идиотизма, вони, плебейства и безвкусицы.
В школе рабочей молодежи мы впервые за школьные годы вздохнули свободно, учителями там работали хорошие люди, к которым было достаточно приходить на занятия трезвым и здороваться, чтобы получать приличные отметки. Работать меня устроили к тете Насте, любовнице нашего придворного форматора Васи Кавыкова, зеленоглазой симпатичной женщине лет сорока. Дядя Вася отличался от других формовщиков тем, что после него оставалась идеальная чистота в мастерской, да и сам он выглядел как лорд, неустанно рыща по ЦУМам и ГУМам и скупая там финские и гэдээровские костюмы, ботинки, куртки и еще всякую дребедень. И когда он в очередной обновке появлялся у нас с непростым от гордости лицом, моя мама всегда делала ему комплименты: «Ну ты, Васька, самый элегантный мужик!» Это, конечно, ему импонировало.
Так вот тетя Настя, которая взяла меня на работу, была начальником комбината, который располагался, если не ошибаюсь, на улице Гиляровского, где делали «Лениных» из мастики (папье-маше). Я работал младшим форматором, но формовать так и не научился. Да и как можно научиться на одинаковых, лысых, сомнительного качества бюстах. Тетя Настя была очаровательная русская простая и по-своему красивая дама. Относилась ко мне по-доброму, закрывала план. Они с Васей очень гордились дружбой с моими родителями. Кстати, должен сказать, что она, то есть дружба, была искренняя с обеих сторон. Но ходить на работу мне все же не нравилось. Вонь от столярного клея, который делался, как известно, из костей, женщины разного возраста с шутками-прибаутками, однообразие манипуляций – все это укрепило желание стать скульптором и никогда не работать. Скульптура же не работа, а бесконечная вселенная счастья. Надо только поймать и осознать этот драйв. Да, надо не забыть и потом рассказать вам забавную историю про столярный клей и таможенников Копенгагена. Даже две занятные истории связаны у меня с этим чудесным городом. Но об этом позже, а пока продолжим об отрочестве.
Как известно, в юности гипердружба превыше всего, до кома в горле, до слез, до самопожертвования. За свои принципы, за свою музыку, за своих кумиров мы могли растерзать кого угодно. После седьмого класса пришло много интересных ребят: например, Леня Володарский, известный всей стране своими переводами видеофильмов с особенностями ухо-горло-носового произношения, Леня Терлицкий, обладающий абсолютным слухом. Среди нас всех выделялся небольшого роста симпатичный ладный паренек со светло-серыми глазами и пшеничными волосами – Сергей Хмелевский, который подсадил всех нас на британский поп и рок. Он приносил, доставая откуда-то, новые пластинки, сам сочинял музыку. Он открыл для меня Рахманинова, я услышал Роберта Фриппа и полюбил его навсегда. Музыка сильнейшим стержнем вошла в нашу жизнь. Это объясняет появление позже моих «Леннонов», «Рода Стюарта», «Стинга» и «Кита Ричардса», «Эми Уайнхаус». Володя Микоян по кличке Микки Джан, Паша, внук легендарного непотопляемого Анастаса Ивановича. Будущий архитектор и вообще незаурядный Андрей Родионов и скульптор Юра Орехов учились в других школах. Я познакомил их со своими «интеллектуалами». Таким образом сколотилась, группировка «трезвенников-интеллектуалов» расширенного формата. О названии. Почему? По кочану. Ни трезвенниками, ни интеллектуалами мы на самом деле, конечно же, не являлись, а являлись скорее раздолбаями.
Забыл главного, можно сказать, идеолога группировки: Юру Селиверстова по кличке Барс. Это был очень душевный умный малый. Позже работал на Московском ипподроме жокеем и берейтором, а заодно и конюхом. Жил в конюшне, мы часто посещали его там, оставались ночевать, выпивали, слушали рассказы жокеев о бегах и скачках. С удовольствием вспоминаю эти времена: глядя на Барса, становилось понятно, как нужно жить – никакой карьеры, реальная свобода, естественность. Юра прожил короткую, простую и честную жизнь. В одном с ним не могу согласиться. «Лошади же глупые», – часто говаривал он с улыбочкой, желая меня позлить. «Но интуитивные и красивые, в отличие от тебя», – парировал я. Кстати, интересно, что благодаря этому шутливому тону «трезвенники» не могли поссориться. Внешне он напоминал Кевина Костнера – вполне ничего. Сам Барс, несмотря на принятый в их конюшне скептицизм, конечно, любил лошадей, особенно свою фаворитку Нюшу. Однажды они вместе выиграли какой-то серьезный по советским меркам приз. В конюшне собралось пол-ипподрома и интеллектуалы тут как тут. Пили только советское шампанское и только из ведер, такая традиция. Люди пытались угнаться за лошадьми и вскоре начали падать плашмя. Их аккуратно складывали на диваны, тахту в жокейской, потом, помню, кто-то расстелил газеты, на них куртки и пальто, и стали класть людей сверху. Я поинтересовался у Барса: «Зачем газеты?» – «Чтобы куртками пол не испачкать». Заботливое отношение к своим товарищам мне очень понравилось, и лошадники стали еще милее.
Лошади
Совсем не в том дело, что она полезна. Без изображения лошади всемирное искусство было бы ущербно. Трудно вообразить, сколько шедевров в мировом искусстве всех времен связано с лошадью. Лошадь – одно из составляющих счастья. Не зря кто-то из великих сказал: «Счастье – это когда ты отражаешься в зрачке у лошади и она считает тебя своим». Я и сам проверял, это так.
Знаете, бывает такое состояние внутренней раздерганности, когда все валится из рук. Но вот зайдешь в денник и услышишь сразу теплое дыхание преданного тебе большого, совершенного по форме существа, радостное ржание, почувствуешь внимательный, спокойный и доверчивый взгляд. И всей этой чуши как не бывало, даже стыдно. Еще лошади обладают какой-то совершенно загадочной, мистической интуицией, в отличие от нас. В общем, думаю, не повезло тем, кому не довелось общаться с лошадью. Лошади бывают совсем разными: добронравными, покладистыми, генетически необидчивыми, несмотря на то что их часто бьют и мучают маленькие, глупые, назойливые, жестокие существа. А бывают, наоборот, злыми и злопамятными. А помнить есть что: иной раз хозяева их почти совсем не кормят из-за своей жадности. Сам видел в разных городах, как катательных лошадок прикрывают попонами в страшную жару, чтобы скрыть тот позорный факт, что от тела там остались только голова и хвост, остальное – скелет. А лошади, работавшие раньше в шахтах, у которых вечно завязаны глаза, даже на поверхности, чтобы дневной свет не ослепил их. Слава богу, что теперь воюют без лошадей. А сколько те натерпелись во время многовековой истории войн. Соревнуясь в беге и скачках, человечки во имя победы готовы загнать насмерть своего «друга». И уж лучше не говорить, что происходит в случае поражения. Так и случается, что совершенное, красивое и тонко организованное существо выбивается из последних сил, чтобы угодить дураку-хозяину. Неудивительно, что у нас в стране загублены фантастические породы, которые селекционировались десятилетиями.
Девочка привела полуголодного рыжего жеребенка:
– Они хотят убить его и пустить на колбасу.
У него еще миндалевидные, пока не лошадиные глазки.
– Как зовут?
– Гаврюшей.
Оставили.
Через месяц, когда ходил гулять с собаками, без него не случался уже ни один моцион. Рыжее чудо с розовым носом. Красавец жеребец.
Как-то дождливой ноябрьской ночью я услышал глухие удары копыт по бревнам денника. В светящемся окошке конюшни металась тень. Набросил на себя первое попавшееся, выбежал из дома и, скользя по осенней грязи, полетел в конюшню. За закрытой дверью денника стоял нанятый мною на днях работник «из» Украины, как говорят теперь. Пьяный, с бичом в руке. Спазм перехватил мне горло, чего давно не случалось…
Обычно просто превращаешься в бронзового бойца или еще в кого-нибудь. Кстати, это не подразумевает неизбежного «рукоприкладства». Я сдержался, все закончилось хорошо (он остался жив), но больше у меня не работал. Интересно другое – что в голове вместо мозгов у этого «как бы»? Про душу и вспоминать нет смысла. Когда мы с берейтором Викой покупали Хитона на 1-м конезаводе в поселке Горки-10, ему было года три. Продавшие нам его юноши и девушки – спортсмены – сказали, что оголовье мы на него никогда не наденем без губовертки19. И да, действительно, около полутора лет нам приходилось применять изуверское изобретение. Как только к нему подходили с уздечкой, рослый гнедой красавец тракененской20 породы начинал волноваться, драть голову вверх, свечить. Но ласка и спокойствие сделали свое дело: сейчас о губовертке мы даже не вспоминаем. А еще эти «спортсмены» били его по голове. Надо бы заскочить к ним и, заглянув в глаза, сообщить о том, что они были неправы: Хитон спокойно дает надеть на себя оголовье.
Что до скульптуры лошадей, то перед ее созданием важно определить задачу. Дабы не изобретать велосипед, сначала надо изучить все виды изображения лошадей – Ассирия, арабские миниатюры, Древний Рим, Египет, Древний Китай, лошади эпохи Возрождения, византийская иконопись, натуралистические американские скульптуры, памятники Джамболоньи, полотна Жерико и многие, многие другие. Если лошадь Клодта – это лошадь, максимально приближенная по анатомии к настоящей, то статуи Верроккьо и Донателло, известные многим по Пушкинскому музею, скорее похожи на танки. Это придуманные самоходные организмы. Например, творчество Марино Марини в основном построено на изображении всадника. Заметьте, мастер умышленно не обращается к анатомии. Он намеренно отвергает ее. Его интересуют чувство тяжести, сбалансированная асимметрия, объем как таковой. Получается не копирование лошади, а ощущение, будто находишься рядом с ней и слышишь ее дыхание. Пример этот, разработанный и приведенный им на отдельно взятом союзе «лошадь – человек», думаю, может распространяться на все, что нам хочется или предстоит изобразить. Главное – определить задачу.
Высоцкий
Как я уже говорил, с Высоцким меня свел Учитель. Они дружили. Владимир, или как его сейчас называют Владимир Семеныч, приходил к нам порой на тренировки. Нет, с нами он не тренировался, но помню один его широкий поступок: как-то из поездки в Париж привез нам два громадных баула с дефицитными защитами и шлемами. И даже гонг, как я помню. Представляете? Тащить из-за границы две огромные сумки каким-то малознакомым балбесам. Конечно, он в те времена обладал бешеной популярностью: все хотели с ним общаться, но я старался особо не лезть – из деликатности. При встрече мы не раз договаривались, что я его слеплю. Мне очень нравилась умная, спокойная мужественность его лица.
Как-то раз у нас была так называемая «показуха», которую мы устраивали в Театре на Малой Бронной. Руководивший им тогда Лев Дуров, тоже друживший с нашей школой каратэ и болевший боевыми искусствами, решил устроить такое показательное выступление для артистов театра. Представление шло хорошо, у нас такие «показухи» были отрепетированы, участвовали только лучшие бойцы. Но вдруг в момент своего выступления (я не только участвовал, но и вел все это действие) я явно почувствовал, как потерял контакт с залом. Ощущение было, будто случилось землетрясение или война. Оказалось, что это появился Высоцкий. Популярность его может характеризоваться вот этим случаем. Ну пришел человек, пусть даже и известный, но все, что происходило на сцене, всем стало вдруг неинтересно. Мы закончили «показуху», но так, без особого энтузиазма, включили свет. Он вышел на сцену, всех поприветствовал, даже комплименты сказал про всех про нас. А потом добавил что-то вроде: «Да, ребята, конечно, молодцы, но их всех выучил гениальный человек – Алексей Штурмин. Он бы и сам мог выступить, но простудился, поэтому сейчас в зале».
Ну да мы не в обиде.
С Ниной Максимовной и Семеном Владимировичем – родителями Владимира Высоцкого – меня познакомил тоже Штурмин. Кажется, дело было в 1981-м. Я, помня о нашей с Володей договоренности, что сделаю его скульптурный портрет с натуры, вырезал из мрамора полуфигуру и выставил ее в Манеже на какой-то серьезной выставке.


