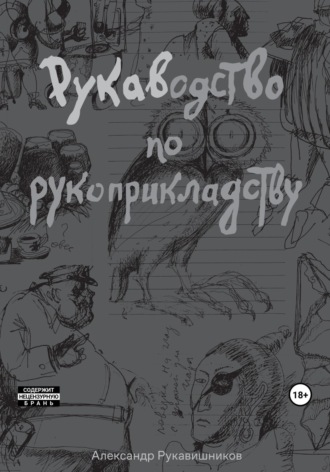
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Граф
Блаженны медлительные, но не суетливые,
ибо они ощущают течение вечности.
С. Соколов
Принадлежал ли наш Саша к прославленному роду графов Воронцовых на самом деле, неизвестно. Просто все были в этом уверены. Когда его расспрашивали, он только грустно улыбался и молчал.
По институту ходила вырванная откуда-то страница, на которой был различим офорт медальона с каким-то Воронцовым в профиль, одетым в колпак типа фески с кисточкой, с горбатым носом, очень похожим на Сашкин. На вопрос: «А почему вы считаете, что этот мужик граф?» никто внятно ответить не мог, но поведением Саша незаметно, но сильно отличался от всех нас. Он был по-настоящему остроумен и восприимчив к смешному, но при этом неизменно отмечен какой-то печалью – то ли потому, что его отец Володя Воронцов, скульптор, один из родительской тусовки, покончил с собой, то ли от всеобъемлющего социалистического оптимизма, который бушевал вокруг. Надо заметить, что мы в те времена были частенько чрезмерно веселы. Бравада, что ли, такая? Типа: мы живем в г…е, но нам до фонаря. Оказываясь в нашей компании, Лин фон Хаммерсхейм, фрейлина двора Датского королевства с безупречно прямой спиной, наклонялась к моему уху и шепотом спрашивала по-английски: «Почему твои друзья все такие неестественные?» Тогда я не понимал, в чем она видела неестественность. Теперь, вспоминая повадки друзей, понимаю, что вопрос был уместен. Кто глотал монеты и задыхался от этого, кто на четвереньках гонялся по квартире за хозяйской собакой, лая и пытаясь ухватить ее зубами за задницу? Одна великая актриса на элитных раутах, когда ее начинали раздражать окружающие и изрядно выпив, задирала юбку на голову, как бы отгораживаясь ото всех. Один товарищ с лицом херувима был не прочь уничтожить элиту советского кино, пытаясь расправиться с ней физически, раз и навсегда. Саше Воронцову были чужды подобные забавы, он полировал фирменными средствами свою терракотово-оранжевую «ниву» и стрелял из лука, рассказывая про всякие подвиги, связанные с этим занятием. Кстати, врал он божественно, получше пресловутого барона Мюнхгаузена.
В те счастливые времена наши товарищи, архитекторы Худяков, Шапин и Сережа Шаров, частенько получали госзаказы на создание Музеев Ленина по всей стране. Коробки проектировали другие архитекторы, а они самовыражались в интерьерах. Кстати, получалось это у них реально замечательно. Применялись самые последние на тот момент технологии. Фрич, всемирно известный чех, наш товарищ, наполнял пространство японской начинкой: Dolby Surround погремушками, всякого рода панорамными видеоэкранами. Живописцы писали, а мы лепили горбатого, точнее, чего требовалось. Надо заметить, что решения каждый раз были новые и далеко не ординарные. В одном музее, например, все потолки из зала в зал должны были росписью рассказать всю историю Великой Октябрьской революции. Не помню точно, но по количеству квадратных метров потолки эти могли поспорить с Сикстинской капеллой. Витя Шабалин, недюжинный живописец, взявшийся за этот подвиг, набирал себе подмастерьев. Его хриплый, лающий, беспардонный баритон звучал из глубины пока еще пустующих музейных залов. «Рисуй руку в ракурсе!» – орал он, тыкая указательным пальцем чуть ли не в нос очередному претенденту. «Теперь лошадь в ракурсе снизу». – «Кааак?!» – «По представлению!» Очень смешно выглядели члены советов, которые должны были оценивать работу и делать замечания. В проекте одного музея, например, архитекторы придумали нестандартное архитектурное решение, обозвав его «каньоном». Нескольких членов совета оно возмутило до глубины души и даже взбесило: «Что это, понимаете, нет, товарищи, это не пройдет, это несерьезно. Где это видано! Так в Музеях Ленина делать не принято». На что наши веселые архитекторы настойчиво отвечали: «Да это же каньон – такое новое решение. Каньон дает возможность воспринимать концепцию с разных уровней». И все в этом роде: каньон бла-бла-бла, каньон бла-бла-бла. И так шло от заседания к заседанию. Каньон… Каньон. Наконец проект этого музея был завершен. Совет собрали в очередной раз с целью обсуждения нового проекта – уже другого музея. На первом же заседании, когда рассматривалась его концепция, самый ярый до этого противник каньонов взял слово и хорошо поставленным голосом заявил: «Товарищи, в принципе все неплохо и может быть одобрено. Но, товарищи, позвольте вас спросить, где же каньон?» «Его здесь нет и быть не может, он здесь совсем ни к чему», – еле сдерживаясь, чтобы не заржать, ответил один из архитекторов. И еще долго после этого слышалось сдавленное возмущенное бурчание членов, мол, как же так, без каньона, это уж ни в какие ворота не лезет. Совсем уже… до чего дошли.
Так вот, мы, молодые скульпторы, были счастливы, когда появлялась возможность «полепить для музейчиков», как мы это называли, и заработать очень приличные по тем временам деньги. Советская власть бабла на пропаганду не жалела. Единственное, что омрачало процесс, – сроки. Они были нечеловеческими. Для музея в Казани я должен был слепить двадцать семь или шесть, не помню, студентов Казанского университета. Граф Воронцов выбрал тему «Смерть вождя». Я вынужден был лепить с нечеловеческой скоростью. Это не могло не сказаться на персонажах. Потом гипсовые фигуры я должен был раскрасить под живых. Надвигался грозой визит самого главного секретаря местного отделения компартии. И наконец он появился с умными замечаниями: «А знамя красное ведь будет, да, товарищи?» – спрашивал он скороговоркой с акцентом у Воронцова. На что тот задумчиво отвечал: «Нет, уважаемый …». Имя и отчество я, к сожалению, не помню. «Вся композиция бронзовая, а красить одну деталь, как вы знаете, дурной тон». Начав просмотр с конца, эксперты добрались до вводного зала в последнюю очередь. С мраморной парадной лестницы спускались на зрителя по правой ее стороне мои возмущенные гипсовые студенты, ведомые Володей Ульяновым. Что греха таить, слеплены они были слегка гротескно, со скрытой иронией. «Ведь это Ульянов, товарищи? Да, впереди? – опять затараторило первое лицо. Вождь же, у него должно быть выражение вождя, а тут, понимаете ли, товарищи, слишком, ммм, слишком спокойное». Скульптор Мокроусов с голыми ногами, одетый в синий рабочий халат, угрюмо заметил: «Ленин был, как мы с вами, человеком, тоже писал, какал».
«Нет, – не унимался секретарь. – Нужно чтобы все-таки вождь!» «Неси, Саша, ножовку и мешок», – тихо попросил я Воронцова. Саша, обожавший подобные мероприятия, все мигом понял и через две минуты стоял перед вождем с ржавой пилой, толстой веревкой и мешком для картошки. Комиссия заметно напряглась, притихла. «Пили», – махнул я рукой. Граф с индифферентным породистым лицом подошел к натурально раскрашенному молодому «Ленину» и поднес ножовку к шее вождя. Комиссия слабо запротестовала. Ольга Сергеевна – директор Центрального музея Ленина – выдавила из себя: «Ну не сейчас же!» «Нет, только сейчас, потом будет поздно, товарищи!» – с брайтонско-ленинской интонацией, чуть ли не грассируя, воскликнул Александр и принялся отпиливать голову вождю. В звенящей тишине раздавались только шуршащие звуки ножовки, вгрызающейся в гипс. Натуралистично раскрашенная голова, только что гордо смотрящая в светлое будущее, шевельнулась и вскоре отвалилась. Импровизированный палач, ловко подхватив ее, сунул в мешок, уверенно завязал веревкой и попытался передать его главному секретарю. Тот отшатнулся как черт от ладана. В итоге голову забрал мой помощник Витя Колосов. Теперь вышло, что революционных студентов вел Володя Ульянов без головы. Потом все как-то стушевались и, расстроившись, пошли в зал, стоявший особняком. Этот последний зал, как часто случается, оказался рядом с началом экспозиции. Посвящен он был смерти вождя, а автором его, как я уже сказал, был Александр Воронцов. Трагедию случившегося должна была передавать опечаленная толпа бедноты, вышедшая на улицы в виде демонстрации. Немного впереди с флажком шла девочка-дебилка (по выражению самого автора), бритый, видимо от тифа, ребенок лет пяти, одетый в пальто не по размеру. Подлинная фотография этой девочки располагалась на видном месте. Передать выражение ее лица мне не представляется возможным. За ней ковыляли убогие и сирые. Надо сказать, что слеплено это было мастерски, и каждый образ имел прототип, взятый из хроники тех лет. Распечатанные с увеличением образы размещались рядом на наскоро сбитых подобиях мольбертов и подлинностью своей заставляли молчать.На крышах домов тоже шла жизнь, там страдали люди и кошки, росли молодые березки. «Александр Владимирович, – обратилась к автору Ольга Сергеевна, – может быть, вам попробовать взять какую-нибудь другую тему?» «Нет, товарищи, эта тема мне очень дорога», – потупив взгляд и смахнув слезу, прохрипел Саша.
Благодаря этим музеям все мы работали, росли профессионально, часто встречались, ржали, набирались опыта. Потом, много позже, Александр с женой и дочкой Елизаветой переехали в деревню верст за четыреста на север от Москвы. Я как-то приезжал к ним в гости, засев на своей «ниве» несколько раз. Помню, что уезжать уже не хотелось. Баня по-чёрному тогда открыла мне глаза на жизнь. Я понял, что до этого просто жил вполноги. Берег туманного озера, утки, цапли, белые, пахнущие зимой рубахи, самогон, печка. Какая там Москва. Сашка научился вырезать русских птиц счастья, и вся изба была в этих птицах. Разного размера, свежевырезанные, а некоторые уже раскрашенные, они свисали с темных потолков.
Пахло деревом и пирогами.
На этом остановлюсь. Дальше все было плохо, не хочу об этом.
Саша Воронцов на своем примере показал нам всем, какие раньше жили люди в России.
Комов
Лев Кербель – Владимир Цигаль, Юрий Нерода – Иулиан Рукавишников, Олег Комов – Юрий Чернов, Леонид Баранов – Иван Казанский, Михаил Переяславец – Александр Рукавишников. Эти «сладкие парочки» в московской скульптурной среде появлялись примерно раз в десятилетие. Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые и, наконец, пресловутые девяностые – когда немного окрепли и мы с Михаилом. Сладкими эти парочки можно назвать разве что в шутку, идя от обратного, как в анекдоте со Сталиным и Горьким. Мы с Переяславцем немало чудили. Например, в институте учредили праздник, отмечавшийся первого марта, – День зверей. Мы заодно в этот день вспоминали языческий праздник, основной смысл которого – рассмешить заспавшегося зимой домового.
Игнорируя в этот важный день обучение, мы должны были напиваться до звериного состояния (что, слава богу, не всегда получалось) и своим поведением смешить домового. Не исключаю, что он до сих пор ржет над нами до слёз.
Да, это была традиция – учившиеся вместе товарищи входили в профессию рука об руку. Так легче было освоиться и понять, что к чему, зарекомендовать себя. А когда надо, и показать зубы. Нам с Переяславцем долгое время, помню, доставалось на худсоветах и выставкомах от старших коллег, так как мы были дети «этих». Полезно было узнать необоснованную злобу людей и научиться относиться к ней снисходительно. Потом как-то одномоментно всё прекратилось после ряда удачных выставок. Юрий Львович Чернов, высокий, полноватый, кудрявый балагур, душа компаний, изобретатель «остроумных» решений в создании произведений на тему труда, изображение которого тогда приветствовалось руководством страны. Девушка моет окно, а рама висит в воздухе за счет касания с тряпкой. Монтажник руководит крановщиком, а крюк висит в воздухе, касаясь рабочей рукавицы. Это считалось очень современным.
Чернов руководил всеми возможными советами и выставкомами молодежных и не очень молодежных выставок. Он являлся бессменным секретарем по скульптуре Союза художников СССР. Невысокое здание этого замечательного Союза располагалось на Гоголевском бульваре напротив переулка Сивцев Вражек. Подобный Союз со всеми нюансами и персонажами гениально описан Михаилом Афанасьевичем в «Мастере и Маргарите», только там про писателей. То есть те же продуктовые заказы к праздникам, те же путевки, тот же ресторан с филейчиками и запотевшими графинчиками водки. Роль Арчибальда с блеском выполнял мудрейший из мудрых, юрист-международник Абрам Михайлович. Сколько прошений и писем было составлено с его помощью в разные организации! Начиная с покупки автомобиля до приобретения какого-нибудь финского мебельного гарнитура. Интересная деталь: в этом уютном особняке раньше встречались декабристы, о чем напоминает и поныне мраморная мемориальная доска с позолоченным шрифтом. Вашего покорного слугу тоже туда выбрали секретарем по скульптуре, но в силу лени и невозможности правильно и плотно общаться со всеми приезжающими из республик мастерами скульптуры посещать союзы этих республик на местах и там так же плотно и правильно общаться с ними, выпивая и закусывая, его (покорного слугу), слава богу, выгнали через четыре года, не проголосовав на следующем же съезде художников. На съезд он прийти не удосужился, но, узнав об этом от товарищей по телефону, испытал катарсис. Почему? Да хотя бы потому, что не стало необходимости каждую среду полдня сидеть на секретариате и слушать одно и то же от каждого его члена. Последним, когда уже все мечтали об обеде, брал слово папа известного ныне историка моды Александра Васильева. Будучи живописцем, он нараспев, монотонно и довольно высоким голосом сетовал на дефицит нужных материалов: «Я не понимаю, ну как же можно творить, если нет хорошей бумаги, акварели, пастели, кистей, холстов, подрамников, в конце концов, тоже нет?» Для меня до сих пор эти его выступления остаются загадкой. Что это было? Издевательство надо всеми, шутка такая или мольба? Но слово в слово, каждый раз одно и то же. Респектабельный Таир Салахов, который обычно вел президиум, являясь первым секретарем Союза, спокойно выслушав выступавшего, неизменно вежливо благодарил оратора и прощался со всеми до следующей среды. И еще, что касается секретарства: даже в те молодые годы я бы не мог столько выпивать, да и ежедневные изнурительные тренировки по боевым дисциплинам не позволили бы мне это воплотить в жизнь, если бы я и дерзнул попробовать.
Вторым членом этой двойки был Олег Константинович Комов, который манерами напоминал мне мемуарный образ Валерия Брюсова. Он являлся бессменным секретарем Союза художников РСФСР. Встречая где-нибудь нас с папой, он с иезуитской улыбочкой, свойственной только ему, вкрадчивым голосом называл нас «двухрукавным орлом», на что Иулиан приветливо восклицал: «О, первый блин комовым, здорово!»
Олег славился неплохими памятниками Пушкину, которые он ставил в российских городах. Мне они казались кукольно-аккуратноватыми. Однажды, попав вместе в ближневосточный круиз на корабле, мы провели с ним две недели. Я был с Филиппом, и мы привязались к Олегу Константиновичу. Сидя вместе за столом, мы много разговаривали. Вернувшись в Москву, я зачем-то заехал в Академию художеств. Там, не помню кто, подошел ко мне с подметным письмом против Комова. Я его, естественно, не подписал. Мне до фонаря, кто в академии руководит отделением скульптуры, так как от этого она лучше не становится, да и мы с Олегом Константиновичем только что сблизились. Но письмо это все-таки сработало, подписей «великих» хватило, чтобы Комова выгнать.
Говорят, он очень переживал. И вскоре после этого умер. Кто занял его место на этом посту, не помню. Вдова его Нина, яркая высокая блондинка, лет двадцать со мной не здоровалась, что тоже было до фонаря. Потом каким-то образом узнав, что я был чуть ли не единственным, кто не подписал то письмо, поменяла отношение ко мне. Что мне тоже было до фонаря.
Смысл искусства
В народе есть чаяние и тоска по искусству.
Художник, подслушай ее.
Е. Б. Вахтангов
«Традиция – это почва и дух искусства. Без коллекции старых ценностей возможно ли создать новые? Из ничего в пустоте творит один Вседержитель, а художник, работая у Него в мастерской, творит из того, что сработал ОН и прежние его мастера. Другим необходимым условием творчества является Свобода. Она свет и крылья искусства» – так предельно точно раскрывает эту тему великий русский писатель Саша Соколов. Еще к сказанному я бы добавил интуицию.
Смысл искусства у каждого свой. У многих – сохранить и приумножить капитал. У немногих – наслаждаться им и оставить его детям и внукам.
Художники, как правило, крайне наивны. Ищут совершенства, абсолюта. Мучаются. Спиваются, поджидая музу. А не дождавшись, стреляются и прыгают из окон.
В чем же действительно смысл искусства? А кто его знает. Павел Филонов, например, полностью положив жизнь на алтарь искусства, явился пророком, самоотверженно применяя метод аналитического, «сделанного» искусства. При этом он никогда не гнушался использовать анахронизмы, выпадая из времени.
Многочисленная группа товарищей, яркими представителями которой являются Гюнтер фон Хагенс и Дэмиен Херст, зарабатывает славу и деньги, заменяя устаревшую потребность человека во встрече с прекрасным встречей с отвратительным. Они используют пристрастие обывателей, не обладающих даром воспринимать, распознавать и отличать прекрасное от посредственного, окунаться в патологию и дерьмо. Заметьте, в петербургской Кунсткамере всегда много народу. А о столпотворениях в зале с патологией эмбрионов и всякого рода уродствами, фактически трагедиями людей, я вообще молчу. На этой тяге к, с позволения сказать, диковинным вещам уже много лет паразитируют сотни писателей, режиссеров, художников. Тут как с порно: аудитория гарантирована.
Как написаны герои этих произведений? Посредственно. Но создателю это неважно. Важно, чтобы наивные зрители стояли у полотна и гадали: кто есть кто, что есть что, какие здесь зашиты символы, какие смыслы и подтексты вложил художник. Они постояли у полотна минут десять, не больше, вряд ли что-то поняв, потому что понимать нечего. Пришли домой, рассказали соседям. И те пришли на выставку. Так около «произведения» образовывается неиссякающая толпа. А всего-то-навсего «мастер» восполнил отсутствие художественного мастерства литературщиной. Это тоже популярная нынче разновидность искусства.
Долгое время люди последовательно и настойчиво убивали в себе интуицию, сопереживание кому-либо, бескорыстную любовь, подменяя все это – рационализмом. Может быть, отсюда тотальная невосприимчивость к изобразительному искусству. Пока им не вдолбят, что Ван Гог великий художник, они ему тарелку супа не нальют за предлагаемую им картинку. Зато как только вобьют это знание – их же правнуки метут те же картинки за десятки миллионов. Жаль их, они несчастны в своем убожестве, бестолковости и слепоте. Есть еще разновидность ценителей, которые делают вид, что понимают изобразительное искусство: прищуриваются, корчат гримасы, глядя на произведение. Арт-критики такие встречаются, их тоже жаль. Чиновники, которые решают, кому заказывать монументальную живопись, патриотические памятники, городскую скульптуру. Этих жаль тоже, так как они в результате лишаются своих постов, но несравнимо больше жаль города, а еще больше людей, которые рождаются, мучаются и умирают до срока, глядя на предлагаемое им искусство.
А вот такие скульпторы, как Аниш Капур, Джефф Кунс и их апологеты, удивляющие современными техническими возможностями, без сарказма, мне очень нравятся. Они делают так, что в городской среде появляется чистая форма, пусть механическая, зато идеально выполненная, идеально отражающая окружение. Прикольно, позитивно влияет на внутреннее состояние.
А сам-то ты в чем ты видишь смысл искусства, резонно спросите вы. Я бы ответил так: настоящий мастер, конечно, должен, заикаясь и почесывая затылок, мычать что-то абстрактное, невразумительное. Но я по своей простоте и заскорузлости отвечу прямо. Меня занимает влияние изобразительного искусства на психосферу разных существ и людей, населяющих нашу планету. На психосферу самой планеты. Джазовый саксофонист Орнетт Коулман, если не ошибаюсь, считал, что смысл искусства в том, чтобы напомнить людям о вечности и вечной любви. Вполне благородная, на мой взгляд, задача.
Я лично в своих произведениях пытаюсь передать ощущение, подобное тому, что получаешь от легкого удара головой о связку лука, висящую в темном помещении. Уверен: если своими произведениями мы будем добиваться подобного чувства у зрителя, не халтурить, продвигаясь от работы к работе, это положительно будет влиять на общую психосферу и мы с вами постепенно будем ее улучшать.
Выдающиеся аферисты от скульптуры породили множество посредственных последователей, а те, в свою очередь, породили их еще больше, к тому же ниже рангом. Обывателю, задерганному бытовыми трудностями, бывает нелегко различить хорошее в массе посредственности. Хуже того – существует насмотренность на плохую скульптуру, и обыватель часто принимает ее за вполне приличную или даже хорошую. По этой причине выигрываются конкурсы. Скверно подготовленные, эти «творцы» постоянно обижаются на дельные советы художников. Я имею ввиду советы учиться смотреть и видеть. Различать: где, когда и что было; что чем было вытеснено; что и почему заимствовано; откуда чем дополнено; с какой целью взялось. Этим «творцам», увы, не приходит в голову, что уметь воспринимать скульптуру дается нелегко, и это почетно, потому что за ним стоят долгие годы изучения и самовоспитания. Это вам не точные науки, где надо творить головой. Тут больше сердцем, духом, пробужденным кундалини, талантом. Состояние творческой медитации, как и простой, приходит не сразу.


