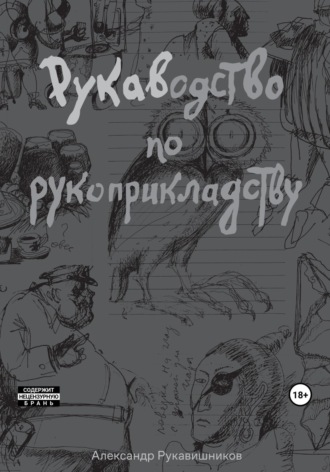
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Родина
Эта дальняя белая страна как нельзя лучше отвечала моей патологической страсти ко всему совершенно необычайному.
Сальвадор Дали о России
Синий ворон от падали
Алый клюв поднимал и глядел.
А другие косились и прядали,
А кустарник шумел, шелестел.
И. А. Бунин
Когда в дождливый день едешь на велике или на лошадке по лесу и по-боксерски уклоняешься от веток деревьев, нет-нет да и получишь по морде мокрыми листьями. Хоть и кажешься себе очень молодым, ловким и неуязвимым. Пахнет грибами, прелой листвой, цветами иван-чая, можжевельником. Корни сосен на лесных тропинках, отполированные, плотные будто кость, знакомы все до единого: вроде бы хаотично, но безупречно расположены по отношению друг к другу. Разное сечение и толщина. Готовый барельеф. И промежутки земли, покрытые сосновыми иголками, которые производят сфумато10, где-то наползая на корни, небанальны. «Учись, мудила», – шепчет внутри некто неопознанный. Смеркается.
Они лежали как обычно везде: кто-то на полу, кто-то на атаманке. Вздыхали, зевали, ждали, когда же конец. Я начал выключать лампочки одну за другой, вырубил радио, что символизировало конец рабочего дня. Фрося первая вскочила и залаяла, а за ней вся свора с бешеным лаем выкатилась во двор. А там – такой пронзительный воздух, такая красота, выхваченная садовыми светильниками из темноты. Черное зеркало пруда еле видно из-за скользящих по нему желтых листьев. Ветер уже холодный, пахнет зимой и конюшней.
Осень, целыми днями дожди. Как дальний завод, с нудной периодичностью в озере гудит сом. Перед окном Василь Василич, красивый, немного постаревший молдаванин, исполняет перформанс: веерными граблями собирает и жжет упавшую листву. В мастерской горит и топит старая чешская печка. Благодать.
Заканчивается ноябрь 2020 года. Наконец-то пошел крупный долгожданный снег. Ложится на зеленую травку. Как быстро всё меняется. Раньше в это время трава везде была жухлая, теперь, видимо генно-модифицированная для кормления скота, вытеснила настоящую. Подхожу к озеру посмотреть на воду. Некрупная цапля, наверное подросток, неуверенно летит над темной ледяной водой. Где ты будешь зимовать, цапля? Прилетай к нам.
Несчастны те, у кого утрачено чувство родины.
Невольно вспомнишь Сашу Пушкина. Действительно, осенью наступает эмоциональное очищение, какое-то счастье – только работай. Когда не меняется температура, все зеленое круглый год, жара, бананы, голубое небо каждый день – как же это, должно быть, скучно! Ничего приличного не создать.
Творцу нужна смена сезонов.
Зима, например. Выскочишь за дровами босиком, специально, чтобы немного замерзнуть, а потом вернуться в тепло. Снег сначала кажется теплым. Пока добежишь до поленницы, схватишь несколько потенциальных Буратин – и назад, ноги уже схватятся. Потом постепенно отойдут. Весь пол в собаках, все разных цветов. Большинство дворняг из приютов и передержек. А теперь у всех есть дом.
Зима теперь не совсем русская. Не холодно, но снега пока хватает. Как и праздников. Два Рождества, два Новых года. А там, глядишь, и Масленица. Русский тяжеловоз Тюдор – ух хорош: и под седлом, и для саней. Комья снега летят из-под его больших светлых копыт, похожих на блинчики, сильно бьют в выгнутую крашеную в черный фанеру передка, санки прыгают на ухабах и кренятся, скрипят, того и гляди развалятся. Собаки, которые в санях, ложатся на животы – страшно. Которые снаружи – несутся с бешеным лаем по бокам. Пузик проносится то и дело перед жеребцом – дурак.
Екатерина, красавица-берейтор, правит стоя в высокой киба-дачи11. «Ой, прям испугались, прям боимся всего, конееешно» – голос ее специально нарочито низок и груб. Тюдор поворачивает свои меховые, слегка присыпанные снежком локаторы совершенной формы. Фиг слепишь! Щеки у девушки – хоть прикуривай. Монголовидный, чтобы не сказать косоглазый, приехавший погостить декан факультета прилег сзади, ближе к корзинке с шампанским и пирожками, орет дурниной и умудряется еще играть на баяне. Молодец! Бокалы благородно позвякивают в белоснежной корзинке. Только что начался Великий пост, ничего, нам можно, у нас самый тяжелый и прекрасный на земле труд. Скоро уж Пасха!
Весной не до работы, но приходится – привык. Такие запахи приносит ветер – башка кру´гом. Бирюза небес, бульканье тающих потоков, время совершенствоваться в мордобое, а ты все лепишь. Вечером приедут ребята, будем драться от восхода до заката дня четыре. Надо съездить в город за едой и бинтами.
Лето – самое неудачное время для творчества. Жара, комары, слепни. Надо камушек какой-нибудь сделать на воздухе или деревяшку вырезать. В заветных тетрадках жизней на пятьдесят придумано. Слава богу, топоров теперь хватает: их можно по Интернету заказывать откуда хошь, по всему миру. Представляете, на каком-нибудь хуторе в Швеции или Норвегии мужичок в своей маленькой аккуратной кузне, где порядок и чистота, откует заготовку. Закалит ее, вспоминая секреты прадеда, наточит, потом доведет до бритвы вручную, потом насадит на вырезанную им же ручку с мягкой удобной насечкой, чтобы топор не вылетал из руки. И наконец, вклеит деревянный клин. А потом, вложив шедевр в простой кожаный чехол ручной работы с заклепкой, отправит его в далекую и страшную Россию. Класс. А тут мы с собачней его получаем и вешаем на дверь в компанию других таких же прекрасных топоров разного размера. Потом радуешься долго. Просыпаясь поутру, вспоминаешь: а чего так хорошо? Конечно! Новый топор.
Каждый раз даешь себе зарок летом ничего не делать. Только медитация и тренировки. Носиться по водохранилищу на жёлто-чёрном спидстере12 Bombardier взад-вперед, а потом пьяным от воздуха и красного вина валяться под яблоней или грушей, глядя в звездное небо, и рыдать, рыдать, рыдать под Роберта Фриппа и Алешу Димитриевича, представляя бесконечную Россию, пока собаки слизывают слезы. Вот это жизнь. Мечты, мечты! Пока не получается. Но кажется, старость уже пришла, а значит уже нужно пробовать.
Весна, середина марта. Лед на озере уже серый. Вода заметно поднимается каждый день. Ночами сильный ветер, нет, лучше написать – сильные ветра. У берега три совмещающихся прудика: для уток, для людей, для катеров. Утиный отделан бревнами лиственницы, льда уже нет, темно-изумрудная вода чуть теплее по цвету, чем в Женеве. Второй, отделанный булыжником, покрыт коркой льда, в третьем вода точно под навесом, остальное – лед. Как все непросто и логично устроено в природе. Работается еще хорошо, как зимой. Откуда ни возьмись, каскад интереснейших заказов. Русская самоедская особенность: нет работы – плохо, есть – плохо, слишком много. Не гневи бога. С некоторыми задачами помогут справиться мои замечательные ученики. Они, кстати, тоже часть родины. Порой до глубины души трогают ребята меня своей самоотверженностью. Ведь некоторые задания требуют нечеловеческой самоотдачи. Игорь Александрович Моисеев называл танцовщиц и танцовщиков ансамбля своими крыльями. Вот и у меня подросли, слава богу, небольшие крылышки. Хочется, чтобы каждый стал неподражаемым мастером и не поминал лихом своего учителя. Примерно такие мысли наряду с другими, о вечности, лезут в голову, когда сидишь на дощатом настиле у шалаша над водой. Прям Ленин, такой гуманист. Кое-где еще потемневший лед.
Журавлиный клин медлительно движется из-за черного слэба13 леса, похожего на лабрадорит, и как в масло входит в почти геометрически правильный веер, образованный четырьмя самолетами, вылетевшими, очевидно, недавно из Шереметьева. Мигая бортовыми огоньками, они летят навстречу птицам с такой же скоростью, только немного повыше, на фоне свинцового неба с небрежно кем-то вырезанными лазурными весенними лоскутами. И только отдаленный грозный рокот двигателей немного мешает гармонии картинки. Овчина старой куртки, купленной на Манхэттене лет тридцать назад, от влаги пахнет немного псиной, всесезонные валенки в прозрачных галошах велики на много размеров. Благодаря им и куртке ощущается домашнее тепло. Как им удается держать такой стройный клин?
* * *
Когда идёте в лес, советую брать с собой мандарины – кусочки корки горят в сумерках, как фонарики.
* * *
Учитесь у блинов подготавливать левкасную14 доску. Не шутка: вы только понаблюдайте, как неповторимо ведут себя блины на сковородке, совсем не так, как раки, брошенные в укропный кипяток. Как неповторимо остроумно возникает узор, как уравновешенно перемешиваются светлые и темные места. Как сдержанна гамма. Видно, что им хорошо, и на глазах они превращаются в реасе of аrt. Речь идет, конечно, о настоящих блинах, не этих бледных, унылых, одинаковых и вечно холодных блинчиках – «символах новой России» – на какой-нибудь Масленице в Сокольниках или в Коломенском с безвкусно ряженным на скорую руку народом.
* * *
Когда на чем-либо спускаешься вниз по Лене в районе Жиганска, среди непролазной тайги по обоим берегам проплывают огромные поля, точнее поляны, голубые от незабудок. У местных собак такого же цвета глаза, и кажется, что глазницы сквозные, а то и совсем белые. Когда выходишь на берег, они встречают тебя толпой, молча и внимательно разглядывая: «чё надо?»
Народ немногословен, по-скульптурному очень красив. А душой? Душой вроде бы тоже ничего, но не совсем понятен. Местные краской рисуют красные звезды на крыльях бакланов, и те как самолеты медленно движутся на фоне свинцового неба на ветру, не шевеля крыльями. Скоро океан.
Не знаю, как сейчас, а в конце семидесятых, чтобы сварить одного дикого оленя, бригады сезонных рыбаков натягивали проволоку и пропускали по ней ток, используя генератор. Натыкаясь на нее, совершенные по форме, небольшие в холке чёрно-седые красавцы и их подруги гибли десятками. И туши их даже никто не подбирал, они так и оставались разлагаться в непролазной тайге.
В те времена в Якутии было много бичей. Приехавшие на заработки из больших городов люди, получая приличные деньги, спивались и не могли взять себя в руки, чтобы купить билет на самолет и вернуться домой. В сельских магазинах ассортимент ограничивался порохом, хлебом, спиртом и трехлитровыми банками маринованных болгарских огурчиков и помидорчиков. Еще забыл шоколад и нейлоновые сорочки. Попав с тремя моими товарищами в поселок Жиганск и повздорив в клубе с местными ребятами, мы дня на три поселились в тайге, чтобы нас не застрелили. Молоденький паренек с дефектом речи (и не только) перевез нас на мотоцикле с коляской по очереди на импровизированную базу знакомых ему бичей.
Заканчивался вторник, а автобус приходил раз в неделю, по пятницам. То, что мы увидели, правильнее назвать лежбищем, чем базой. Кострище неподалеку от опушки метра три в диаметре. Догорают приличной толщины бревна. Беспрерывно зудит стена мошки и прочих летающих насекомых. Мы с моими в сетках. Страшный бардак: упаковочные коробки с плитками шоколада, надорванные плитки валяются вокруг, пачки чая, ватники, нейлоновые сорочки двух цветов – бордового и темно-синего – в упаковках, некоторые подгоревшие – всего не перечислить. Забыл самое главное: полупустые пластиковые ящики с бутылками коньяка и блоки «Пегаса», тоже со следами потрошения. Как у Эдгара По, будто хозяйничала громадная обезьяна или йети. Неподалеку в разных направлениях лежат четыре человека, точнее, три с половиной: один когда-то во сне обгорел с одного бока, да так и не заметил. Он из Питера, зовут Толей, остальные из Подмосковья. Они очухиваются в разное время суток, пьют коньяк, заваривают в закопченном чайнике чифир. Видя нас впервые, не удивляются. Пободрствовав недолго, опять отключаются. Защитных сеток на них нет. Зачем они?
Сергий + Михаил Афанасьевич
Не могу не рассказать здесь о моем друге Сергее Шарове. С ним как с архитектором мы сделали, наверное, половину всех памятников. Представляю его физиономию, когда он будет читать этот текст. «Я не архитектор, – всегда настаивает он. – Архитекторы – это Норман Фостер, Фрэнк Гери, Людвиг Мис ван дер Роэ, Жан Нувель…» – «А ты кто? Как тебя писать на постаментах?» – «Не знаю, наверное, художник». Антипафос у него гипертрофированный. «У меня нет фантазии, я чего-нибудь срисую, перенесу на тряпку и потом разукрашу». Когда ты говоришь это своим, они понимают, что ты шутишь, а когда в интервью по телеку, никто ничего не понимает. «Странный мужичок, – думают. – Жаль его, а впрочем, фиг с ним». На самом деле он – это современный Леонардо. Как сформировался этот незаурядный художник? Вроде бы в биографии ничего удивительного. Мама, папа – типичные для послевоенного времени граждане, бессеребренники. Обычная школа, журнал «Наука и жизнь», кружки Дома пионеров, спортивные секции с локальными рекордами, МАРХИ с великим Учителем и другом Виталием Скобелевым. Правдами и неправдами добытые книжки про другое искусство. А дальше – талант плюс аналитический ум, плюс трудоспособность. Мы с Худяковым в разговорах всегда определяли его как самого сильного из всех известных нам современных художников, правда, с очень непростым, занудным характером. Кстати, он был одним из легендарной «Двадцатки» авангардистов, выставки которой наделали шума в Москве и за ее пределами в семидесятые – восьмидесятые прошлого века.
В бестолковой чехарде современной жизни скульптору бывает очень непросто подсчитать процент реализованных им проектов. По молодости, когда берешься за всё, процент этот, наверное, около десяти. С приобретением опыта и интуиции процент начинает подрастать, но не быстро. И наконец, когда знаешь себе и другим цену и напропалую отказываешься от всего скучного, сомнительного, бесперспективного, он вырастает где-то до сорока-пятидесяти. Но большая часть проектов срывается, похоже, из-за того, что утратило силу понятие «купеческое слово», крепче и вернее которого, говорят, ничего не существовало. Договорились, ударили по рукам, всё! А у многих современных магнатов замах силен, да на удар силенок не хватает. Вот они и ограничиваются разговорным жанром. Жаль, потому что нет-нет да и возникнет вдруг нестандартный, остроумно сочиненный проект, реализация которого могла бы продвинуть нашу культуру вперед, оставив позади другие народы. А случается, что и сам народ, ничего не поняв, не отличая хорошее от плохого, соберется с силами, возмутится, да и встанет стеной, обрушивая свой праведный гнев на зарвавшегося автора. Правильнее сказать – не весь народ, а небольшая часть его. Не самая осведомленная и продвинутая. Возьмем, к примеру, пару выигранных нами официально конкурсов. Один из них – памятник Булгакову в Москве. Необходимо учитывать, что место выделяется заранее и на него и играется конкурс.
Патриаршие пруды. Ряд традиционных парковых скамеек, за спинками которых проходит Большая Бронная. Справа, если смотреть от пруда, неожиданно заканчивается отступавшая к улице площадка, вымощенная серым гранитом. Для чего, спросите вы. Отвечу: там какие-то идиоты собирались поставить такую же сдвоенную скамью, только бронзовую. На левой ее части должна сидеть, нога на ногу, фигура писателя, смотрящего задумчиво на пруд вслед уходящему по воде четырехметровому Иешуа. Правая же половина лавки вообще должна быть сломана – видимо, символизируя разруху, которая царила тогда в городе. Безобразие! В те времена вообще не было принято, чтобы фигуры сидели – все они стояли на постаментах. Теперь же все сидят на лавках, и на поломанных в том числе. Правильно тогда одна газета, где-то раздобыв фотографию черновой промежуточной модели памятника, опубликовала ее. И прибавила комментарий: мол, еще не видя статуи, остроумные москвичи уже прозвали ее «В жопе веник». Почему-то у москвичей, критикующих скульптуру, юмор всегда вертится вокруг задницы. Пример тому – мой памятник Достоевскому у Библиотеки имени Ленина.
Так вот памятник. Предполагалось, что зимой Иешуа будет уходить не по катку, а все-таки по воде: эти великие умы задумали окружить его античной колоннадой из песчаника и вместе с инженерами планировали построить такую систему, чтобы вода внутри круга подогревалась. Там могли бы зимовать утки – как на одном из прудов Ботанического сада. А ближайшие деревья покрывались бы сказочным инеем, как бывает, когда прорвет трубу с горячей водой. Слева, между павильоном и углом пруда, располагалась бы руинированная архитектурная композиция, тоже из песчаника, символизирующая Ершалаим, где обитали бы Левий Матвей и Рыцарь Золотое Копье со своей собакой.
Говорят, что эти проектировщики-дебилы хотели вместо пруда построить подземный гараж, забетонировать пруд и установить семидесятиметровый примус, на котором восседал бы Сатана, а из-под примуса должна была взлетать машина с Грачом и героями, именами которых названа небезызвестная книжка. Неужто такие идиоты, даже не верится! Точнее, она должна была взлетать с верхней бровки травянистого склона, которым окружен пруд – между примусом и скамейкой с писателем, по диагонали от Иешуа. Сам примус криво, с наклоном стоял бы внизу, одной ножкой в воде. Диаметр чаши равнялся бы шести метрам, а снизу можно было увидеть «нехорошую» квартиру, где предполагалось собрать всю нечисть, изобразив ее в горельефах, дабы она не влияла на психосферу города. А Азазелло – демона-убийцу, демона безводной пустыни – вообще не изображать по той же причине. Из пулевых отверстий летом в пруд должны были бить струи воды, изображая бензин. Примус освещался бы снизу оранжевым, вызывая у осведомленных зрителей ассоциацию с тем самым булгаковским абажуром. Вот вроде бы и все, не считая деталей: пандуса для инвалидов в виде выдвижного ящика кухонного стола с громадной облезлой ручкой в середине. А также стилизованной под тридцатые годы телефонной будкой, около которой днем можно было послушать роман нон-стоп. И искусственной луной, освещающей Иешуа с противоположного угла пруда. Она бы создавала и летом и зимой лунную дорожку. Слава богу, весь этот «ужас» не состоялся.
Такая же участь постигла и памятник Сергию Радонежскому. Мой проект был таким: на первом плане я изобразил четырехметровый оклад с житием святого. Оклад этот был слегка выгнут, как обычно бывают выгнуты старые иконы, и немного руинирован. Толщина его была сантиметров шестьдесят, а с задней стороны, обращенной как бы к сцене, на определенной высоте были устроены ниши с держателями для свечей, свет которых своим колебанием оживлял бы все слепленное на следующих двух планах. Особенно фигуру и лик преподобного Сергия. Центром композиции следующего плана была экспрессивно слепленная фигура старца (230 см высотой), идущего по зеленому холму, покрытому травами и полевыми цветами. Справа от фигуры, ближе к зрителю, присел заяц. К фигуре со стороны лика можно подняться по бронзовой лесенке из четырех ступеней, устроенной сзади оклада под свечами. Третий план представляет собой сквозной рельеф, на котором изображена первая деревянная часовня, построенная преподобным Сергием, в которой он спасался. И два дерева: тонкая плакучая береза и мощный дуб – олицетворение веры. На деревьях и на окладе полно разных птиц. Под деревьями – травы и цветы, зверье. Если смотреть на композицию фронтально, увидишь икону с настоящим небом, на настоящей земле. При обходе возникают непредсказуемые ракурсы.
Бесконечные разговоры о том, что объемная скульптура свойственна католицизму и чужда православию, натолкнули меня на мысль создать принципиально новый вид композиции, построенной по принципу театральной сцены.
Я предлагал (и предлагаю) сделать эту вещь за свой счет, раз уж деньги, выделенные на реализацию проекта, чудесным образом исчезли. Но мне было сказано, что в таком случае я должен буду взять на себя и всё благоустройство, включающее перекладку коммуникаций, фонари, лавки, урны, ларек для продажи свечей. «Не хочу», – как говаривал известный профессор, отвечая Швондеру.
Анатолий Зверев
Беда только рака красит
Пословица
Заканчивалась одна из вёсен начала восьмидесятых в Москве прошлого века. Под утро прошла короткая гроза. Пахло свежестью и липовым чаем. Мы с моим другом Костей Худяковым договорились ехать в горком графиков, который располагался на Малой Грузинской, чтобы получить там какие-то бумаги для вывоза в Грецию наших произведений. Я, радуясь тому, что можно больше не кутаться, в майке и джинсах выскочил из дома.
Молодость и относительная известность в определенных кругах делали нас немного самоуверенными идиотами. Горком был Костиной вотчиной, и я ходил за ним по кабинетам немного позади с глуповатой, но, мне казалось, очаровательной улыбкой.
Встретив в коридоре какую-то женщину, я обнял, поцеловал ее пару раз и подбросил вверх, приняв ее за свою знакомую. «Я слышала про Рукавишникова, что он немного того, не в себе, но чтобы настолько…» – шептала она потом Худякову.
Наконец получив нужные справки, мы вышли во двор на свежий воздух, чтобы ехать в МОСХ ставить печати. К нам подошел какой-то бомж. В тельнике, коротковатых и при этом расклешенных штанах и неимоверных сандалетах. В руках у него была авоська с пустой бутылкой из-под кефира. Опухшее красное широкое лицо, всклокоченные темно-русые волосы с проседью и неопрятная борода. На вид лет пятьдесят.
– Ребятки, может, порисуем чего-нибудь?
Мой Константин ему спокойно говорит:
– Давай, Толя, напиши наши портреты.
– Для меня это большая честь, господа, – высокопарно отвечает тот.
Я молчу, принюхиваюсь, жду, чем кончится.
– А на чем будешь рисовать? – хмурит брови Константин.
– Да на чем угодно.
– А чем, какие краски тебе нужны, какие кисточки?
– Никаких кистей, и что касается красок, есть основные цвета: белый, красный, синий.
– Ок, – говорит Худяков, – жди, скоро вернемся.
– Знаешь, кто это? – заговорщически спросил Костя.
– Нет, – говорю, – не знаю.
– Это же Анатолий Зверев, его картинки в лучших музеях мира.
– Ааа! Это который послихе подснежники дарил?
В Москве в это время ходила история: Зверев, придя последним на прием в посольство Великобритании, куда были приглашены советские художники-авангардисты, одетый так же, как сейчас, подойдя к основанию лестницы, на верхней площадке которой встречали гостей посол с супругой, начал делать немыслимые реверансы, расшаркиваться, одной рукой ища что-то в заднем кармане штанов, а другой делая предупреждающий жест: мол, подождите. Англичане покорно ждали. Наконец он извлек из недр обгрызенный и увядший букетик подснежников, отряхнул его от табака о свое бедро и, поднявшись по лестнице, вручил его даме, сделав реверанс и при этом встав с трудом на одно колено.
На моем «жигуле», как сейчас помню, ярко-зеленого цвета быстро смотались на Беговую, художественный ларек по закону подлости оказался закрыт.
Но печати поставили. Поехали на улицу Жолтовского в подвальчик, где торговала знаменитая контуженая тетя Лена, вся художественная и архитектурная Москва знала и боготворила ее. Выслушав обычную сопровождающуюся плеванием в сторону тираду из серии «пошли все в п...., на х..», про наших мам, мы купили краски. Белая оказалась в больших емкостях и дорогая, рубля по два. Костя сказал: «Да давай желтую, ничего. И еще пару картонок для этюдов». Вернулись. Зверев терпеливо ждал на лавочке. Бутылка в авоське трогательно стояла на асфальте между сандалиями. У меня сжалось сердце. «Белой не было, – наврали мы, – купили желтую».
И тут началось… Зверев, видимо обрадовавшись, что пижоны вернулись, превратился в Лао-цзы: «Ничего, все белое желтеет со временем: желтеет бумага, мы умрем – тоже пожелтеем, снег, белые платья, всё! Остановите, пожалуйста, у магазина».
Я остановился у маленького занюханного винного и говорю: «Схожу, чего вы пьете в это время суток?» – «Нет, вы не знаете. Я с вами пойду». Мою попытку что-то быстро купить Анатолий мягко, но достаточно конкретно остановил: «Так эти дела не делаются. Барышня-красавица, дайте-ка нам, голубушка, бутылочку „Салюта“, четыре бутылочки пива „Жигулевского“, четвертиночку „Столичной“, бутылочку „Старочки“ и портвейн вот этот». Примерно так, точно не помню.
«Черный пояс», – подумал я с уважением.
Приехали ко мне на Маяковку, в булгаковский дом. Бегемот, громадный черный кот из музея, как обычно ошивался во дворе. Мы, пообещав ему что-нибудь вынести, зашли в гараж, который я только что достроил. Под бывшей мастерской, в которой мы жили, располагался гараж УПДК. Водители Дипломатического корпуса, как я уже говорил, регулярно снабжали папу ворованной резиной, замшей для протирания авто в фирменных упаковках, дворниками и всякой иностранной всячиной. В один прекрасный момент они съехали, и папа оформил гараж как подсобную мастерскую в нежилом помещении. Я ликовал. Придумал, как сделать там лифт, баню и додзё15. К слову сказать, в нем возрастали великие и не очень мастера боевых искусств России и не только. А какие гости посещали там вашего покорного слугу: Юра Овчинников, Спартак Мишулин, Отари Квантришвили, гремевший тогда Михаил Муромов и многие, многие другие. Яркий свет, зеркала по периметру из полированной нержавейки (дабы не бились от врезающихся в них тел), серьезные мешки, висящие кислородные баллоны, японские и китайские макивары16, полированные доски пола – все это почему-то огорчило Зверева. «Понадобятся две газеты и ножницы», – пробурчал он в бороду. Первым позировать сел Костя, а мне не терпелось понаблюдать, как работает мастер, и я присел по диагонали сзади. Поставив перед собой загрунтованную картонку на стул, повернутый от него спинкой, Анатолий с левой газеты, на которую он положил тюбики, взял краплак, трясущимися ножницами обрезал уголок сзади и смело, как пишут иероглифы, выдавил на нее большие А и З и 1983 или 1985 (не помню точно, какой год), заполнив всю картонку. И с ужасом, видимо, вспомнив, что я наблюдаю, резко повернувшись, с мольбой вскричал: «Это еще не все!» Я понял, что обычно после подобных подписей его начинали лупить поклонники его таланта. А мой гараж он принял за пыточную. Порисовав еще красным, Анатолий аккуратно положил тюбик на другую газету, лежащую справа. «Что у тебя с рукой?» – спросил Худяков. «Да ломают каждый раз, как забирают. А забирают постоянно. Я сразу, как подходят, ее вперед выставляю, а правую назад, мне ж ей рисовать! Вот надысь вроде понедельник был. Подходит один, красииивый такой, шея колонной, прям Апоксиомен17 в форме. Милиционееер! Ну, я левой к нему. „Кто ты?“ – грит. Я грю: „Тоооля“. – „Ах Толя“. Кааак мне врежет кулачищем по морде. Я упал, думаю: „Красавец какой, бывают же, земля русская родит! Молодец!“ Он меня за шиворот поднимааает: „Так значит ты Тоооля!“ Каак мне еще разок врежет. Ну я опять полетел. Очнулся, лежу, думаю: „Вроде живой! Хорошо, правую не сломал, мне ж ей рисовать“». «Да ты, наверно, пьяный всю дорогу, вот тебя и лупят все кому не лень», – иронически нравоучительным тоном замечает Костя. «Бывает, конечно. А как же, я ж художник. А то закон вышел новый, Андропов придумал. Пить нельзя! Как это так, есть можно, а пить нельзя?»
Тут я на правах хозяина предложил выпить, тем более что один портрет был готов. Зверев, отставив его подальше, прищуривался, корчил физиономии, как это делают непрофессиональные художники. Очевидно, это у него был выработанный прием, рассчитанный на лоха. «Нет, сначала порисуем, если господа не против». Сел я. Портреты получились лихие, но, на мой взгляд, посредственные. Мы оба непохожи. Увеличенные, видимо в угоду заказчику, глаза. Но все равно, Зверев – круто. Закончив рисование, мы приступили к таинству выпивания. Зверев оживился и начал проводить мастер-класс. Мы с Константином оказались неважными учениками и пили только водку, если не ошибаюсь. Анатолий же, выпивая из каждой бутылки, оставлял примерно треть, приговаривая застенчиво: «Разрешите для моей подруги возьму». Авоська постепенно наполнялась. Когда бутылки закончились, Зверев засобирался: «Ну, что-то я засиделся у вас». На вид он показался мне абсолютно трезв. «Разрешите сосисочку, коту во дворе обещааали». Перед нами стоял жалкий, спившийся пожилой человек среднего роста, с изуродованной рукой, с авоськой, в которой были полупустые бутылки и пустая молочная с сосиской, и с изуродованной судьбой, зависимый, старающийся всем угодить. Большой художник, московский блаженный, философ Анатолий Зверев. Пижоны в тот раз приятно удивили его, заплатив за портреты и вызвав ему такси.


