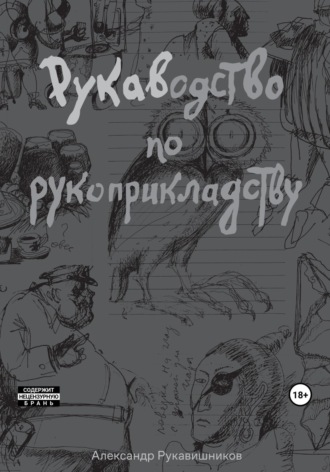
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Свиязов
Локация чрезвычайной важности на карте моей Москвы. В Суриковском учились мои родители. Помню, как летом тысяча девятьсот шестьдесят седьмого я шел по Товарищескому переулку на первый экзамен; помню пожилого японца неподалеку от института, с интересом рассматривавшего тополиный пух. Я еще подумал: «Наверное, прикидывает, как можно применить его в хозяйстве…»
Прошлой осенью, когда я шел по коридору института уже совсем в другом качестве, ко мне подошла женщина – как оказалось, сотрудница отдела кадров. Она удивила меня тем, что обратилась по имени-отчеству и сказала, что скоро у меня юбилей. Я поблагодарил ее со свойственным мне вежливым идиотизмом и спросил: «Какой?» «Двадцать пять лет преподаете!» – ответила она и пошла дальше по своим важным делам. Что же это получается, подумал я. Двадцать пять (лет) умножить на восемь или десять (среднее количество студентов в год)… Много! Из них человек пять прямо-таки супер-пупер. Вспоминаю сразу Роберта Фриппа, который как-то в интервью сказал, что за двадцать пять лет существования его высококвалифицированной гитарной школы только один парень подает надежды на то, чтобы стать неплохим музыкантом. Об одном таком уникуме расскажу в следующей главе.
Невысокий, насыщенно рыжий паренек. Он появился среди первокурсников в октябре 2009 года (в Суриковском занятия начинаются в октябре). В первом полугодии мы с моим товарищем скульптором Андреем Балашовым запрещаем ученикам лепить. Придумал я это довольно давно, и теперь это стало традицией. Как нам кажется, ребята бывают развращены псевдоискусством после средних художественных заведений и испорчены привитым им понятием о творческом беспорядке, если не сказать расхлябанности. Поэтому на старте обучения вместо творчества они убираются в мастерской, отскребают с пола прилипший в прошлом году пластилин, моют окна, делают стеки и каркасы на несколько лет вперед, чтобы не терять потом на это время. За это получают первую отметку по скульптуре. Их руки, привыкшие к ложке, телефону и компьютерной мыши, часто впервые ощущают ручку молотка и стамески. А ведь эти инструменты могут пригодиться будущему скульптору, чем черт не шутит.
Кстати о порядке. Для меня крайне важно, чтобы во время работы был порядок. Я просто не могу сосредоточиться в условиях «творческого» бардака. И мы прививаем это ребятам, что многих из них искренне удивляет поначалу. Ведь благодаря фильмам, романтизирующим будни художника, у публики сложилось мнение, что в мастерской у художника, а уж тем более у скульптора, должна быть свалка. Гора пустых бутылок, окурки и прочие атрибуты праздника. Возможно, кто-то и может работать в таких условиях. Вспомнить фотографии Фрэнсиса Бэкона из его мастерской – там среди хлама сложно заметить самого Бэкона. Он, конечно, педалировал все время тему, что он якобы не в своем уме, и лицо делал на фото соответствующее. И вот, мол, творческий беспорядок под стать. Что не делает его менее великим. Как-то раз, помню, я снял у коллеги (не буду называть его фамилию) мастерскую для выполнения заказа, так как в моей не хватало места. По обыкновению мы с помощниками начали приводить ее в порядок. Чтобы понять масштаб бедствия, скажу, что среди всего многообразия была найдена, например, открытая, но недоеденная банка бычков в томате. На ней стоял год изготовления – кажется, тысяча девятьсот шестьдесят восьмой! Какая рачительность, Плюшкину такое и не снилось.
Так вот, в октябре 2009-го я собрал студентов и в мягкой, как мне кажется, форме обрисовал им права и обязанности на первое полугодие. «Чё, ваще лепить что ль нельзя?» – спросил рыжий. «А у тебя чё, проблемы со слухом?» – начал заводиться я. Тот в ответ лишь улыбнулся.
И только в следующем полугодии мы поняли, что значит для него лепить. Без пафоса: то же самое, что дышать. Да, мы давно заметили: обычно, накопив за несколько месяцев рвущейся наружу энергии, ребята бросаются лепить как заведенные, приносят по три-пять эскизов для композиций в неделю. Только вот Саша Свиязов (так звали рыжего) приносил раз в десять больше. В общем, я быстро осознал свою ответственность перед Вечностью и бережно начал вести его – такой дар встречается редко и его легко сломать.
Количество быстро перерастало в качество. Свиязов демонстрировал невероятные результаты. На следующий год пришлось ему даже выделить дополнительную мастерскую, так как в общей его работы уже просто не помещались. Я никогда не встречал ничего подобного. Примерно половина из сделанного была безупречна, самобытна и, главное, не имела аналогов в истории скульптуры. Прошло еще несколько лет: никаких спадов, никаких «ожиданий музы», стабильно каждый божий день два-три шедевра. Все только поражались.
А затем наступила весна 2011 года. Я, находясь в Австрии где-то в окрестностях Хинтерглема, спускался на лыжах по довольно сложной для меня трассе, забыв выключить телефон. Он еле слышно пиликал, я выругался, остановился и с трудом достал его из дебрей куртки. Позвонили из института, не здороваясь сообщили: Свиязов в реанимации. Оказалось, что Саша и Виталий со второго курса, катаясь на коньках, столкнулись и, упав, оба потеряли сознание. Виталий очнулся через несколько минут, а второй впал в кому.
– Когда это было?
– Два дня назад.
Дело отдавало душещипательным и пошлейшим мексиканским сценарием. Гениальный мальчик из деревни Прислониха поступает в Суриковский институт, попадает в неплохие руки, делает на малой родине памятник своему кумиру Пластову. Все ликуют, и… такая трагическая развязка. Я отогнал мрачные мысли и начал звонить своим великим друзьям-медикам. Один, обрадовавшись моему звонку, сообщил, что он рядом, в соседней деревне, катается на лыжах. Другой был отключен. К счастью, вспомнили, что кум моего вышеупомянутого товарища Балашова был нейрохирургом. Он-то и поехал к Саше в больницу.
Сделали серьезную операцию с трепанацией черепа, и через несколько дней он пришел в себя. Все навещали его, молились. В итоге обошлось, но нервотрепка была приличная. Он работал так, будто ничего не произошло. Потом в лобную кость вставили пластину, и выросшие рыжие волосы скрыли шрам.
Сейчас он такой же, как раньше, глаз горит. Защитил на четвертом курсе малый диплом с похвалой, на шестом – большой, тоже блестяще. Сейчас Саша много работает, выставляется, по-настоящему помогает своему учителю, втихаря женился – свадьбу зажал. Дай бог, чтобы у них все было хорошо!
Сашка Свиязов, как он обычно представляется, смерчем ворвался сначала в тихий омут Сурка, потом в робкую и изобилующую посредственностями, по сути сервильную (не скажу кому) жизнь московской скульптуры. Нет, это не навязший на зубах «глоток свежего воздуха», это скорее запотевший стакан пахнущего антоновкой и первым снегом кальвадоса – яблочного самогона.
Его зачарованность жизнью безгранична, влюбленность в процесс создания рождающегося нового объема сравнима, пожалуй с влюбленностью Дж. Хендрикса в родную гитару. Пластика его предсказуемо непредсказуема и мощна, разум отпущен именно настолько, насколько надо. И главное. «Фрики» его любимы им до боли в стиснутых зубах. Он готов за них горло перегрызть. В этом принципиальное отличие его от искусства соц-арта. Там художник всегда посылает message – «вы же меня понимаете, я стебаюсь». Искусство Саши очень национально, интересно для иностранцев. Александр – второй из моих учеников, который в моем аномально сфумативно коаническом23 сознании хронически коррелируется со сказочным Иваном-дураком. А миссию дурака, как известно, трудно переоценить. Первый великий ученик мой не из изо, а из будо – Сергей Шаповалов. Допускаю, что ему нет равных в современном мире, но с определенного этапа это не моя, а его заслуга. Обойдя учителя, он скрылся за горизонтом, однако всегда называет меня сенсеем.
Не так давно у Свиязова родился первенец – Григорий Александрович. Сашка попросил меня стать ему крестным папой. Я отказывался, объясняя тем, что могу быть только крестным дедом и помру до тех пор, пока он вырастет. На что он парировал: «С таким дедом лучше хоть сколько-нибудь пожить, чем с абы каким отцом, но долго».
Теперь Григорий мой крестный внук.
Твой учитель
А. И. Рукавишников
Данте в тюрьме (один случай)
Как-то зимой в середине девяностых мне позвонил мой приятель писатель и журналист Игорь Свинаренко и спросил: «Хочешь познакомиться с бабой-скульптором? Она рецидивистка – аферистка на доверии, в Орловской тюрьме сидит. Мы едем туда на симпозиум по правам женщин-заключенных». Я согласился. Мне и так давно по некоторым делам нужно было попасть в Орел: меня просили подумать о памятнике орловскому рысаку (к сожалению, в те годы лошадей этой старинной породы оставалось мало; не знаю, как сейчас).
В поезде нас ехало человек пятнадцать: в основном женщины – интеллигенция. На «волгах» городской администрации, присланных встречать нас, доехали до тюрьмы. Перед КПП, еще на воле, стояло нечто невообразимое, что-то мне сильно напоминающее, цветное. Секундное замешательство, и тут я понимаю: да это же мой деревянный Дмитрий Донской! Только в наиве – раскрашеный бетон. Эффект от увиденного был просто оглушительный. Очевидно было, что автор шедевра – та самая «баба-скульптор». Но почему взяла за образец моего Донского? Вопросов было миллион.
Лязг покрашенных в «салатневый» решеток, замков; отдаваемые команды – мы в тюрьме. Тот же советский детский садик, та же пахнущая хлоркой чистота линолеумных узорчатых полов, те же азартные цветовые сочетания: розовый с коричневым суриком внизу, все в каемочках, покрашенные под ковровую дорожку лестницы и на каждом шагу веселые «фрески» из мультиков про крокодила Гену, про волка в тельнике и клешах, про зайца с хвостом бобтэйла. Ни слова в простоте! Ни сантиметра не найти непокрашенного. Какой же творчески одаренный народ, тянущийся к прекрасному. Встречающиеся женщины одеты по-домашнему, редко привлекательны, в хлопчатобумажных чулках, в мужских носках поверх чулок и войлочных тапочках. Взгляд у всех разный, но не как на воле. Недостает зубов. Смотрят с нескрываемым любопытством, обожают фотографироваться. Мы с высоким красивым начальником и несколькими разнополыми вертухаями в актовом зале. Дают «Снегурочку». Своеобразный театр Кабуки наоборот. Главная героиня с неплохой фигуркой и замазанным фингалом на смазливой мордашке. Выражение зеленых глаз для Снегурочки слишком вызывающее. С удовольствием смотрю спектакль, вспоминается довлатовский «Ленин». Веселенький интерьер с тюлем фиолетового оттенка усугубляет впечатление от действа. Полы покрашены в сложно подобранный колор, потягивает щами, видно неподалеку готовят премьерную трапезу. Бурные аплодисменты в восемь пар рук, и мы в святая святых – столовой. Уют зашкаливает. До боли знакомый вырезанный из липы медведь, покрытый лачком с морилочкой держит бутылку водки. Орел с поднятыми крыльями, выполненный в той же технике, стоит на полированном серванте. Видимо, рядом дружественная военная часть, где служит рядовым умелец-резчик. Такой был и в нашей орденоносной Таманской дивизии. Невысокий молчаливый парень никакой внешности, с пальцами, обмотанными синей изолентой. Мы с Переяславцем любили заходить к нему в свободное от боевой подготовки время. Он неизменно приветливо и печально улыбался нам, не прекращая резать. Темный подвал с лампочкой Ильича чем-то напоминал застенок.
– Что, Костя, много работы?
– Четыре больших медведя, три маленьких, три орла и два маленьких орла. Ну, погоди до понедельника!
Был вторник. Великий Энку, буддийский монах – скульптор, давший обет вырезать десять тысяч Будд за жизнь – мальчик по сравнению с Константином. Ведь его подпитывало признание! Энку умело ударит топором по бревну несколько раз – Будда готов. Японцы утробно гудят: ооооо. Здесь же вместо этого входит красивый майор. «Смотри, чтобы вся шерсть была, как тогда этому прапору, сука, делал. У командировой жены день рождения, не дай бог не сделаешь. Тогда все», – неумело высказывает свою просьбу майор Спирский. Костя режет, не обращая на него внимания. Стамесок немного – всего штук шесть, полированные, остроты невообразимой. Когда майор уходит, Костя поднимает святое бескровное лицо с неизменной улыбкой:
– Увольнение обещает, может быть, домой съезжу хоть.
То было армия, а мы давайте вернемся в тюрьму. Есть в них что-то общее. Для меня в армии самым неприятным было то, что ты несвободен: нельзя выйти с территории. В армии, очевидно, как и в тюрьме, начинаешь ценить эту возможность. И потому депрессии, которые случаются у многих на свободе, становятся неоправданными и смешными. Выражение Штурмина «от депрессии помогает лагерь» очень точное. Так вот, в тюремной столовой, где мы расположились, помимо деревянных статуэток было много и других удивительных по вкусу предметов интерьера: чеканки, всякого рода панно, всего и не перечислить. Кабаков пытался делать что-то подобное, но ему далеко: сильно недотягивает. Сидим. Вертухаи оказываются простыми, радушными людьми. Кто знает, какие они с зэками. Полковник послал за ней. Привели. Сдержанна и неприступна. Одним словом Данте. Как-то видел интервью с Джоном Ленноном: перед ним зудели скучные вопросы, будто рой надоедливых комаров, а он редко и вежливо отвечал в своем дзенском стиле. Невпопад, нелогично, сплошное «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Она вела себя похоже. Видимо решила, что она великий скульптор. Я как клоун с пряниками, кисточками, чаем и красками пытался разговорить ее, но ответом было достойное вопросительное непонимание. Лет через пять после этого мне сообщили, что она умерла на воле. Цветные скульптуры ее так и расставлены по территории: Пётр Первый, лебеди с оленями, что-то типа русалки, прототип моего деревянного князя Дмитрия были, к сожалению, плохими. То есть не имели к искусству, даже наивному, никакого отношения. Чуда, на которое я надеялся – встретить самородка в застенках тюрьмы, – не случилось.
Исключение
Осетинская школа скульптуры – это великолепное, самобытное явление. Родоначальником плеяды является Сосланбек Едзиев из горного села Ход, родившийся в середине девятнадцатого века в семье каменщика. Его наивные надгробные обелиски пронизаны высоким стремлением напомнить о хорошем человеке, погребенном здесь. В них нет ни намека на штамп или прием.
Вот сила. Да, выше мы говорили о необходимости того, чтобы скульптор был максимально осведомлен и «насмотрен». Но в данном случае мы сталкиваемся с исключением из правил. Налицо дуальность: правильно так и так. У Сосланбека, видимо, была минимальная возможность видеть какие-либо скульптуры. Максимум на картинках. Эрудированность ему заменили дух, искренность и честность, а насмотренность – горы, облака, горные реки, человек. Не могу отвечать за сказанное, не изучал вопроса, но судя по неповторимости и мощи эмоциональной наполненности образа, это так.
Благодаря ему появилась целая плеяда замечательных осетинских скульпторов: ушедший Лазарь Гадаев, Володя Соскиев, Алан – мой друг и помощник.
Эксперимент
Июль. Плохо работается. Духота. Достают своим иезуитским писком империалистические комары, начиненные вирусами. Нереальных размеров оводы и слепни тучей носятся за нами с Тюдором в полях, не дают нормально поскакать. Все не так! Это, видимо, возраст. Пенсия. Телефон еще этот чертов забыл выключить.
– Алё.
– Алексанюлянч, вы не забыли? Завтра принимаем! – лисья скороговорка декана.
– Кого и куда?
– Абитуриентов к вам в мастерскую.
– Слушай, примите сами, – нужу я.
– Нуу, Алексанюлянч, это же в вашу мастерскую, – нудит в ответ Галим.
– Ладно, жизни нет с вашим институтом.
А сам думаю: все! Последний год, сил моих больше нет, ну сколько можно.
Московские пробки. Сижу как пень в железной коробочке на колесиках, изредка давлю на педаль. Опаздываю.
Когда приезжаю, меня встречает мой Спиноза-водитель. Спиноза – потому что тот еще любитель философских рассуждений. Сообщает очевидное:
– Вас уже ждут все.
– Подождут. На вот, водки купи, вина, воды, ну квасу там, закуски.
– Какой?
– Трепангов с лангустами.
– А?
– Сообразишь, не маленький.
Это у нас традиция отмечать приемные экзамены.
Родной запах художественного вуза: масло, скипидар, темпера, пластилин. Несуразный интерьер вестибюля. Тишина. Есть в этом нечто волшебное.
В деканате скульптуры, который располагается в маленьких двух комнатках, аншлаг. Спасибо Переяславцу – отучил всех целоваться, а то художники любят. Накинутся с чесночно-перегарными оттенками в бородах и норовят всего обслюнявить. Откуда у них это? Но скульпторы теперь не такие, почти не пьют.
– Всем кюю, – как обычно приседаю я с похлопыванием по щекам, респект Георгию Данелии. Надо отучаться, а то и ректор в коридоре со мной так недавно поздоровался под недоуменными взглядами второкурсников.
В приемной комиссии обычно человек восемь-десять. Лезем из кожи, стараясь быть объективными. Скучная неинтересная миссия. Примерно одно и то же во всех аудиториях. В большой и неуютной на третьем этаже мое внимание останавливается на скульптурах и рисунках повышенной страшноты и выразительности. Особенно скульптурный портрет с натуры. Асимметричный, безо лба и без затылка, глазки как у вареного судака, на разном уровне. «Сам Микеланджело бы так за две недели не слепил» – повторяю свою надоевшую всем шутку. – «Кто это, не знаете?» – обращаюсь к педагогам, которые обязаны присутствовать на экзаменах.
«По-моему, это девочка, такая маленькая», – тараторит скороговоркой декан. – «Найди ее мне после экзаменов. Не забудь. Сделаем с ней шедевр».
Месяца через четыре, уже зимой, поздно вечером ко мне в мастерскую на Арбате пришла Саша Рогоза с папой. Мы познакомились. Я поведал им свою идею, и работа началась. Невысокая, хорошенькая, хрупкая 19-летняя Саша оказалась обладательницей мужественного характера. Получив от меня задание, которое заключалось в том, чтобы вылепить из пластилина играющую на баяне девушку в юбке, зубастую, высотой сантиметров восемьдесят, она на следующий день приступила к работе и вскоре, недели через три, показала свою скульптуру. Мои ожидания оправдались. Потом я поработал при ней часа два (важно, что при ней), объясняя, что и почему я делаю. Финита ля комедия. Шедевр состоялся. Подписанный: А. Рогоза, А. Рукавишников. Да, ladies first. Позже, отлитый в бронзе, он с успехом экспонировался на экспериментальной выставке «Из князи в грязи». Но это уже следующая история.
Из князи в грязи
Закончив Суриковский институт с хорошими отметками, я никак не мог отойти от учебного рисунка. В скульптуре постепенно начало получаться еще в институте, а на плоскости – ну никак. Замахиваешься на великое, а выходит учебная тоска; правильная, хорошо закомпонованная, крепкая тоска. Изучал великих – самым крутым я считал Пизанелло. Изучал древних японцев и китайцев. К слову сказать, попадаются удивительной красоты китайские художники, обратите на них внимание. Изучал
наивных и примитивных, смотрел умалишенных дикарей, добрался до эскимосов и чукчей. Кстати, наших от американских отделяет километров пятьдесят – знаю, бывал на Чукотке. Как-то по просьбе Романа Абрамовича ставил в Анадыре памятник местному писателю Юрию Рытхэу. Рытхэу пешком ходил на их территорию со своим товарищем. Так вот, наши художники-косторезы делают одинаковые всем известные сюжеты на продажу – охоты на моржей и прочую убогую сувенирку. А такие же эскимосы там рядом – гениальные произведения. По идее, должно быть наоборот, там ведь устоявшийся мир денег и чистогана. Но увы, факт.
Так вот, рисунок и его поиски. Я менял размеры листа, царапал на ржавом железе, рисовал на рубероиде и т. д. Бесполезно. Ничего не выходило.
Вот плоды этого хваленого классического образования! А на деле русская школа изобразительного искусства годится только для того, чтобы выделиться на молодежных и всесоюзных выставках, злился я. Как было бы здорово ничего не уметь и рисовать, опираясь только на желание создать великое произведение. И на искренность. Видимо, можно как-то вводить себя в это состояние. Как делали, наверное, неординарные, совершившие прорыв в музыке двадцатого века люди: Шостакович, Джоплин, Шнитке, Хендрикс, Заппа, Веберн.
В какой-то момент мне стала яснее задача: по крайней мере, она была сформулирована. Уметь переключаться как в скульптуре: то идиот, то гений, то академик, а то ремесленник. Просто звучит вроде бы, а вот так вот сразу фиг сделаешь и фиг поймешь, а главное – фиг применишь.
Шли годы – такие, сякие. Я много рисовал. Даже купил в этом году землю под запасник для картинок. Дешево продавать жалко, а дорого не пришло время. В 2012 году я открыл «Рукав» – арт-пространство в районе Таганки, где молодые художники учат людей разного возраста азам изо. Это свое детище нечасто навещаю: хватило всего этого в институте. С вывеской заведения и названием долго не мудрствовал – Рукавом меня зовут со школы. Сейчас мои студенты, опаздывающие в институт, частенько спрашивают у моего водителя: «Давно Рукав приехал?» Да я и нетленку свою подписываю RUKAV. Или РУКАВ. Зависит от предполагаемого места обитания произведения. Фамилию мою иностранцы выговорить не могут, а отчество и подавно.
Когда «Рукав» открывали, мне стукнуло шестьдесят два. В прошлом веке, особенно в детстве, часто задумывался: какими мы будем в двухтысячном году. Да ладно, когда ещё это будет – успокаивал себя я. А вот наступило и ещё плюс двенадцать лет. И что же? Еще тренируемся (не так, как раньше, конечно). И реагируем на форму красивой женской лодыжки. И даже перечитывая этот текст спустя восемь лет его написания – все то же самое. И спустя восемь лет после открытия я подумал: а может, и мне чего-нибудь оттопырить на старости лет? И оттопырил.
Попросил кинуть клич, что, мол, собираю центральную, экспериментальную группу. Да, так и назвал. Подумал, что буду ее тренировать нетрадиционным способом целый год, итогом которого будет выставка с каталогом. А на выставке – будут экспонироваться работы этих экспериментальных учеников вместе с моими.
Вот тут и пригодятся мои мытарства с обучением творческому рисованию, и дзенский подход к творчеству, и выведение на первый план искренности и спонтанной, закономерной последовательности, думал я.
Группа набралась. В большинстве своем люди убегали, послушав мою невнятицу несколько занятий. Оставшиеся приводили новых несчастных. Наверное, говорили что-то в духе: он не в своем уме, но вроде бы добрый и не кусается. Постепенно сформировался костяк. В основном женщины среднего возраста, несколько мужиков – все состоявшиеся в своих профессиях люди. Они вскоре сняли приличный подвал неподалеку от «Рукава», завезли туда все необходимое, и понеслось.
Трубка регулярно говорила вкрадчивым голосом: «Когда вам будет удобно? Мы ждем». Моя секретарь Полина тоже передавала их просьбы заехать. Я старался появляться более-менее регулярно. Немного помогал лепить, но больше объяснял, почему лучше так, а не эдак. Мне было интересно работать с ними, да и привязался я, что естественно. Все стали для меня родными. Художники – люди эмоциональные.
Иногда было жестко и бескомпромиссно. Некоторые обижались, упрямились, но достаточно быстро меняли мнение и «слушались». Когда я видел халтуру, сразу говорил, что так на выставку не пойдет. И все переделывалось.
Сделать дизайн помещения выставки труда не составило. Длинное неудобное помещение в виде кишки затянули черным материалом, сделали точечный направленный на пол свет, поставили обычные ведра, полные цветов, даже стенку падающей воды взяли в аренду. Заказали каталог. Что было непривычно для меня – они платили за все сами. Ну, правда, и учил я их бесплатно.
Вернисаж получился замечательным. Народу все прибавлялось, хоть помещение уже было заполнено до отказа. Все были торжественны и нарядны. Некоторых авторов я даже узнал не сразу: так они похорошели. Привык-то я видеть их в одежде для работы.
Пришли великие всех мастей. Открывали выставку мои близкие друзья академики Михаил Переяславец и Константин Худяков, сказали очень правильные и доброжелательные слова. Наконец всех запустили в зал, а я с чувством выполненного долга пошел выпить водки и закусить пирожком.
Как я оказался в Сурке во второй раз
В середине девяностых, когда скончался Олег Константинович Комов, мне позвонил Лев Шепелев, ректор института, и предложил возглавить осиротевшую мастерскую. А я на тот момент кроме каратэ никогда ничего никому не преподавал. Поэтому сразу отказался. Но в силу молодости и глупости, а также не без убедительных доводов моего друга Левы я в итоге как-то незаметно для себя согласился, хотя всегда считал, что скульптуре научить нельзя.
Встретившись впервые с ребятами с разных курсов, я понял следующее: преподавание скульптурного мастерства – дело непростое. И делать это, как принято, я не буду. Слава богу, другую мастерскую на факультете уже в течение года возглавлял мой друг Миша Переяславец, с которым можно было посоветоваться. Так мы с ним смело поменяли большую часть программы. Часть времени на первых курсах мы отдаем под выявление и распознавание склонностей индивидуума. Я не настаиваю на своих принципах, как это делал, например, известный скульптор и знаменитый своими фортелями педагог Михаил Федорович Бабурин. На мой взгляд, он, будучи прекрасным мастером, слишком жестоко ломал обучающихся, не обращая внимания на их предрасположенность к тому или иному направлению. Что я имею в виду: представим себе, как Леонардо учит Ван Гога, а Микеланджело – Генри Мура. Наверняка какие-то моменты в их методе совпадают абсолютно. Но если бы Ван Гог и Мур приняли советы напрямую, мы бы не увидели их творчества. Их бы просто не было в истории искусства. Но Бабурин, видимо, такой точки зрения не разделял. Легенды о нем ходят до сих пор. О том, например, как в ночь перед дипломом готовые статуи летели в окна с четвертого этажа. Или как лопатой была пошинкована не одна обнаженка. Он не терпел посредственности и робости. Не исключаю, что его от этого просто выворачивало физически. Воспитанный на Древней Греции и Возрождении, он настаивал на подражании и плевал на тех, кто за глаза его называл «ложный классик». А еще он был трудоголиком: месяцы проводил в грязном холодном цехе на Профсоюзной, делая громадные статуи. Многие десятилетия его сопровождала верная муза Галя, пожилая седая женщина со следами былой красоты. Сделанная ею мемориальная доска и ныне украшает Музей Конёнкова. На мой взгляд, ее подвиг равен подвигу святых великомучеников. Для нее не существовало ни ночей, ни праздников, ни выходных. Одержимый Михаил Федорович на нее внимания не обращал. Роль ее заключалась в том, чтобы восхищаться его мастерством и чтобы он хоть чем-нибудь закусывал. Сварщик Толя Козлов, попавший по воле рока в этот смерч творчества, рассказывал как-то: «Прикорнул я. Ночь же. Пошел пописать. Вижу: Бабурин лежит навзничь под двенадцати метровым «Лениным». Если не ошибаюсь, это была модель для двадцати семи метровой статуи для Владивостока. Галина скамейка была пуста. В углу рта дымится смятый окурок «Беломора». Я подбежал к нему и говорю: «Михаил Федорович, что с тобой?» «Ты думаешь, я пьяный? – грассируя рычит маэстро. – Я в гакурсе смотгю».
Дзен в помощь
Когда я только заступал на должность, сразу придумал, что мое преподавание в Сурке будет… немного дзенским. И поймал себя на мысли о схожести с персонажем Евгения Леонова из фильма «Полосатый рейс». Для тех, кто не видел: герой фильма – вынужденный изображать дрессировщика мясник, который периодически применяет терминологию, связанную с разделкой туши, вместо понятий из анатомии тигра. Так и я, идя путем постижения боевых дисциплин и опираясь на древние восточные философские идеи, внедрял все эти атрибуты в обучение скульптуре.
Что я имею в виду. Сначала необходимо всерьез овладеть базовой техникой. Вуз-то академический! Пока ученик не добился этого, дальше идти ни в коем случае нельзя. А вот потом наступает самое сложное и интересное: это не натаскивание, не воспитание себе подобного, а воспитание самостоятельности и смелости в принятии неординарных решений. Достигается эта цель тем, что опровергается все то, чему учили долгий период времени. Для этого по возможности нужно быть раскрепощенным и неожиданным, не допускать ремесленнического, успокоенного подхода к банальному сюжету. Не допускать обычных сценариев. Этот метод я взял как раз из искусства боя, в котором категорически нельзя быть привычным и удобным. Бывая в боксерских залах, мы часто слышим: «Начинаем легко, осторожно, прощупываем, убыстряем темп или ускоряемся в каждом раунде, а в финале – жесткая концовочка» и тому подобная ерунда. Тренеры не виноваты, они хорошие, честные люди. Просто их так учили еще в СССР, где бокс строился на гуманности, спортивном поведении, одним словом – джентльменстве. Константин Цзю, известный безупречной техникой джентльмена в боксе, как-то проиграл англичанину, который навязал ему «грязный бой», вися на нем, нанося удары локтем и предплечьем. Видимо, он внимательно изучал бои Константина. Думаю, лет на десять раньше победу англичанину не присудили бы. Другие времена, другие принципы.
Красота
Дорогие женщины, иногда у вас складывается ошибочное мнение, что лицо человека состоит изо лба, носа, щек и подбородка, а важнейшими деталями являются губы и глаза (лучики души). Или что-то типа того. Так вот, в основном женщины смело начинают все это корректировать, наивно полагая, что это улучшит их внешность. Они не берут во внимание тип своей головы, угол лица, посадку головы на шее, длину и толщину последней и многое, многое другое. Они обычно ориентируются на детали лиц кинозвезд. Тоже идиотизм, так как важен контекст, образованный остальными деталями. Результатом, к сожалению, является недоумение всех тех, кто их раньше знал и любил.
Портретист-скульптор (хороших имеем в виду) знает, насколько микроскопической может быть единица действия для глобального изменения образа. Поэтому необходимо, чтобы именно скульптор, соображающий в структуре объемного конструирования, сделал остроумный и, самое главное, оптимальный проект изменения лица, используя отформованный слепок с лица клиента или других частей тела, естественно, согласовав его с заказчиком. Важно, чтобы модель была натурально затонирована и волосы по цвету и по форме соответствовали прическе заказчика. Иначе клиент не сможет абстрагироваться и затоскует, увидав свою физиономию белого цвета и без волос. Потом заказчик находит хирурга в той или иной стране, которому он доверяет, показывает ему объемную модель, сделанную каким угодно способом, выясняет, сможет ли доктор это сделать и гарантирует ли он последующее сходство с моделью. Если хирург соглашается, то заказчик предупреждает, что результат они вместе будут сравнивать с эталоном. Серьезное дело все-таки ваша внешность.


