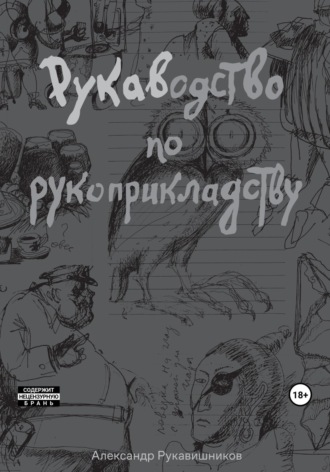
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Настрой и дух
Те, кто исполнен музыкой, услышат вздох всеобщей души,
если не сегодня, то завтра.
Александр Блок
Я заметил, что люди хорошо рисуют, когда разговаривают по телефону. Почему это происходит? Потому что они не стараются. Это действие сродни такому штукарству, когда рука подсознательно делает то, что надо, а голова занята чем-то другим. А бывает наоборот: пустой холст, неимоверная концентрация и сосредоточенность, висящая над тобой мечом ответственность, и… ничего! Тормоз. Мастер «разговоров по телефону» идет от частного к общему, не задумываясь о правильности композиции, пропорциях (респект Павлу Николаевичу Филонову). Очень важно научиться входить или, точнее сказать, вводить себя в правильное состояние готовности к творческому процессу. Наступление этого состояния – когда налаживается незримая связь со Всевышним – я провоцирую уборкой в мастерской. Заметил эту закономерность случайно. Наступает ночь, очередная порция дров догорает в буржуйке и вроде бы можно заканчивать и идти пить чай. Начинаешь подметать вокруг станка и собирать стеки. Ты мимоходом бросаешь взгляд на то, что делал целый день, и вот тут-то и начинает страшно переть. Ладно, думаешь ты, еще один кусочек, ой, прошу прощения, «одна единица действия». Но оторваться уже невозможно. Думаю, именно это состояние имел в виду великий Булгаков, когда придумал фразу: «Роман летел к концу».
Теперь я вынужден убираться утром, раскрыв незавершенное произведение, и как бы невзначай, проходя мимо с веником, поглядывать на него. И что вы думаете? Ни фига, ни фига, долго ни фига. И вдруг… Есть искра. Мотор завелся, потихонечку поехали. Летим!
Когда упорно и самозабвенно работаешь над скульптурным образом человека, которого ты боготворишь за что-либо: за его подвиг, дела или творчество, причем абсолютно неважно, когда он жил на Земле – недавно или много веков назад, или вообще не жил, – иногда, нечасто, на определенном этапе, ближе к завершению статуи, у меня возникает непередаваемое чувство: дух его или нечто подобное как бы появляется в скульптуре, подселяясь, что ли, незаметно заполняя форму. И вот ты, уже продолжая работать над образом в глине, например, осознаёшь, что перед тобой больше, чем глина. Что перед тобой он, но в какой-то потусторонней, торжественной ипостаси. Проснувшись, ты не едешь в мастерскую, а едешь к нему, он же ждет тебя. Плохо одно: бывает, начинаешь осторожничать, бояться не испортить. Бояться необходимо. Получившиеся куски беречь и совершенствовать можно только тогда, когда поймано то самое состояние. Вообще стараться не переделывать без нужды. С ним можно разговаривать как примерно с кем-то находящимся в коме – то есть, скорее всего, он не слышит тебя, но чувствует или, может быть, даже видит тебя и по-доброму к тебе относится. Как бы внутренне кивая тебе и то ли благодаря, то ли подбадривая тебя, мол, «давай, старик, – мочи!».
Ангелина
«Саш, а давай сделаем богатыря! Большого, цветного, красивого. Давай представим, каким он был: какая у него мощная фигура, какое лицо, доспехи, оружие! А когда закончим, покажем папе, деду, бабушкам. Неси пластилин, стеки, все необходимое, садись поудобнее» – примерно так говорила мне мама еще совсем маленькому. Грамотно затаскивала ребенка в профессию. Лет через десять будет: «Сядем поуютнее, накроемся пледами и посмотрим иллюстрации в старинной книге о замечательном венецианском художнике Тинторетто. Он жил в шестнадцатом веке… Смотри, как на темном фоне работает голова старика. Как брутально. Видишь, как сильно отличается от венецианца Веронезе, потому что та-та-та…»
Как хорошо с умной и красивой мамой в пледе на антресолях в дедовской библиотеке. Тикают часы. Дед стучит фигурами, решая шахматные задачи. На улице холод, а мы здесь, вместе. Да, она умела создать правильную атмосферу. Раздаются нетерпеливые звонки в дверь. Там актерский дуэт Николай Олимпиевич Гриценко с Ирой Буниной. Ира красивая. Она мне нравится. Ира моложе всех в доме. Ей, наверное, было лет тридцать, мне двенадцать, но несмотря на разницу в возрасте мы с ней друзья. Смотрим вместе фильмы по телику, беседуем. Я её рисую, за ужином сажусь рядом. Сейчас понимаю, что она была просто добра ко мне и умна, относилась снисходительно. Счастливое время! Школа ещё не достаёт так сильно, часто ходим в Театр Вахтангова, где служат Гриценко и Бунина. Кстати, а вы знали о том, что вахтанговская школа строится на том, что актёр настолько вживается в образ, что на сцене может свободно импровизировать? Я убедился в этом, став свидетелем одного случая.
Для начала скажу: в вопросах пьянки все окружавшие меня в то время взрослые, в основном мужчины, были, что называется, чёрными поясами. Выпивали красиво и помногу. Один из таких раутов начался довольно рано, днем. Вот по какому случаю: как-то деду Николаю прислали приличного размера чемодан ростовских раков. Страшный дефицит! С пивом в СССР в то время тоже была проблема. Позже, помню, придумали покупать билет в кинотеатр и затариваться в буфете пивом. Но это мы, беспомощные подростки, а те – крутыши. Позвонили дяде Юре Нероде, и он не замедлил появиться с багажником, полным коробок пльзеньского пива. Помню, как молодежь (мы с Буниной) уморились таскать их на четвертый этаж. Решив после пива повышать градус, народ дошел до песен и танцев, незаметно уйдя в ночь. Утро медленно сползало в вечер, во время которого всех занимал вопрос: как же выйдет на сцену Гриценко? В тот знаменательный день давали «Турандот». Николая Олимпиевича папа повез в театр пораньше и потом вернулся за нами. Мы сидели, ясное дело, в первом ряду – по блату. Вскоре после начала спектакля Тарталья, которого играл Гриценко, подошел к рампе и, наклонившись к нам прямо во время действия, сказал: «Злоупотребили с вами вчера пивком с раками, еле на ногах стою, а вы как себя чувствуете? Скоро продолжим!» Смеялся тогда только первый ряд.
Помимо монументальных произведений и станковой пластики в семье занимались медальерным искусством. В СССР выпускались памятные медали к всевозможным датам. Лет в пятнадцать я уже помогал маме в этой специфической работе. До сих пор не могу простить себе некоторой наивности жеребца на реверсе Багратиона. Но, видимо, все-таки что-то да получалось, потому что папа спустя время тоже начал поручать мне фрагменты. В те далекие годы делалось это так. Бралась ненужная виниловая пластинка Тамары Миансаровой или Эдуарда Хиля (благо в такого рода исполнителях в стране не было недостатка). Затем покрывалась слоем пластилина в один сантиметр, потом при помощи полотна от ножовки по металлу сдергиванием то зубастой стороной, то ровной делался идеальный диск, который и являлся основой для будущей медали. Самое важное – придумать аверс и реверс. Ха! У нас же есть библиотека, а там и Древний Египет, и Греция со своими медалями, Ассирия с рельефами, европейское медальерное искусство разных веков, любые шрифты… – и все по накатанной, как в детстве, опять с любимой мамой на тех же антресолях. Правда, уже без деда. Кропаем вместе. Вечером вернется цензура в виде Иулиана, покажем. Будет совместное обсуждение, нечто вроде семейного худсовета. А потом – самое приятное – поездка в Питер (в нашей семье он всегда оставался Питером, никогда не был Ленинградом) на Монетный двор.
На Монетных дворах в Москве и Питере медали уменьшались до нужного размера – примерно до пяти сантиметров в диаметре. Потом автор подписывал акт приемки и получал несколько медалей в бронзе. Бесплатно, в маленьком холщовом мешочке, завязанном бечевкой с сургучной печатью. Ангелина каждую такую поездку превращала в чистую магию. Заказывалось СВ на лучший ночной поезд туда и обратно. По приезде нас на вокзале уже ждала машина с Монетного двора. Она с водителем в нашем распоряжении два дня. Гостиница? Только «Астория» с Николаем Первым перед ней, детищем барона Клодта. «Хвостом не упирается, стоит на двух тонких опорах, чудо! В статуе, видимо, противовес и рессоры проходят через скакательный сустав, до плинта и в плинт», – восхищаемся мы с мамой, каждый раз входя в гостиницу и выходя на улицу. «Но постаментик, несмотря на время, все-таки аляповат, как думаешь?» – как взрослый говорю я. «Если честно, всегда так думала», – отвечает она.
Нам интересно вместе.
Поход в Эрмитаж – это, конечно, здорово, но главное – обед. Ясное дело, только в лучшем ресторане.
«Что будем пить?» – спрашивает Ангелина у подросшего сына. «Давай шампанское за медаль». – «Давай». Никакого ханжества. Респект родителям, что никогда не было запретного плода. Потому и не стал алкоголиком. А потом в Мариинку или в кино с мамой-подругой. И обратно в столицу.
У нас с мамой была совершенно особая жизнь, общие тайны, секреты, свой непонятный никому язык жестов. Рассказывая свои истории из детства, она привила мне любовь к балету и цирку: отец постоянно таскал ее с собой в цирк на репетиции. Маленькая Ангелина была там как рыба в воде. Часы, проведенные в цирке, в итоге вылились в сотни удивительных набросков и композиций.
Я и сам не заметил, как наступило время, когда мои друзья «трезвенники-интеллектуалы» начали классе в восьмом влюбляться один за другим. Так вот со своими душевными терзаниями и за советами они непременно шли к ней, мудрой Ангелине.
Когда я был маленький, у нас дома всегда стоял запах хлеба; этот запах мне особенно запомнился. Папа укладывал хлеб прямо на газовую горелку, и буханка немного обугливалась. В день, когда Ангелины не стало, мы с папой и Филиппом молча сидели на кухне, а хлеб подгорал и дымился, прямо как тогда. И снова был запах детства, старого нашего дома, когда все еще было в порядке и были живы бабушки и дед. Папа в тот день вспоминал всякие ее хулиганства и как они с Ангелиной познакомились. Еще абитуриентом, он пришел в Сурок – кажется, узнавать про поступление. Там во дворе в тот момент ошивались какие-то уже студенты. Из компании этой до него донесся хриплый голосок, рассуждавший о том, как было бы здорово в этот жаркий день выпить холодного сухого вина. Про этот хриплый голос он довольно часто вспоминал.
В общем, неудивительно, что с таким детством дорога мне была заказана в один институт – Сурок. Поступал по блату, предупреждены, говорят, были все на всех факультетах. Учась на первых курсах, я постепенно начал помогать лепить скульптуры – сначала Ангелине, а потом ее подругам. Чаще всего – красавице тете Зине по кличке Кошка. Мы жили в одном дворе, на Маяковке. У нее был большой серый кот Киссенджер и толстый сын Сережа по кличке Satisfaction. На несколько лет моложе меня, он всю юность растил светлые волосы и правдами и неправдами собирал коллекцию винила. Кошка славилась фигурой и статусом любовницы Павла Ивановича Бондаренко, который, в свою очередь, славился тем, что был ректором Суриковского института, установил титанового Гагарина на Ленинском проспекте, а в войну партизанил, ловил и уничтожал фашистов, как мух. Одного его слова в институте было достаточно, чтобы все забегали и всё беспрекословно завыполнялось.
Как-то мама, вроде невзначай, упомянула, что тетя Зина получила заказ и лепит трех пионеров с горнами. И что, мол, было бы неплохо заехать к ней в мастерскую – помочь. Я страшно загордился, почувствовав, что кому-то нужен. И не кому-то, а самой Зине Шестеркиной, вожделенной мечте юности. Кстати, в отличие от Набокова с его Лолитой, меня всегда привлекали не девочки, а дамы постарше – с определенного возраста я был влюблен во всех маминых подруг одновременно.
Зинина мастерская находилась где-то в районе Песчаных, левее Сокола, если смотреть от центра. Мы с мамой вошли в обычный полуподвал с неполноценными окнами. Всё в нем было кукольно аккуратно. На видном месте висели фотографии солдат, и поныне украшающих мост на Ленинградском проспекте, и «женщины с корабликом», которая венчает входную группу Речного вокзала. Она очень гордилась этими работами.
Стол, накрытый красивой клеенкой, ломился от вкусностей.
– Кофейку? – потирая холеные ручки с безупречным маникюром и множеством породистых колец, предложила потенциальный автор «пионеров».
Я промямлил:
– Может, сначала полепим? Где «пионеры»?
Хотя есть и хотелось по молодости.
– Успеем, – успокоила хозяйка. – Откройка шампанское нам с мамой. А ты за рулем, пей кофе или «Буратино». – Мне совсем недавно родители подарили «жигуль», и я чувствовал себя крутым.
После легкой получасовой трапезы я, открыв второе шампанское, пошел в другую комнату к «пионерам». А Зина с узким бокалом и ментоловой сигаретой, с которой никогда не расставалась, в одной руке и стекой в другой последовала за мной. Мама с какой-то книжкой зависла у стола.
– Натурщице позвонила, сейчас придет, рядом живет, – сообщила Кошка.
Композиция была раскрыта. Я был «поражен» смелости пластического и анатомического решения. Каркасы лезли из всех мест и качались. Размер фигур был не настолько велик, чтобы убить при падении, разве что покалечить. Укрепив их слегка, приступили к работе.
Происходило это так: я лепил, Зина наподобие автомата за мной замазывала. Появилась натура с бутылкой красного донского игристого. Это была смазливая, во вкусе Льва Толстого, с темным пушком над верхней губкой, невысокая жопастая взрослая девушка с толстыми ногами и аккуратной грудью. Она сразу разделась, оставшись в лифчике и трусах синего цвета. Взобралась на подиум, который был рядом со станком. И начала принимать разные позы, примеряя гримасы независимости. В скульптуре одно время была мода на подобное телосложение, очевидно от Сарры Лебедевой.
Тетя Зина не унималась и добросовестно портила всё, что я делал. Я пошел к маме и настучал на скульптора и модель. Она их забрала в своей лаконичной манере: «А ну-ка на х..р все отсюда! Так он никогда не закончит. Пошли лучше выпьем!» Когда женщины удалились, я быстренько привел всё в относительный порядок. Часа через два мы ехали домой на Маяковку, Ангелина с Зинаидой, сидя на заднем сиденье, пели Вертинского, а модель осталась в студии убираться. Проводив автора до квартиры, мы пошли домой. Иулиан открыл дверь: на пороге стояли, обнявшись, мы с мамой. Посмотрев на нас поверх очков, он со смехом заметил: «Если часто будете помогать Кошке, сопьетесь».
Иулиан
О проснись, проснись,
стань товарищем моим,
спящий мотылек!
Басё
(перевод В.Марковой)
Но зато не унизив ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел…
Надо мною стояло бездонное небо,
Звёзды падали мне на рукав.
А. Тарковский
У семьи Рукавишниковых есть дворянский герб – башня-тура с вырывающимися из нее языками пламени. В декабре 2000 года я работал в Вероне. Мне позвонили – папе плохо. Я купил билет на ближайший рейс и поехал в аэропорт. Самолет в Москву улетал утром. Я ехал по предрассветной декабрьской промозглой Италии и вдруг увидел перевернутую горящую фуру – пламя бушевало, озаряя небо рыжим. Подсознательно понял, что папы больше нет. В Москве через несколько дней после прощания неожиданно ночью загорелась и сгорела дотла баня на даче. Пусть кто-то думает, что это совпадение. Я думаю иначе.
Папа Иулиан. Великий скульптор. Так считалось у нас в семье. Об этом, правда, в пору моего детства кроме нас никто не знал. Да, я уверен: он заслуживал куда большей славы. Возможно, просто родился не в то время и потом не был в полной мере оценен. Красавец, душа компании, очень принципиальный, упрямый и последовательный. Причем он всегда был прямолинеен невзирая на личности. Он просил, или правильнее сказать, спокойно приказывал, и тут же все исполнялось. Когда ему нужен был для композиции плащ агронома, его искали все знакомые, родственники и соседи. Друг всех шаромыжников на улице. Очередь людей с украденной из посольств резиной для автомобиля и другими дефицитными предметами то и дело возникала у нашего дома. Король запасов. Когда его не стало, я со своими товарищами несколько недель разбирал гаражи, кладовки, выбрасывая детали от автомобилей, которые к тому времени не выпускались уже лет двадцать. Со мной маленьким – всегда ласков, ровен, нежен. А еще Иулиан очень любил делать сюрпризы.
Тут нужно отметить, что при тоталитарном режиме скульпторы неплохо зарабатывали. Мраморные бюсты вождя назывались «огурчиками», «куличами», «лукичами» и были востребованы в неограниченных количествах. А папа был признанным ленинистом. Он превращал этого невзрачного плюгавого человечка в серьезные по пластике монументальные скульптуры. Творцы часто обсуждали, кто сколько заготовил на зиму. Заказы на это великолепие поступали от специально обученных людей в черных габардиновых костюмах с портфелями. Одного из них прекрасно помню. Запах одеколона, смешанный с коньячным перегаром, светло-коричневые сандалии, носки пастельных тонов. По фамилии Нелюсов. Он извлекал толстую папку с заказами и предлагал на выбор: три фигуры Ленина (мрамор) разного размера, восемь его бюстов разной величины, пионер с горном, сидящая Крупская… Громадная страна нуждалась в официальной агитационной скульптуре. А потому периодически денег было много. И тогда сюрпризы Иулиана становились просто удивительными, особенно по тем скромным временам: немецкий катер из массива красного дерева, многофункциональная, тоже немецкая, лодка (был на ней и парус и двигатель), музыкальные центры («Грюндиг», «Филлипсы»). Закупал все это для папы и дяди Юры Нероды маленький, приторно вежливый человечек – регент Алексей Михайлович с высоким, профессионально поставленным голосом, находящийся всегда в неизменно приподнятом настроении.
Как-то папа явился домой с длинным свертком. По его лицу было понятно: внутри что-то интересное. Это была мощная испанская духовая винтовка с оптическим прицелом. Мне было лет восемь и я обалдел. Первое, о чем мы договорились, что я не подхожу к ней без папы. Надо сказать, что я это требование неукоснительно выполнял. Стреляли мы в специально для этого сделанный деревянный ящик, используя мишени, которые в огромных количествах нарисовали и вырезали в детстве Иулиан с братом Сергеем. Это была картонная армия из индейцев, лошадей, рыцарей. Все это освещалось двумя лампочками. Однажды я все-таки не удержался и стрельнул в лампочку. Папа посмотрел на меня и спокойно сказал: «Так больше не делай». Очень политкорректно, хотя я с детства слышал и другие, более сильные выражения. Кстати, Сергей, который был на несколько лет старше папы, куда-то исчез. Темная история. Говорили, что живет он где-то на Севере.
Или еще один случай удивительного подарка. Как-то утром, которое у нас дома началось как обычно – с запаха кофе и позвякивания посуды, – я, лет пяти от роду, на бешеной скорости влетел в спальню родителей и начал им что-то рассказывать, как обычно грассируя и, очевидно, упоминая паровоз. Папа на это все ответил: «Скажешь правильно букву „р“ в слове „паровоз“, куплю железную дорогу из „Детского мира“». Это было чудо, о котором я не смел мечтать: натуралистически сделанные пути, семафоры, вагоны со светящимися окнами, фонари, переключающиеся стрелки, меняющие направление состава, выезжающие из будок с флажками стрелочники, освещенные станции с жизнеутверждающими названиями типа Пионерская, Сосновый Бор, электровоз и разные вагоны были реальными копиями настоящих, подробными, тяжелыми. В общем, такого я не ожидал, даже зная папу. Всю следующую ночь я рычал. Утром разбудил родителей громкими возгласами: «Парровоз! Парроход!». Через час мы были в «Детском мире». И потом чуть ли не до вечера с дядей Колей с первого этажа собирали ее, и она с трудом поместилась в большой мастерской деда Николая. Как сейчас помню: часто, когда весь дом уже спал, мы с мамой лежали вдвоем у железной дороги и до полуночи играли в путешествия. Потом, когда я подрос, она часто брала меня с собой в разные командировки по стране, и мы вспоминали игры в железную дорогу.
Еще помню, что, когда мне было лет восемь, милиционеры из близлежащего отделения милиции под номером 50, которое называлось «Полтинник», рассказывали соседу дяде Коле Виноградову, что всем отделением не могли справиться с неким скульптором, вроде бы лауреатом фестиваля молодежи и студентов, которого потом приехал вызволять юрист Союза художников СССР Абрам Гальпер с уважаемыми «товарищами». Потом помню его, появившегося как после мясорубки, спокойного, всего в гематомах и ссадинах. Шутил, что пуговиц не сохранилось, но глаза, слава богу сохранились. Кстати, драки были у них тогда в порядке вещей. То ли общая атмосфера располагала, то ли народ был другим. Помню обсуждения «славных сражений» то в тандеме с Юрием Неродой где-то на Масловке, то в тандеме с Владимиром Цигалем и женами. Помню еще долгие разговоры, что Лиза Цигаль и Ангелина Рукавишникова виртуозно работали сумками как щитами.
С отцом всегда было как-то уютно. Пожалуй, именно он больше других показал мне важность влияния созданного тобой самим уюта или порядка, что ли, в творческом процессе. Конечно, эти слова очень условны или относительны. Начинать работу необходимо с организации рабочего места, это могут быть самые простые предметы, из которых все складывается: освещение, высота табуретки, высота станка, чисто, тихо. Только тогда можно попытаться поймать нужную волну, связь – как хотите. Несчастные ребята, которым этого не говорят и не объясняют педагоги, просто теряют время. А еще эта банальщина о мнимой благотворности творческого беспорядка. Все равно что заниматься боевыми искусствами, не научившись правильно дышать и контролировать движение внутренней энергии, только на физическом уровне.
Вот только что он звонил и произносил, особым образом растягивая гласные, как бы улыбаясь: «Привет». В этом привете была настоящая приветливость, вместе с тем настойчивость. «Мне нужно посоветоваться, заезжай». Обычно две-три разные скульптуры стоят на небольшом столе, пластилин плохо смешан, пятнистый, обычно уже много сделано.
Вот совсем недавно хохотали, репетируя за кулисами цирка, готовясь к моему юбилею. Замечательная Татьяна Николаевна и Максим Никулины любезно предоставили под это дело Московский цирк. Иулиан Митрофанович и Сергей Шаров принимали в этой авантюре активное участие. Зрительные ряды были превращены в столы, на улице гостей встречали клоуны на ходулях, верблюды, всадники. Папа всегда мечтал всерьез о своем слоне. Я думал, он шутит, но он настойчиво перечислял достоинства слонов перед всеми остальными животными. Мне придумали номер и я репетировал с молодой слонихой, не помню ее имени. Рассказывали, что она была очень буйной, неуправляемой раньше и от нее отказался бывший хозяин, а новому дрессировщику удалось лаской сделать ее кроткой и послушной. Помню, он научил нас класть ей в пасть кусочки рафинада в виде поощрения. Горячая влажная глотка, глаза внимательные, оценивающие, казались недобрыми. Иулиан прогнал меня репетировать другие репризы, а сам остался с ней. Вернувшись через какое-то время, я застал умилительную картину: слониха сидела на заднице, перед ней сидел мой папа на табуретке, подперев щеку, и по-дзенски влюбленная улыбка блуждала на его лице. Пустые пачки из-под сахара аккуратно сложенные лежали рядом. «Ну что, будешь лепить ее портрет или фигуру?» В ответ я услышал: «Безусловно». Как бы это было красиво, если бы он успел это сделать.
Здесь необходимо сказать о выборе сюжетов. Он всегда поражал меня продуманностью композиции до мелочей. Наверно поэтому все вещи его, за небольшим исключением, пригодны для любого, или правильно сказать, выдержат любое увеличение. Часто наблюдаем противоположное: размер большой, а по внутреннему устройству – пудреница или гном на пудренице. Из того, что удалось сделать большим, это «Четыре лилии», «Бабочка на листе», «Улитки» и «Куколка». Не зря он изучал всерьез искусство древних: Египта, Индонезии, Греции, Сирии и Ассирии. В Европе кумирами его были Аристид Майоль, Карл Миллес и Карл Блоссфельд. Блоссфельда он часто брал за основу, говоря: «Здесь все уже найдено». От себя добавлю, менял сильно, чаще в сторону лаконичности. Помню домашние батлы в конце 70-х. Помню вселенский поиск плаща агронома, без которого нельзя было браться за композиционную статую «председателя», очевидно навеянную образом, созданным Михаилом Ульяновым. Пресловутый плащ нужного размера для уже подобранного натурщика никак не находился. Мы с мамой орали, выведенные из себя упрямством главы семейства. И тут пришло приглашение поучаствовать в какой-то экологической выставке на ВДНХ на воздухе, и Иулиан, не без наших настойчивых стенаний, сделал лаконичный бронзовый листик, примерно 90 сантиметров. На фоне остальных опусов имел скандальный успех в узких кругах московских художников. Следующим утром Иулиан проснулся, как говорят, другим – настоящим мастером. Эти удивительные загадочные произведения, особенно в то время, стали рождаться одно за другим, сначала мучительно и редко, потом быстрее, смелее, отвязнее, пока не образовалась вертикальная связь с Всевышним, превратившаяся в мощный поток. Мы с мамой были безумно рады, хотя и являлись самыми непреклонными цензорами.
«Убери глаза».
В ответ его типичное: «Как так?»
«Убери вообще!». «Птичья нога слишком реалистична. Преврати в деталь какого-нибудь механизма».
«Деталь. Да пошли вы».
Надо сказать, что он часто прислушивался и часто соглашался, что поначалу мне было удивительно. Но, конечно, иногда нет. Характер у мастера был не чета моему, я вообще соглашатель, восточный стиль поведения. У нас нет намерений, их рождают обстоятельства. Про себя в одном гороскопе я с внутренним удовлетворением прочитал: Весы – неспособен на подвиг. Иулиан был способен на подвиг. Если он прекращал с кем-либо общаться, то это было навсегда. При этом его все обожали. До сих пор встречаю в разных местах людей которые говорят мне: «Знали Вашего батюшку». А по глазам читаю: «Не тебе чета». Согласен.
Внешне с возрастом, говорят, появляется сходство. А внутренне, конечно, он базальт, а я, наверно, ковыль. Эрнст Неизвестный рассказывал мне в Нью-Йорке у себя в мастерской про сумасшедшего Юльку, который засовывал всех соучеников в Сурке в какую-то печку за то, что они шумели и мешали работать над этюдом с натуры. Когда я, вернувшись, передал ему привет от соученика и спросил про это, он ответил: «Врет. Только его».
Помню, до творческого перерождения ему заказали мраморный портрет Брежнева. Леонид Ильич уже плохо себя чувствовал, и лицо его стало слегка асимметричным. Я помогал. В общем хотели сделать поблагообразнее, кончилось тем, что слепили портрет самого Иулиана размером 5–6 натур. Резчики вырезали его из мрамора, отполировали, и мы, ничего не подозревая, отвезли его и еще какие-то мои работы в Манеж. Сначала ржали все коллеги: «Ну ты, Юлька, даешь! Себя ставишь в Манеже на выставке, посвященной съезду. Да еще в вводном зале». Петр Нилыч Демичев, который был тогда министром культуры, сказал папе при встрече: «Вы, Иулиан Митрофанович, уж как то повнимательней». Или что-то в этом роде. Фразу эту потом долго повторяли как мантру московские скульпторы.
Все любили его. Мы ездили с ним лепить в разные города, даже в самые немыслимые условия: зима, окна выбиты, холод… Помню, я, как-то работая с ним, провалился между досок, поскользнулся на глине и начал падать с лесов, но, расставив руки, задержался на следующем уровне. Он, увидев это, промолчал, а после вечером посадил меня перед собой и рассказал основные правила поведения на лесах. Как сейчас помню, тихим голосом сказал: «Начинай медленно вести себя по системе, и это станет со временем органично для тебя». До сих пор так и работаю на лесах, действительно привык.
Как-то раз я заметил, что, начиная делать один кусок, он практически заканчивает его, а не ползает в «творческом экстазе» по всей статуе, потом следующий, потом следующий. Это абсолютно не значит, что кусок получился, но благодаря этому принципу скульптура двигается к завершению, каждый фрагмент как бы тянет следующий. Многие скульпторы этого не понимают и не умеют, может быть поэтому в наших многострадальных городах мы имеем такие «шедевры». К чему он тоже относился снисходительно, с высоты мастера. Часто с иронией говорил: «Культурка низкая, как могут, так и лепят». Один раз мы вместе ехали в машине с его знакомым архитектором мимо недавно построенного ЦДХ. «Вот еще построили какое-то дерьмо!» Архитектор скромно сознался: «Это я». «Ну что ж ты… » – сильно наехал на него отец. Сидя на заднем сиденье, я пожалел несчастного человека. Папа работал со многими архитекторами, но, пожалуй, чаще всего с Николаем Миловидовым, всегда элегантно одетым, по моде конца XIX века, очень вежливым и эрудированным человеком. Они так курили, что от дыма не было видно ни макета, ни того, что они рисовали. Столько мата я никогда не слыхал ни до, ни после в своей жизни, эпитеты сыпались в обе стороны как водопад.
Мы с ним много работали в Калуге – там находился крупный скульптурный комбинат. Как-то раз с нами поехали мои друзья Витя Колосов и Костя Астахов – двое из ларца.
– Надо бы пожрать чего нибудь, – кричит Иулиан вниз проходящему мимо с ведрами Витьке. – Сгоняй на рынок, ключи от машины в штанах.
– А сумки в багажнике есть, Иулиан Митрофанович?
– Не помню, посмотри. А тебе пары ведер не хватит?
Прошло лет сорок, а выражением «принести пару ведер еды» пользуемся в мастерской до сих пор. Уж очень это по-скульптурному.
На даче в Вельяминово он поднимался с рассветом, я сквозь сон понимал это, потому что Фромаж, наш пес, спавший обычно рядом с моей кроватью, зевал, неохотно вставал и шел выполнять свой долг – наблюдать и ходить за ним хвостом. Тем временем папа занимался своим любимым садом, действительно великолепным. Иногда он делал непонятные мне таинства, например ломал тонкие прутики и рассыпал кусочки в разных местах. На вопрос: зачем? отмахивался, типа не для средних умов. Утверждал, например, что пересаживать и сажать все что угодно можно в любое время года, и на деле доказывал это. Знакомые птицы прилетали завтракать, а сам он завтракал с нами, это обычно происходило часа через четыре. Сидя за столом, делал бутерброды себе и псу.


