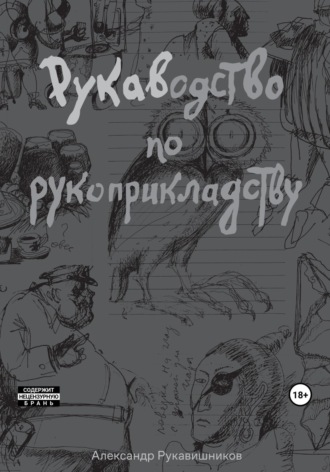
Александр Иулианович Рукавишников
РУКАВодство по рукоприкладству
Есть знаменитая фотография, где Набоков смотрит в объектив поверх пенсне. Она и была взята за основу. Пенсне, конечно, постоянно отрывают от скульптуры. Саркастично настроенный менеджер отеля сказал, что русские туристы очень любят своего писателя, а потому берут пенсне на память. Я спросил, почему он думает, что это именно русские. Он пожал плечами и хихикнул: «Возможно это швейцарцы».
Случай
Суриковский институт семидесятых годов был очень необычным учебным заведением. Едва ты входил в вестибюль, тебя сшибал с ног запах щей из столовой, которая располагалась в подвале. Точнее, вестибюля вообще не было. Войдя, ты упирался в лестницу, ведущую вверх и вниз, в столовую. Там слонялись странные типы в грязной одежде. Иногда мелькала профессура. Модный и популярнейший Таир, любимец молодежи; статный герой Курилко-Рюмин, потерявший руку на войне; скромный и незаметный Алпатов, читавший нам историю русского искусства. Алпатов, которому было, наверное, лет шестьдесят, казался нам, студентам, очень старым. Он тихо говорил, и у него постоянно слезились глаза. Было ощущение, что он оплакивает уничтоженное и все еще уничтожаемое темными и безвкусными дурачками великое искусство. В аудитории на его лекциях было темно: показывались слайды. Только его некрасивое одухотворенное лицо, выхваченное светом настольной лампы, выражало страдание. Михаил Владимирович не то чтобы любил русское искусство, он жил им и в нем, дышал им, и то, что творилось с культурой, являлось для него не только трагедией вселенского масштаба, но и личной трагедией. Таких людей было немного. А когда, например, появлялся сам ректор Пал Иваныч Бондаренко в идеально пошитых костюмах, эдакий Лино Вентура, все вокруг замирало. Спустя много лет, когда я работал над образом Пилата Понтийского, передо мной стоял именно его образ. Поговаривали, что он во время войны командовал большим партизанским отрядом и отличался бескомпромиссной жестокостью к врагу и к своим поскользнувшимся бойцам.
На втором курсе с нами учился Павел Венглинский, он лет на пять старше нас, немного угрюмый, замкнутый. Грубо напоминал актера Урбанского. Про его талант ничего сказать не могу, не запомнилось.
Как-то в актовом зале проходило общее собрание института, что случалось нечасто. В президиуме на сцене сидело человек десять великих: Бабурин, Кибальников, Салахов, Кербель, Бондаренко, Курилко-Рюмин и другие. Когда официальные выступления закончились и было предложено выступить кому-нибудь из студентов, Паша в коричневатой ковбойке, слегка испачканной глиной, спокойно поднялся на сцену. Помолчал, дождавшись тишины, и внятно сказал, обращаясь к президиуму: «Суки, твари, жируете тут, расселись, а мы мучаемся…» – и все в этом роде. Воцарилась тишина, которая продолжалась, как мне показалось, довольно долго. Все оцепенели. А он говорил все громче, переходя на крик, и собирался уже накинуться на кого-то из членов президиума. Но тут его скрутили старшекурсники, сидевшие впереди. Собрание сразу закончилось, что нас всех очень обрадовало, и мы с Переяславцем пошли за пивом. Потом, помню, отправились в Андроников монастырь и жалели Пашку, решив, что его теперь, конечно, выгонят. Пиво было холодное, колбаса вкусная, хлеб свежий, еще теплый.
Придя на следующее утро в институт, я зашел в каптерку за ключом от нашей мастерской. Ключа не было – кто-то приперся еще раньше. «Интересно, кто такой прилежный», – думал я, идя по коридору. Рванув грязную дверь с юношеским задором и приготовившись, как обычно, шутить, я чуть не врезался в чьи-то ноги. Паша висел прямо у двери. Ледяной холод пополз вверх по позвоночнику. Я тихо, придерживая, прикрыл грязную дверь на пружине и как лунатик пошел обратно по коридору. Для Сурка подобная смерть не была чем-то из ряда вон выходящим. Неуравновешенные молодые гении выбрасывались из окон, травились и вешались. Один студент из Средней Азии, протестуя, даже отрезал себе член, диплом защищал уже без него. Муки творчества свойственны художникам. Но смерть нашего Паши сильно подействовала на группу. Слава богу, те времена ушли. Теперь всем всё до фонаря. Комсомолу пятидесятых всё было по плечу, а современной молодежи все по х… Наверное, так все-таки лучше.
Танцы
Через мою жену Олю мне вдруг открылся неведомый и таинственный мир танца, ансамблей и вообще балета. Мамины друзья шутили: «Алка, это ты наколдовала своими балетными композициями и сына заразила». В этой шутке была доля правды. Балетные с детства вызывали любовь и уважение. Помню, балерины, приходившие позировать маме, были или казались мне, подростку, такими совершенными созданиями, что меня поражало, что они так же, как мы, говорят, пьют чай, даже кое-что едят, смеются. Правда, весь разговор крутился вокруг сцены. А тут ансамбль великого Игоря Моисеева! Этот легендарный коллектив – целый драгоценный пласт, самобытный и уникальный в мировом масштабе. Организм ансамбля очень непрост: там работают свои законы. Жизнь молодой танцовщицы эмоционально очень напряженная, со своими взлетами и падениями, «внутренними» анекдотами, которые идут нон-стоп. Скажу одно: когда бы ты ни попал на концерт и какое бы у тебя ни было настроение, праздник неизбежно захватит тебя и понесет «вдоль Млечного Пути». А после концерта полет еще долго с тобой. А добиться, чтобы так воздействовало какое-либо искусство, ох как непросто. Поэтому я так ценил наши нечастые встречи с Игорем Александровичем и Ириной Алексеевной. Иру я, правда, знал гораздо раньше, потому что она мама Ленки Коневой. Которая, кстати, с мужем Юрой, моим товарищем и известным в Москве музыкантом, чаще всего и организовывала эти встречи. Сколько интересного таила память маэстро, с кем только он не встречался. Я расспрашивал его о Пикассо, Максе Эрнсте, Манцу. Разговаривая с Игорем Александровичем, понимаешь манеру общения русской интеллигенции (он любил называть себя столбовым дворянином) – все суждения как бы в рамках сдержанности, не доведенные до выплеска эмоций. И только о мировых шедеврах с достойным, но негромким пафосом. На людях он вел себя как Набоков, даже не пытаясь кого-либо узнавать. Его занимал рисунок танца, он всегда творил. Понимая это, я не лез к нему при встрече. Пока Ира не скажет ему: «Лапка! – Саша Рукавишников». Тогда, кротко улыбнувшись, он тянул две руки: «А! Ну как же. Над чем сейчас трудитесь?» Помню его юбилейный концерт, помню гримасу удивления, которой исказилось его лицо, когда в поздравительном обращении со сцены Ельцин назвал его Игорем Моисеевичем. Владимир Васильев, в шутку поздравляя его вьетнамским танцем, чуть-чуть запутался в горизонтальных шестах. Девяностопятилетний Игорь с улыбкой подошел к шестам и станцевал фрагмент правильно! Когда Моисеева не стало, мы с Сергеем Шаровым сделали надгробие на Новодевичьем. Я ощущал ответственность, мы не имели права сделать обычно. Я горжусь этой работой.
Оля была совсем ребенком, когда мы встретились, но какая-то воспитанная ею самой ответственность за поступки, сдержанность, что ли, какая-то взрослость, отличающая ее от других девочек, сразу была видна. Например, она всегда вытаскивала деньги, пытаясь расплатиться за что-нибудь – сама. По некоторым поведенческим нюансам прочитывалось что-то необычное, непривычное для меня. Мне она казалась очень красивой – худую статную славянскую фигуру венчала небольшая, совершенная по форме голова с красивым необычным лицом. Кстати, ее трудно слепить, мы с Иулианом пробовали – получается она и не она. Я делал много набросков с нее, некоторые получились. Ее тогда только начали брать в первые поездки, и в иностранных шмотках с ней даже мне, «непобедимому мастеру», трудно было пройти по улице. Сочетание красоты внешней с красотой внутренней было необычно.
Оля сразу познакомила меня со своими подругами и друзьями. Лену Коневу, проходившую у нас в компании под кличкой Внучка маршала, тремя годами раньше привела ко мне Света Микоян – сестра моего друга Вовы. Они жили на улице Алексея Толстого в новом шикарном доме, занимая целый этаж, с напоминавшим мне молодого Пастернака папой и легендарным дедом Анастасом Микояном. Когда я случайно натыкался на него в квартире, хотелось провалиться сквозь землю – такая значительность исходила от него. Мне сразу вспоминались рассказы папы о его встрече с Иосифом Виссарионовичем. Впрочем, нам, малолетним кретинам, пафосность обстановки этой квартиры не мешала, когда там никого не было, устраивать веселые попойки с беганьем голыми по длинным круговым балконам с криками «Ай кен гет ноу сатисфэкшн», после чего Серго Анастасович говорил Вовке: «Вы бы хоть в трусах бегали и пели бы что-нибудь из Beatles, а то охранники жалуются». Возвращаясь к моисеевцам, вспоминаю веселое, бесшабашное братство, которое представляли ансамблевские ребята и девчонки, и которое мне очень импонировало. Из мужиков своим талантом выделялся Боря Санкин, его цыганское происхождение плюс интеллект и работоспособность, помноженные на природные данные, творили чудо. В танце аргентинских пастухов гаучо все трое из кожи лезут, стараются, а при этом двоих как будто нет, один Санкин. Еще я очень полюбил Колю Огрызкова по кличке Боинг, царство ему небесное. Такую внутреннюю душевность и одержимость любимым делом трудно встретить. Он всегда, в какой бы стране ни оказался, стремился к новым знаниям и сразу, как Иван-дурак, брал быка за рога, учась танцевать в сомнительных портовых притонах, частных школах, городских праздниках. Глядя слегка в разные стороны и вверх, с какой-то внутренней улыбкой, он, находясь рядом с тобой, вместе с тем пребывал в вечности. Ему бы больше подошла кличка Зачарованный странник. В серию о великих я сделал его портрет «Друг мой Колька», украв название у Александра Митты. Первый экземпляр находится в Третьяковской галерее.
С Олей жизнь наша была нескончаемым праздником, с интереснейшими встречами, друзьями и приключениями, описать которые почти невозможно. Двери Маяковки не закрывались ни днем ни ночью, вся Москва считала нормой завалиться к Рукавишниковым. Годам к тридцати пяти меня это начало тяготить. Я наделал ключей от банно-тренировочного комплекса и раздал их друзьям, что оказалось ошибкой.
Туман
Неотъемлемой частью моего счастливого детства были мраморщики. Правильно говорить «резчики по камню», но это профи-сленг. Как правило, то были безмятежные мужики с понятным мужским делом и каменными руками. Иулиану они резали бюсты Ленина – для заработка. И уникальные скульптуры – для искусства. Точнее, оболванивали до оговоренной с ним степени. А дальше он работал сам. Пили эти ребята сильнее, чем скульпторы, поэтому довольно быстро сменялись. Мне повезло: я учился у резчика по камню Виталия Суховерхова, частенько ездил к нему на дачу на электричке. Напротив писательского Переделкино располагалась легендарная Баковка. Именно из нее на рассвете звонил в Кремль командарм Будённый, крича в трубку: «Иосиф! Измена! Меня какие-то пытаются арестовать! Держу оборону». И поливал товарищей, приехавших за ним поутру из «Максимки», предусмотрительно установленного на чердаке. Мне однажды повезло увидеть его на нарядном гнедом жеребце с белыми чулками в компании нескольких всадников. Местные говорили, что он долго еще регулярно ездил верхом по окрестностям. До глубокой старости. Какой молодец! Так вот, дядя Виталий был мастером от бога и так чувствовал камень, что казалось, не режет мрамор, а расколачивает черновую форму, и отлетающие искрящиеся на солнце, куски благородного камня высвобождают уже заложенное внутри изображение. Жена Виталия тетя Валя беспрерывно звала меня то обедать, то попить молочка или холодного кваску. И укоризненно махала на него: что, мол, привязался к Сашеньке со своими железками и молотками?
А сам маэстро работал так. По всему участку – под яблонями и сливами – стояли станки, штук восемь–десять. На каждом высилась начатая скульптура из камня, рядом – гипсовая модель. И инструменты, конечно. Когда античный красавец дядя Виталий, обнаженный по пояс, в пижамных штанах, обрезанных валенках, с папиросой в зубах, шел мимо, он останавливался у некоторых станков и как бы нехотя, прищуриваясь и покачивая головой, как болгары, из стороны в сторону, делал несколько точных ударов шпунтом7 или закольником8. И шаркал дальше. Эффект был потрясающий.
Если вспоминать папу, то он в основном сотрудничал с пятью постоянными резчиками. Среди них своей внешностью и безалаберностью выделялся Женька Егоров. Это был добрейший человечек, пластикой движений и внешне напоминающий клоуна Карандаша – очень популярного в те годы. Такой безотказный во всем: бегать за водкой, заказывать инструменты, раскалывать вновь привезенный блок, ставить его на станок (вес мог быть любым). Всё это было его работой. Выполнял он ее с энтузиазмом, спокойно, долго и неуклюже. Помню: чтобы расколоть блок, нужно было сначала просверлить дырки, то есть потратить где-то двое суток. Тихоходная дрель, немыслимого вида и веса, сверлила одну дырку больше часа. С инструментами в СССР вообще была проблема. Иулиан, правда, и тут оказался в своем амплуа. Помню, он как-то раз ввалился в мастерскую со свитой посольских шоферов, в руках у всех были блестящие коробки с английскими инструментами, видимо украденными из посольства. Некоторые из них, кстати, шлифуют и пилят до сих пор. Так вот, Женька. Пил он, надо заметить, не хуже других мраморщиков, и, заезжая с друзьями в мастерскую во внеурочное время, мы не раз замечали существо, бегающее по двору в темноте на четвереньках и издающее при этом мистические звуки. Наутро, как правило, нас с родителями ждал сюрприз в виде отбитого носа, а то и всей головы, лежащей рядом с полуфигурой, которой вот-вот на выставку. На наши вопросительные взгляды он отвечал одинаково гениально: «В нашем деле не бывает неудач». Затем брал что-нибудь лежащее рядом – например, гипсовый фрагмент древнего египетского рельефа, который только что отформовали, по-деловому лил на него эпоксидку, замешивал ее с отвердителем моей любимой галтелью9 и, добавив туда мраморной пудры, зачерпнутой прямо с земли, приклеивал к бюсту отскочивший нос. Потом и рельеф, и галтель летели на землю и благополучно затаптывались. Нос держался, но появлялся тёмно-серый шов. Пудра-то была с землей!
Как-то мы с папой решили забетонировать часть двора мастерской. Для этого необходимо было снять приличный слой земли. Представьте себе: в процессе работы нашли столько инструментов, что можно было смело открывать магазин. А еще как-то, будучи под мухой, Евгений чуть было не выгнал президента Академии наук Анатолия Петровича Александрова, приехавшего позировать папе. Диалог у них был примерно такой:
– А ну-ка, дед, вали отсюдова. Чё, ссать тут удумал?
– Отнюдь. К Иулиану Митрофановичу позировать приехал.
Или вот другой случай. Одним поздним зимним вечером мы с Ростроповичем и Ирой Алаторцевой заехали в мастерскую посидеть после чопорного светского ресторанного ужина и вспомнить былое. Открывший дверь Женька почему-то кинулся целовать Славу взасос. Тот обалдел, но поддался, приняв его за моего какого-нибудь слегка сумасшедшего родственника. Когда часа через два мы уходили, Евгений вознамерился повторить трюк с поцелуем. Тут уже я помог великому музыканту избежать этого. И Ростропович, лишь издали вежливо поклонившись «меломану», уехал.
Шло время. «Ленины» стали неактуальны. Иулиан набирал мощь в области виталоформалистического анимализма. Тем временем Женя Егоров, как это часто случается с резчиками, стал позиционировать себя как скульптор. Будучи в те времена членом всяческих советов, я по блату принимал у него какие-то невообразимые гадости, помогал лепить. В мастерской появлялись молодые невыразительные резчики. Однажды пришел нормальный парень – Андрей, закончивший Строгановку. На вопрос, нет ли у нас работы по камню, я, чтобы оценить его навыки, поручил ему вырезать женский портретик, не упомянув о сроках. В тот же день появился знакомый алконавт и ворюга со двора на Большой Садовой: попросил подработку. Тоже Андрей, представьте себе. Стал клянчить. Мы с Юрой, моим помощником, придумали ему занятие: утеплить чердак стекловатой. Алконавт резво начал, а на следующий день исчез. Я написал ему записочку и попросил резчика по фамилии Тумандейкин передать, когда тот явится. Примерное содержание было таким: «Дорогой Андрей, если ты, сука, не закончишь к понедельнику начатую тобой работу, пеняй на себя. Рукав». Тумандейкин в шутку отдал записку другому Андрею, тому самому резчику из Строгановки. С тех пор его в Москве никто не видел. Такая вот штука – конкуренция. А коварный Тумандейкин тем временем уверенно становился лидером по резке камня в отдельно взятой скульптурной мастерской. Не могу не познакомить вас с этим гордым сыном чувашского народа. Говоря о себе, он часто применял это веселое выражение. Внешне был ничем не примечателен: роста ниже среднего, кареглазый, неплохого телосложения. Разве что ноги могли бы быть подлиннее и прямее. Будучи трезвым, вел себя нормально, будучи пьяным – приставал ко всем, не исключая меня, с предложением бороться. Мой друг Серёга Косоротов, который только что стал абсолютным чемпионом мира по дзюдо в тяжелом весе, тоже не избежал этой участи. Более того, Тумандейкин предлагал, чтобы мы с Серёгой выступили в тандеме против него одного. Обычно он подходил близко, щуря и так небольшие глазки и дыша луком (водку он закусывал репчатым луком), сквозь зубы тихо говорил одно и то же: «Ну что, зассали сына чувашского народа?» Надо справедливости ради сказать, что он неплохо резал мрамор, и с его помощью в мастерской было сделано несколько технически сложных скульптур. Однажды он был отправлен нами в Казахстан, в какую-то командировку. После получасового полета самолет пришлось развернуть и посадить опять в Москве, так как «гражданин Тумандейкин, находясь в нетрезвом состоянии, дебоширил, целовался с пассажирками, членами экипажа, при этом исполняя песню Газманова „Мои мысли – мои скакуны“». Нехилый штраф я заплатил за этот, увы, не увиденный мною перформанс. После этого Саша притих и пребывал в романтически печальном расположении духа. Даже чего-то отрабатывал. Но как настоящий джентльмен и ловелас раскрылся он только в США.
Работая по контракту в Америке, я сделал в шамотной глине довольно большой женский торс, сидящий в седле, – отголосок моих «Финишей». Мне нужно было перевести его в черный гранит. Я вызвал из Москвы Тумандейкина, заранее попросив его по телефону не исполнять в самолете песни Газманова. Когда он прилетел, выяснилось, что он не знает ни одного слова по-английски. Написав русскими буквами ряд выражений типа кафе, ту эгз, брэд, батер энд джем, плиз, сенк ю, мы с друзьями отправили его в маленький городок, название которого уже не вспомню. Это на севере, там принято заниматься камнем. Месяца через два, когда мы с подругой приехали в это местечко, перед нами предстал Гуру, за которым ходил хвост почитателей и фанатов. Все смотрели на него с восторгом и обожанием, обращаясь к нему на неведомом языке. «Что это за язык, Саш?» – спросили мы. «Чувашский, – не без гордости ответил он. – Но я их и русскому учу».
Скульптура наполовину была отполирована и местами сияла будто черное солнце. Около станка стоял ящик пива. Это оказалось незыблемым правилом, аксиомой: Тумандейкин питался пивом Heineken и беспрерывно курил Camel, подогревая тем самым миф о непобедимом сыне чувашского народа. Когда он вынимал из ящика очередную бутылку, руки поклонников тянулись с открывалками. Когда он зубами после специфического встряхивания пачки вытягивал очередную сигарету, к нему со всех сторон тянулись зажигалки. Инородцы не понимали, как этот русский, кардинально нарушая все правила и законы жизни, добивается подобных результатов. Ежедневно выпивая коробку пива, выкуривая пару пачек крепких сигарет, не пьянеет, не отекает, не кашляет, не имеет ни капли жира и сутками пашет. Он поведал им о жизни камня, его слоях и внутренних напряжениях, о духе человека, которым наполняется камень. Как говорится, нечего добавить к речи предыдущего оратора.
Из толпы поклонников своей красотой и приближенностью к Гуру выделялась высокая белокожая шатенка Вэнди. Дочь нью-йоркского миллионера втюрилась в Тумандейкина. Он принимал от «Вэндюхи» дорогие подарки и снисходительно разрешал себя любить. Говорят, что девочка мечтала о замужестве, но, вернувшись в Нью-Йорк, Сашка приперся к ней в шикарную квартиру на Манхэттене с сумками, полными ее подарков, и заявил, что у него на родине семья. На том и улетел в Москву. Может быть и зря. Мог бы семью забрать туда. К сожалению, как это часто случается с такими яркими личностями, лет через десять Саша сломал позвоночник, упав с высокой и крутой лестницы, и вскоре умер. Будучи парализованным, разговаривал так, будто ничего не случилось: спокойно и благожелательно. Земля ему пухом.
Два искусства
Значительную часть жизни я посвятил сначала боксу, затем боевым искусствам Востока. В детстве меня тренировал в «Труде» Лев Маркович Сегалович – любимец всех московских боксеров. Потом Григорий Бергер. А после него моим учителем стал легендарный Алексей Штурмин. С ними я разработал целую, как мне казалось, стройную теорию, согласно которой два главных искусства в моей жизни – скульптуру и единоборства – необходимо было не то чтобы поженить, но произвести их диффузию. И как это часто бывает, развитие этой теории началось с запальчивой декларации эксцентричного молодого человека. Слово не воробей – ляпнул когда-то в семидесятые годы, опубликовали, напоминают, спрашивают. Вот и отвечаешь, чтобы не оказаться трепачом. Честно скажу, сначала эта история у меня сочинялась неважно. А потом постепенно пришла вера в ее незыблемость. Интересно наблюдать эволюцию: сначала довольствуешься крохами, заметными одному тебе результатами. А потом вдруг как удар кнутом, как нокаут, все становится на свои места. И все сразу же понятно относительно того, как работать и в бою, и в изо. Чтобы не соврать, первое такое просветление было у меня после тридцати. Те, кого бои интересуют с позиции спортивной карьеры, знают это уже ближе к концу. Но спорт, по выражению знакомого китайского врача, – «это очень плохо». Слишком много в нем нелепых чаяний и глупой агрессии. Спорт как таковой, слава богу, меня никогда не интересовал. Интересовало самоощущение бойца: стратега, появляющегося и исчезающего по звезде, или хаотично отступающего, пережидающего и иногда как бы не вовремя наносящего удар. То есть сам бой как искусство. Я и в соревнованиях-то спортивных старался не участвовать. Вдруг продуешь, подведешь команду. Вот основные идеи и постулаты доморощенного манифеста:
1. Работая над каким-либо произведением, как и противостоя в бою противникам («коллегам», как теперь принято говорить), ты все время внутренне перевоплощаешься из рассудочного, осторожного мастера, грамотного и правильного по форме, в творца со странной экспрессивной манерой. И обратно – из хулигана с грязной техникой в однообразную ритмичную машину. Разница только в том, что в скульптуре сначала рацио, а потом экспрессия. А в бою все иначе. Необходимо строить бой по ситуации, но творить небанально, нелогично, неудобно для противника.
2. Парадоксальность, неожиданность ответов на поставленную задачу, о которых я говорил в первом пункте, без громадного багажа знаний всего лишь жалкое позерство и наигранность. Такое частенько встречается у художников XX века, которые за экспрессивным бешенством пытаются скрыть свою несостоятельность в базовой технике рисунка. Если же речь идет о бое, в нем тоже важно сохранять базовую технику и холодный рассудок. То есть пребывать в состоянии спокойной мудрости и все время, как бы не включаясь, анализировать действия противника.
3. В создании произведений искусства непредвиденность действий только на руку. Совет молодым скульпторам: не бойтесь ронять на пол пластилиновые композиции. Или проливать тушь на рисунок. Не пугайтесь увиденного. Осознайте, что без этого вы вряд ли догадались бы отказаться от половины лица. Или расположить фигуру падающей вбок. Совершив этот трюк несколько раз, вы впоследствии научитесь самостоятельно добавлять радикальности своим произведениям. Что-то подобное проделывал со своими учениками Павел Филонов. Вот сидит у него ученица, рисует, ведет линию носа, а он вдруг толкает ее под руку. Зачем? Чтобы избежать тоскливой правильности, слащавости, журнальности, реалистичности. Чтобы возникла совершенно другая красота. И не подумайте, пожалуйста, что это является непреложной истиной: мол, так все время и надо делать. Нет, скорее чтобы позволить вмешаться воле случая и самой природе. То же самое в боевых искусствах. Убегать, бояться, просить прощения – это все претит духу самурая? Нисколько. Идешь вразрез с привычным, все ты делаешь алогично и через боязнь, слезы и мольбы, вдруг прилетает сокрушительный скоростной удар.
4. Помню, одно время мы с моими учениками в шутку подпрыгивали, разворачивались в воздухе и садились на грудь или на плечо противнику, нанося ему сверху удар «тецуи учи» – «рука-молот». Конечно, с опытным противником это не пройдет. В спарринге партнера нужно все время поражать из ряда вон выходящим. Будто бы хаотичным (но именно «будто бы»).
5. Важно каждый новый бой провести по-новому, творчески. А в искусстве помнить, что в мире на одну скульптуру или рисунок становится больше. При этом важно не утратить своего почерка ни там ни тут.
Одна из замечательных систем ведения боя, на мой взгляд, заключается в том, чтобы воспринимать противника как пятиконечную звезду. Две ноги, две руки и бубен, и никаких эмоций (довольно распространенная версия). Конечно, если дело происходит не на тренировке в твоей школе. Блокируя и прихватывая четыре конца и вытягивая их, когда удается, с сайд-степом наружу, можно ударами кулака, а лучше локтя, постепенно нанося удары снаружи в распрямленный сустав и сверху, отбить у пятого конца желание продолжать схватку. Но это работает, когда противник один. И если он не твой друг. Для «группы товарищей» эта техника медленна. Вынужден вертеться как волчок, дабы что-нибудь откуда-нибудь не прилетело, и безошибочно импровизировать.
Аферист на доверии
Когда я был маленьким, я и подумать не мог, что в мире есть люди – нескульпторы. Вокруг меня всегда что-то лепили, рисовали, формовали, резали камень, дерево патинировали, чеканили, полировали, делали каркасы, позировали. А мне куда деваться? Вот я и учился походя. Потом мне многие напоминали, что я их частенько доставал своими дотошными вопросами. Сегодня, когда мне задают вопрос, как же я дошел до такой жизни, я отвечаю известным анекдотом: «Марья Иванна, почему так вышло, что вы, будучи ткачихой, комсомолкой, передовиком труда, стали валютной проституткой?» – «Да вы знаете – просто повезло!» В общем, повезло мне родиться в правильной семье. Сохранились гипсовые олень и индеец, которых я слепил из цветного пластилина года в четыре. Представляете, мои родители наняли формовщика, чтобы отформовать их! Благодарю их за серьезное отношение к детским опусам. Думаю, это сыграло важную роль в появлении моего отношения к скульптуре.
Впрочем, чрезмерное старание иногда выходило боком. Как-то зимой меня отправили к бабушке Але, которая жила в мастерской на Маяковке, – пересидеть разразившийся грипп. Мне было лет двенадцать, пятый класс. С порога я зачем-то сразу наврал бабушке, что мама попросила меня лепить композицию из трех балерин, над которой она долго трудилась для предстоящей выставки. Фигуры были довольно большие, примерно по метр двадцать в высоту. До сих пор не понимаю, что это было со мной. Бабушка, даже на секунду не предполагая, что я вру, как обычно ласково произнесла: «Валяй, только подметай за собой». Валял я, несомый творческим порывом, как сейчас помню, дня четыре. Закончив, я будто аферист, на котором пробы ставить некуда, позвонил форматору Кавыкову и деловым тоном заявил ему: «Дядя Вася, родители гриппуют. Просят вас приехать и отформовать маминых балерин». Что он и сделал еще дня за четыре. Когда все вскрылось, не разорвали меня только потому, что в очередной раз спас дед Николай. На ненормативной лексике он объяснил всем, что им до Сашеньки далеко, потому что Саша – необычный мальчик.
Когда слушаешь воспоминания известных людей, складывается впечатление, что все они были хулиганами, сорвиголовами, шпаной, победителями в дворовых схватках, «державших» Таганку или, чего доброго, Марьину Рощу. Должен сказать, что на улицах столицы в шестидесятые было вполне терпимо, но шпаны, заставляющей попрыгать ботанов, дабы определить, водится ли у них в кармане мелочь, было еще достаточно. В отличие от этих достойнейших смельчаков, я лет с двенадцати регулярно работал на улице грушей. Пытался проанализировать почему. Вроде и одет как все. Рожа – обычная рязанская, в общем, не лорд Байрон. Позже разобрался, что всему виной речь, манеры, указывающие – чужой. Спортивное общество «Труд» и мой первый учитель по боксу Лев Маркович Сегалович немного улучшили ситуацию. Я стал «грушей через раз», причем грушей, которая спокойно переносила тумаки, да еще и отвечала. А вообще, если бы не улица, мое детство можно было бы назвать вполне набоковским. Вспомним слова Владимира Владимировича: «Балуйте детей, неизвестно, какие испытания выпадут на их долю». Вот и меня баловали напропалую. Да, дошкольные годы были праздником, который никогда не кончался.
Дом. Всегда уютно и красиво, пахнет скипидаром и масляными красками. Десятки празднеств: к традиционным Пасхе, Рождеству, Масленице прибавляйте советские – с парадами на Красной площади. Летние каникулы на даче у крестного, дяди Юры Нероды. Что за дача там была! Старый большой деревянный сруб в поселке Пески неподалеку от старинной Коломны. Жена его тетя Вера, её дочь Ирка были мне как родные. Рядом, слева через забор, – дача Лансере, скульптора, лепившего трогательные натуралистические статуэтки с лошадками, которые были популярны в России. Дети Жека и сестра постарше; не помню, как ее звали. Как я потом узнал, они были правнуками Лансере. Любимые бабушки, читающие вслух книжки, мама и дед Николай.


