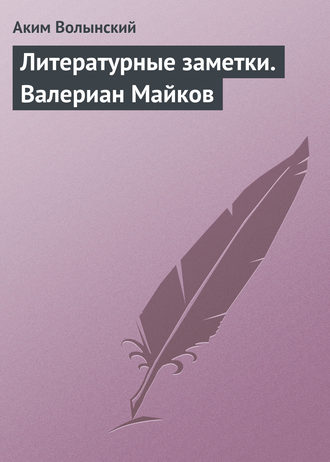
Аким Волынский
Литературные заметки. Валериан Майков
Мы оставим без внимания две совершенно незначительных заметки Майкова о кн. Одоевском и Тургеневе в библиографическом отделе «Финского Вестника» и перейдем к новому и последнему периоду его литературной деятельности – в «Отечественных Записках».
III
За год до отъезда в Зальцбрунн, Белинский разорвал с «Отечественными Записками» и собирал труды друзей своих для обширного альманаха «Левиафан». Тургенев, рассказывает Анненков, был из первых, обещавших Белинскому свою лепту, а между тем, но лукавству, составляющему обычное явление в литературных кружках, он вовсе не искал и не хотел конечной гибели «Отечественных Записок»[6]. Сочувствуя, как начинающему писателю, В. Майкову, Тургенев свел его с Краевским, который и поручил ему главные части критического отдела своего журнала. Эстетика Майкова, замечает Анненков, построенная на этнографических данных, могла дать окраску этому либеральному изданию, и пятнадцать месяцев усердного участия Майкова в «Отечественных Записках», с апреля 1846 г. по июль 1847 г., до некоторой степени поддерживало их старую репутацию, не смотря на переход Белинского в «Современник». Майков возбудил своими статьями, которые именно теперь приобрели более или менее яркий колорит, довольно оживленные прения в журнальных кругах, вновь и с особенною силою поставил и разрешил старый вопрос о народности, подробно и ясно изложил эстетическое учение, отличающееся коренным образом от теоретических воззрений Белинского в этом последнем периоде его литературной деятельности. Публика, знакомая со статьею Майкова в «Финском Вестнике», знала его общие социальные идеи, но вовсе не могла подозревать в нем какие-нибудь определенные критические стремления в области эстетических вопросов. За исключением двух – трех фраз, в которых говорится, что никакая «новая мысль не может быть выражена эстетически», что поэзия не терпит доказательств и что задача истинного художника заключается в том, чтобы глубоко прочувствовать общую идею века и творчески воплотить ее «в животрепещущий образ», за исключением этих и некоторых других попутных, случайных замечаний, в первых работах Майкова нельзя найти ничего определенного, ясного, твердого на тему об искусстве. В «Отечественных Записках» литературная деятельность Майкова, за выбытием из состава редакции Белинского, должна была развернуться шире – именно в сфере эстетических вопросов. Приходилось постоянно отвлекаться от предметов юридических и экономических, всего более отвечавших его внутренним склонностям, чтобы давать своевременные отчеты о явлениях чисто литературных, о художественных произведениях, сколько-нибудь выделяющихся по таланту и значительности идейного содержания. Около таких произведений и явлений яркое дарование Белинского достигло вершины своего развития, и писатель, который решился занять его место на страницах одного из самых видных органов того времени, должен был явиться перед публикой с определенными эстетическими убеждениями и художественными симпатиями. Надо было обнаружить известную систему понятий и тонкий вкус, действующий не безотчетно, не по капризу авторских пристрастий, а по определенному критическому принципу, доступному для спора и возражений с каких-нибудь других точек зрения. Майков, по-видимому, хорошо понимал ответственность своего положения в качестве первого критика журнала. С первых же шагов он старается, по разным важным и неважным поводам, занять известную позицию по отношению к задачам искусства, разбирая современные произведения художественного и поэтического творчества, давая мимолетные характеристики выходящим книгам. Он пишет о Жадовской, высмеивает стихотворные упражнения В. Аскоченского, набрасывает несколько неуверенную, хотя в общем сочувственную рецензию на сборник А. Плещеева и довольно часто распространяется об исторических судьбах русской литературы, о Пушкине, Лермонтове. Он проводит параллель между Гоголем и Достоевским, адресует несколько похвальных замечаний Герцену, выражает скорбь, с оттенком возмущения и протеста, о том что бездарные вирши, порождения самолюбивой затейливости, часто вытесняют такие истинно талантливые поэтические произведения, как стихотворения Тютчева. Рядом с краткими оценками отдельных эстетических явлений, мы постоянно встречаемся в статьях Майкова этого периода с пространными рассуждениями теоретического характера. Не умея сгущать выражения своих мыслей и постоянно прибегая к разным малозначащим историческим иллюстрациям, Майков теперь окончательно развивается перед читателем определенное учение об искусстве и творчестве, стоящее по-видимому в принципиальном противоречии с утилитарными взглядами Белинского – почти накануне его смерти. Он не только не изменяет своим научным симпатиям, как они определились в рассмотренных статьях «Карманного Словаря» и «Финского Вестника», но еще с большею уверенностью провозглашает великое значение аналитического метода, как он его понял. Он нашел приложение своим понятиям, воспитанным в школе формальных юридических определений, и отныне его журнальная деятельность направляется к двум, не совсем однородным целям. Продолжая начатые работы, он завершает свою эстетическую теорию и окончательно перестраивает прежнюю теорию народности, подробно разобранную нами выше.
Главные мысли Майкова об искусстве собрались в статье его о Кольцове. Обширная и растянутая, статья эта трактует о многих предметах, но её главное содержание может быть разбито на две части. В первой говорится о тайне художественного творчества, во второй – о народности в жизни и литературе. После длинных рассуждений о классицизме и романтизме, Майков, установив свое отношение к критике Белинского, которую он обвиняет в отсутствии определенных, неизменных научных доказательств, в бессознательном стремлении к диктаторству, переходит к чисто теоретическим вопросам. Он проводит твердое разграничение между явлениями, входящими в область искусства и явлениями, относящимися к научной сфере. Никоим образом не следует смешивать вещей занимательных с тем, что волнует наше чувство. Все, лежащее вне нас, не сродное с нами по природе, все, наделенное собственною, еще не ясною для нас индивидуальностью – все это возбуждает любознательность, мучит и манит нас в даль, пока таинственное не становится ясным, отдаленное близким и понятным. В этой области действует наука, постоянно разъясняя то, что подстрекнуло любопытство, возбудило интерес ума, в известном направлении. Вот где не может проявиться никакое поэтическое творчество, требующее иного материала, иных сил, иных горизонтов. Искусство имеет дело с тем, что симпатично, сродно с нашими человеческими интересами, тождественно с нами по существу. Мы умеем сочувствовать только тому, в чем нашли самих себя. Мы восторгаемся природою, потому что ощущаем ее внутри себя. Нет на свете ни одного неизящного, непленительного предмета, если только художник, изображающий его, обладает достаточным, талантом, чтобы отделить в нем «безразличное от симпатического», чтобы не смешать «симпатического с занимательным». В искусстве все дело не в художественности форм, которые никогда не могут быть лучше живых форм действительности, в каких она движется перед нашими глазами, а в поэтической мысли, радикально отличной от научно-дидактической мысли. Всякая художественная идея никогда не выливается в форму сухого, рассудочного силлогизма, не заключает в себе никакого доказательства и влияет на нас своими общечеловеческими, симпатическими свойствами. Художественная идея рождается в форме живой любви или живого отвращения от предмета изображения, У великих талантов каждая поэтическая черта одушевлена человеческим чувством. Истинный художник умеет открывать присутствие человеческого интереса в том мире явлений, которым занято его воображение. Мы не можем проследит, как возникает и как затем выражается художественная мысль в определенной форме, но для научной эстетики достаточно, что она в праве установить следующую несомненную истину: «тайна творчества состоит в способности верно изображать действительность с её симпатической стороны, иными словами: художественное творчество есть пересоздание действительности, совершаемое не изменением её форм, а возведением их в мир человеческих интересов, в поэзию»[7].







