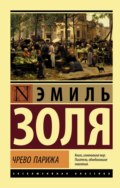Эмиль Золя
Доктор Паскаль
I
В июльские послеполуденные часы, пышущие жаром, большая комната с тремя окнами, тщательно прикрытыми ставнями, дышала глубоким покоем. Сквозь щели старинных резных ставней проникали только тонкие полоски лучей – в полумраке комнаты это слабое сияние заливало все предметы нежным и рассеянным светом. Здесь было относительно свежо, сюда не достигал палящий зной солнца, раскалявшего фасад дома.
Доктор Паскаль, стоя перед шкафом, напротив окон, разыскивал нужную ему заметку. Широко раскрытый огромный шкаф из резного дуба, с прекрасными прочными замками прошлого столетия, был весь наполнен, сверху донизу, огромным количеством бумаг, папок, рукописей, сваленных вместе как попало. Уже более тридцати лет доктор складывал сюда все написанное им – и небольшие заметки и законченные работы о наследственности, так что разыскать в шкафу что-либо нужное было не всегда легко. Он терпеливо перебирал бумаги и улыбнулся, когда поиски его наконец увенчались успехом.
Еще несколько минут он простоял у шкафа, перечитывая заметку при свете золотистого луча, падавшего из среднего окна. Волосы и борода были у него белоснежные, но он казался в этом, как бы предрассветном, сумраке мужественным и сильным, несмотря на приближавшиеся шестьдесят лет. Благодаря тонким и чистым чертам лица, еще ясным глазам он сохранил такую свежесть молодости, что в этой узкой бархатной куртке коричневого цвета его можно было принять за юношу с напудренными кудрями.
– Клотильда, – сказал он вдруг, – перепиши эту заметку, Рамон ни за что не разберет мой дьявольский почерк.
Подойдя к девушке, работавшей стоя у высокой конторки в нише правого окна, он положил перед ней бумагу.
– Хорошо, учитель! – ответила девушка.
Она даже не обернулась, вся поглощенная работой над пастелью, которую теперь заканчивала широкими штрихами карандаша; возле нее в вазе распускалась штокроза странного фиолетового оттенка, с желтыми полосками. Но можно было ясно различить ее маленькую круглую головку с коротко остриженными белокурыми волосами, ее тонкий серьезный профиль, высокий лоб, нахмуренный от напряженного внимания, глаза небесно-голубого цвета, прямой нос и резко очерченный подбородок. Ее очаровательный затылок под золотыми колечками волос пленял молочно-свежей белизной юности. Она казалась очень высокой в своей длинной черной блузе. У нее была тонкая талия, небольшая грудь, гибкое тело, напоминавшее грациозные, божественно прекрасные образы Возрождения. Несмотря на двадцать пять лет, в ней было еще что-то ребяческое, – едва бы ей дали восемнадцать.
– Кроме того, – добавил доктор, – приведи хотя бы немного в порядок шкаф. Там ничего нельзя найти.
– Хорошо, – повторила она, не поднимая головы. – Сейчас.
Паскаль направился к своему рабочему столу в другом конце комнаты, возле левого окна. Это был простой стол из черного дерева, точно так же заваленный бумагами и разными тетрадями. И снова молчание, сумеречная глубокая тишина, а за стеной невыносимый зной улицы. В огромной комнате, двенадцать метров на шесть, кроме шкафа, стояли два ряда библиотечных полок, набитых книгами. Старинные кресла и стулья разбрелись как попало. Ее единственным украшением являлись едва различимые в полутьме пастели с причудливыми цветами, беспорядочно развешанные по стенам, оклеенным обоями ампир в розетках. Резные украшения двухстворчатых дверей, входной, на лестницу, и двух других – в комнату доктора и, напротив, в комнату девушки, – принадлежали веку Людовика XV, как и карниз закоптелого потолка.
Прошел час без малейшего движения, без звука. Наконец Паскаль, как бы желая отдохнуть от работы, разорвал обложку газеты «Время», забытой на столе.
– Подумай! – воскликнул он. – Твой отец назначен редактором «Эпохи», республиканской газеты, пользующейся большим успехом, – в ней печатаются документы о Тюильри!
Эта новость была для него неожиданна. Он добродушно рассмеялся, одновременно удовлетворенный и опечаленный; затем продолжал вполголоса:
– Право же, сколько ни думай, лучше не придумаешь… Жизнь все-таки удивительна… Очень интересная статья.
Клотильда ничего не ответила на слова своего дяди, казалось, она была чрезвычайно далека от всего этого. Он замолчал, прочел статью, вооружился ножницами и, сделав вырезку, прикрепил к листу бумаги, где кратко изложил содержание своим крупным неровным почерком. После этого он направился к шкафу, чтобы положить на место новую памятку. Ему пришлось захватить стул: верхняя полка была так высока, что он не мог до нее достать, несмотря на свой большой рост.
Эту полку занимали огромные папки, стоявшие в строгом порядке. То были различные документы, рукописи, листы исписанной гербовой бумаги, вырезки из газет – все в обложках из плотной синей бумаги; на каждой значилось название, написанное крупными буквами. Сразу было видно, что эти материалы беспрестанно просматривают, с любовью работают над ними и вновь заботливо укладывают на место, – во всем шкафу только этот угол и. был в порядке.
Паскаль, взобравшись на стул, нашел нужную ему папку; ее обложка с надписью «Саккар» была самой потрепанной. Он спрятал туда новую заметку и затем поставил ее на старое место в порядке алфавита. На мгновение он задумался, потом заботливо поправил готовую рассыпаться груду бумаг и наконец спрыгнул со стула.
– Ты слышишь, Клотильда? – сказал он. – Когда будешь все убирать, не трогай эти папки там, наверху.
– Хорошо, учитель, – послушно ответила она в третий раз.
Рассмеявшись своим обычным веселым смехом, он добавил:
– Это запрещается. – Я знаю, учитель!
Сильным поворотом ключа он запер шкаф и бросил ключ в ящик письменного стола.
Клотильда была достаточно посвящена в его работы и поэтому могла приводить в некоторый порядок рукописи. Он часто называл ее своим секретарем и поручал ей переписывать свои заметки, когда его друг, доктор Рамон, работавший вместе с ним, просил познакомить его с теми или иными материалами. Но она, конечно, не была ученой, и Паскаль просто запрещал ей читать то, что считал для нее бесполезным.
Заметив, с каким напряженным вниманием она работает над чем-то, Паскаль снова обратился к ней:
– Почему ты так упорно молчишь? Неужели твое рисование до такой степени захватывает тебя?
То была также одна из работ, что он часто ей доверял; эти рисунки, акварели, пастели он прилагал потом в качестве иллюстраций к своим произведениям. Уже в течение пяти лет он производил чрезвычайно интересные опыты над особыми сортами штокроз; путем искусственного оплодотворения ему удалось добиться совершенно новых оттенков. Работы Клотильды отличались кропотливой точностью в передаче формы и необычной окраски цветов, и доктор Паскаль всегда восхищался ее добросовестностью, повторяя, что у нее «умная круглая головка, светлая и серьезная».
Но на этот раз, подойдя к ней и взглянув через ее плечо на рисунок, он воскликнул с комическим гневом:
– Ах, вот чем ты развлекаешься! Отправилась на поиски неизвестного!.. Ну-ка, разорви это немедленно!
Клотильда выпрямилась, щеки ее пылали, глаза горели страстной любовью к своему делу; тонкие ее пальцы были испачканы голубой и красной пастелью, которую она растирала.
– О, что вы, учитель!
В этом слове «учитель», говорившем о нежности, ласковой преданности и совершенном подчинении, – в этом слове, с которым она обращалась к Паскалю, стараясь избежать обычных слов «дядя» или «родной», казавшихся ей пошлыми, в первый раз прозвучало возмущение, требовательный тон существа, отстаивающего и утверждающего себя.
Почти два часа она срисовывала штокрозы точно и добросовестно. Потом ей пришло в голову сделать другой набросок – ветку несуществующих цветов, фантастических цветов грезы, великолепных и необычайных. Так иногда с ней бывало в разгаре самой точной работы ею внезапно овладевал порыв, необходимость дать волю необузданному воображению. И она тотчас же успокаивалась, погружаясь в какой-то необыкновенный цветник, в неистовую, неповторимую фантазию, создавая розы, сочащиеся кровью, плачущие слезами цвета серы, лилии, подобные урнам из кристалла, цветы неизвестных форм – они испускали лучи, как звезды, а их венчики зыбились, словно облака. В то утро на листе, размашисто заштрихованном черным карандашом, падал дождь бледных звезд, поток бесконечно нежных лепестков, в то время как в уголке расцветало что-то непонятное, раскрывался невиданный бутон, целомудренно закутанный в свои покровы.
– Здесь есть для этого местечко, – сказал доктор, указывая на стену, где уже были развешаны такие же странные пастели. – Но я все же хотел бы знать, что тут изображено.
Все с тем же серьезным видом она слегка откинулась назад, чтобы лучше рассмотреть свою работу.
– Не знаю, но это красиво.
В это время вошла Мартина. Она одна прислуживала доктору в течение тридцати лет и стала настоящей хозяйкой дома.
Хотя ей перевалило за шестьдесят, она тоже была свежа, подвижна и молчалива. В своем неизменном черном платье и белом чепчике она походила на монахиню, – маленькая, бледная и умиротворенная, со светло-серыми потухшими глазами.
Она молча уселась прямо на пол возле кресла с продранной старой обивкой, сквозь которую вылезали волосы. Вытащив из кармана иголку и моток шерсти, она принялась зашивать. Целых три дня она ожидала свободной минуты, чтобы взяться за починку дыры, мысль о которой не давала ей покоя.
– Пока вы здесь, Мартина, – добродушно сказал Паскаль, обхватив обеими руками непокорную голову Клотильды, – заштопайте-ка и эту сумасбродную головку.
Мартина, подняв свои выцветшие глаза, посмотрела на доктора с привычным обожанием.
– Почему, сударь, вы говорите мне это?
– Потому, моя милая, что, по моему убеждению, именно вы, с вашей набожностью, напичкали эту маленькую, круглую наивную и серьезную головку мыслями о том свете.
Обе женщины обменялись взглядом взаимного понимания.
– О сударь, религия никогда никому не причиняла вреда… Ну, а если о ней не думают одинаково, лучше и вовсе не говорить о ней.
Наступило гнетущее молчание. Только это разногласие иногда вызывало ссоры у трех друзей, живших одной нераздельной жизнью. Мартине было всего двадцать девять лет, на один год больше, чем доктору, когда она поступила к нему на службу. Он только начинал тогда работать как медик в маленьком светлом домике в новой части города Плассана. А тринадцать лет спустя Саккар, брат Паскаля, овдовев и собираясь второй раз жениться, привез ему свою дочь, семилетнюю Клотильду. Мартина сама воспитывала девочку, водила ее в церковь и отчасти передала ей то пламя веры, которым всегда пылала. Доктор, с его широким умом, не чувствуя себя вправе лишать кого бы то ни было радостей веры, позволил им свободно наслаждаться ею. Он ограничился тем, что сам руководил образованием девушки, стараясь дать ей обо всем здоровое, правильное представление. Так почти восемнадцать лет они жили втроем, уединившись в усадьбе Сулейяд, в предместье города, недалеко от кафедрального собора св. Сатюрнена. Жизнь, посвященная большой работе, скрытой от всех, протекала счастливо; и все же ее несколько омрачало неприятное чувство, рождаемое все более жестокими спорами по поводу веры.
Опечаленный Паскаль прошелся по комнате. Потом как человек, не скрывающий своих мыслей, он сказал:
– Теперь ты видишь, дитя мое, что все эти мистические небылицы извратили твой тонкий ум… Твой милосердный бог совсем не нуждался в тебе, мне следовало сохранить тебя для себя одного; от этого тебе было бы только лучше.
Клотильда дрожала от волнения, но ее светлые глаза смело, в упор, смотрели на него, она не сдавалась.
– Это ты, учитель, чувствовал бы себя лучше, если бы смотрел на все не только плотскими очами… Есть еще нечто другое… Почему ты не хочешь видеть?..
Мартина по-своему пришла ей на помощь.
– Верно, сударь, человек такой святой жизни, как вы, – это я всегда говорю, – должен ходить с нами в церковь… Конечно, господь вас помилует, но я не нахожу себе места при мысли, что вы не сразу попадете в рай.
Доктор Паскаль был озадачен: они обе, обычно столь послушные, покорные, полные женской нежности, завоеванной его веселостью и добротой, подняли настоящий бунт. Он уж готов был резко ответить им, как вдруг сразу понял бесполезность спора.
– Вот что, оставьте меня в покое. Уж лучше я пойду работать… И помните, чтобы никто не мешал мне!
Он быстро направился в свою комнату, где было устроено нечто вроде лаборатории, и заперся там. Входить туда было строго запрещено. Там он занимался особыми работами, о которых никому не говорил. Скоро послышался ровный и медленный стук пестика в ступе.
– Ну вот, – сказала Клотильда, улыбаясь. – Теперь он в своей дьявольской кухне, как выражается бабушка.
И она снова принялась спокойно срисовывать стебель штокрозы, соблюдая в рисунке математическую точность. Она нашла правильный тон для фиолетовых лепестков с желтыми полосками, соблюдая самые тонкие оттенки окраски.
– Ах, какое несчастье! – прошептала немного спустя Мартина, все еще чинившая, сидя на полу, свое кресло. – Человек такой праведной жизни и сам зазря себя губит!.. Что и говорить, вот уже тридцать лет, как я его знаю, и никогда он никому не сделал ни на столечко зла. Золотое сердце! Последний кусок отдаст… Да к тому же всегда такой милый, такой здоровый, веселый, – настоящее благословение божие!.. Ведь это смертный грех, что он не хочет примириться с господом богом. Правда, барышня, нужно его заставить.
Клотильда, удивленная такой длинной речью, важно согласилась с ней.
– Конечно, Мартина. Решено. Мы его заставим.
Звонок, задребезжавший внизу, у входной двери, нарушил наступившее молчание. Он был нарочно устроен при входе, чтобы его слышали всюду в этом доме, слишком большом для его трех обитателей. Мартина выразила удивление, пробормотав сквозь зубы: «Кто ж это мог прийти в этакую жарищу?» Она встала, открыла дверь, наклонилась над перилами лестницы и, возвратившись, объявила:
– Это госпожа Фелисите.
В комнату быстро вошла старая г-жа Ругон. Несмотря на свои восемьдесят лет, она поднялась по лестнице с легкостью молоденькой девушки. Она все еще была брюнеткой, живой, как ртуть, худощавой и неугомонной. Она казалась очень изящной в черном шелковом платье, и сзади ее можно было принять, глядя на ее тонкую талию, за женщину, спешащую к предмету своей любви или честолюбивых замыслов. Ее глаза на иссохшем лице сохранили свой блеск, и она по-прежнему, когда хотела, улыбалась очаровательной улыбкой.
– Как, бабушка, это ты! – воскликнула Клотильда, спеша ей навстречу. – Но ведь сегодня ужасная жара, можно свариться!
Фелисите поцеловала ее в лоб и рассмеялась:
– О, я люблю солнце!
И, подбежав маленькими быстрыми шажками к окну, она откинула задвижку ставня.
– Приоткройте же хоть немного! Слишком печально жить так, в темноте… У меня всегда солнце.
Через полуоткрытый ставень хлынул поток горячего света, волны колеблющегося пламени. Под раскаленным бледно-голубым небом расстилалась широкая сожженная равнина, словно заснувшая и встретившая смерть в этой пожирающей огненной печи, а направо, в ослепительном свете, над розовыми крышами стройно возвышалась колокольня св. Сатюрнена, эта позлащенная башня с гранями, напоминающими побелевшие кости.
– Сейчас, – продолжала Фелисите, – я отправляюсь в Тюлет и зашла узнать, не здесь ли Шарль, чтобы захватить его с собою… Но я вижу, его нет. Тогда в другой раз.
Пока она объясняла причину своего посещения, ее внимательные глаза бегали по всей комнате. Впрочем, она не особенно долго распространялась об этом и, услышав равномерный шум ступки, доносившийся из соседней комнаты, заговорила о своем сыне Паскале.
– А, он все еще в своей дьявольской кухне?.. Не беспокойте его. Мне с ним не о чем говорить.
Мартина, снова занявшаяся своим креслом, подняла голову и заявила, что она и не собиралась беспокоить доктора. Клотильда вытирала полотенцем испачканные пастелью пальцы, а Фелисите вновь принялась с видом следователя расхаживать взад и вперед мелкими шажками.
Старая г-жа Ругон уже два года вдовела. Ее муж, до того растолстевший, что уже не мог двигаться, умер от несварения желудка 3 сентября 1870 года, ночью того самого дня, когда он узнал о разгроме при Седане. Крушение государственного строя, которым он гордился как один из его основателей, поразило его, словно удар молнии. Поэтому Фелисите притворялась, что вовсе не интересуется политикой, и жила подобно королеве, свергнутой с престола. Ни для кого не было тайной, что Ругоны в 1851 году спасли Плассан от анархии, способствуя государственному перевороту 2 декабря. Несколькими годами позже они отвоевали его еще раз у легитимистских и республиканских кандидатов, послав в Палату бонапартиста. Власть абсолютизма была там всемогуща вплоть до самой войны; она была признана настолько, что во время плебисцита получила подавляющее большинство голосов. Но после разгрома город стал республиканским; квартал св. Марка снова занялся подпольными роялистскими интригами, а старый и новый город послали в Палату депутатов либерала, хоть и слегка настроенного в пользу Орлеанов, но готового немедленно примкнуть к Республике, как только она восторжествует. Вот почему Фелисите, прекрасно отдававшая себе во всем отчет, устранилась от дел, довольствуясь своей ролью низложенной королевы павшего строя.
Но и в этом положении было нечто возвышенное, нечто овеянное меланхоличной поэзией. Она царствовала восемнадцать лет. Предание о ее двух салонах – желтом, где созрел план государственного переворота, и позже зеленом, где вполне мирно было завершено завоевание Плассана, – становилось все прекраснее, чем дальше отступала ушедшая эпоха. Кроме того, она была очень богата. Находили, что она в своем падении держится с большим достоинством, не жалуясь и не вздыхая. За ее восемьюдесятью годами тянулась длинная цепь яростных желаний, отвратительных интриг и необузданных порывов; это придавало ей какое-то величие. Теперь для нее было доступно только одно счастье – спокойно пользоваться своим огромным состоянием и прошлым высоким положением. Ее единственная страсть сводилась к защите своей биографии. Она старалась очистить ее от всей грязи, которая могла когда-либо ее запятнать. Два подвига вскормили ее гордость, – о них все еще говорили жители города, – и она с ревнивой заботливостью старалась сохранить только прекрасное, только легенду, благодаря которой ее приветствовали, словно бывшую королеву, когда она шествовала по городу.
Она подошла к самым дверям комнаты и прислушалась к стуку песта. Затем с озадаченным видом обратилась к Клотильде:
– Боже мой! Что он там мастерит? Ты ведь знаешь, как он себе навредил своим новым сомнительным лекарством. Мне рассказывали, что он на днях опять чуть не отправил на тот свет одного из своих больных.
– Что вы, что вы, бабушка! – воскликнула Клотильда.
Но Фелисите уже не могла остановиться.
– Да, да! Кумушки судачат и о многом другом… Порасспросите-ка о нем в предместьях. Они тебе скажут, что он толчет кости мертвецов в крови новорожденных детей.
На этот раз возмутилась даже Мартина, рассердилась и Клотильда, уязвленная в своей нежной привязанности.
– Ах, не повторяйте, бабушка, эти гнусности!.. Он такой великодушный человек! Он думает только о всеобщем благе!
Фелисите, увидев, что они обе вознегодовали, поняла, что была слишком резка, и снова заговорила чрезвычайно ласково:
– Ведь не я, детка, рассказываю обо всех этих ужасах. Я только передаю тебе глупые сплетни, чтобы ты поняла, какую ошибку делает Паскаль, не считаясь с общественным мнением… Он убежден, что нашел новое лекарство? Прекрасно! Я даже готова допустить, что он исцелит всех, как он сам надеется. Но я не понимаю, к чему эта подчеркнутая таинственность, почему не объявить об этом во всеуслышание? И главное, почему он пробует свое средство только на этом сброде из старого города и деревень, вместо того, чтобы испытывать его на порядочных людях, – ведь здесь удачное лечение прославит его!.. Нет, видишь ли, моя дорогая, твой дядя никогда не поступает, как все остальные люди.
Она прикинулась огорченной и, понизив голос, стала повествовать о своем тайном страдании.
– Талантливые люди, благодарение богу, не редки в нашем семействе – другие мои сыновья доказали мне это! Разве это неправда? Твой дядя Эжен занимал достаточно высокое положение – министр в продолжение двенадцати лет, почти император! А твой отец ворочал миллионами и принимал участие в огромных работах, создавших новый Париж! Я уже не говорю о твоем брате Максиме, который так разбогател и выдвинулся, ни о твоих кузенах: Октав Муре – один из главных деятелей новой торговли, а наш дорогой аббат Муре – прямо святой! Почему же Паскаль, который мог идти той же дорогой, упрямо живет в своей дыре, как старый, полупомешанный чудак?
Когда Клотильда снова возмутилась, Фелисите ласково закрыла ей рот рукой.
– Нет, нет, позволь мне окончить… Я знаю, что Паскаль неглуп. Его труды замечательны, его работа для Медицинской Академии снискала ему признание среди ученых… Но может ли это идти в сравнение с тем, о чем я мечтала для него? Да! Он мог рассчитывать на самую лучшую практику в городе, на большое состояние, ордена, наконец, почет, положение, достойное его семьи… Только об этом я и сожалею, мое дитя. Он не таков, он не захотел поддержать честь рода. Клянусь, я говорила ему это, когда он был еще ребенком: «Подумай, что ты делаешь, ведь ты не наш!» Что до меня, я всем пожертвовала для семьи. Я готова дать изрубить себя на куски ради славы и величия семьи!
Она выпрямилась во весь свой рост; маленькая, она показалась очень высокой, охваченная страстью, владевшей ею всю жизнь, – жаждой богатства и почестей. Начав снова расхаживать по комнате, она вдруг с ужасом заметила на полу листок «Времени», брошенный доктором после того, как он вырезал оттуда статью, чтобы положить ее в папку Саккара. Вырезка в середине газеты, по-видимому, осведомила ее обо всем; она сразу перестала ходить и опустилась в кресло, словно узнала наконец о том, что хотела знать.
– Твой отец назначен редактором «Эпохи»? – внезапно спросила она.
– Да, – спокойно ответила Клотильда. – Мне об этом сказал учитель. Сообщение помещено в газете.
Теперь Фелисите смотрела на нее внимательно и тревожно: это назначение Саккара, это признание его Республикой было невероятным. После падения Империи он осмелился возвратиться во Францию, несмотря на то, что был осужден как директор Всемирного байка, неслыханное крушение которого предшествовало крушению монархии. Сейчас благодаря каким-то новым влияниям, какой-то совершенно невероятной интриге Саккар вновь стал на ноги. Он не только получил помилование, но опять взялся за крупные дела, вошел в круг газетных воротил, снова обрел свою долю во всяких сомнительных доходах. Она вспомнила его давнишние распри с братом Эженом Ругоном, которого он так часто ставил в неловкое положение. И вот, по странной иронии судьбы, теперь он, возможно, будет ему покровительствовать, – теперь, когда бывший министр Империи превратился в простого депутата, защищающего своего низложенного властелина с таким же упорством, с каким его мать защищала права своей семьи. Она еще до сих пор покорно повиновалась старшему сыну – этому раненому орлу; но и Саккар, каким бы он ни был, своим неукротимым стремлением к успеху был дорог ее сердцу. Она также гордилась Максимом, братом Клотильды. После войны он поселился в своем особняке на улице Булонского леса и проживал средства, оставленные ему женой. Его благоразумие напоминало осторожность неизлечимого большее, который старается перехитрить надвигающийся паралич.
– Редактор «Эпохи»! – повторила она. – Твой отец добился положения министра… Ах, да, я позабыла тебе сказать: я написала твоему брату, чтобы он приехал к нам. Это его развлечет и будет ему полезно. Кроме того, здесь ребенок, бедняжка Шарль…
Она умолкла, ее гордость страдала и от этой раны. Максим, когда ему было семнадцать лет, имел сына от служанки; теперь пятнадцатилетний слабоумный мальчик жил поочередно у родных в Плассане, в тягость всем.
Она подождала еще немного, надеясь, что Клотильда как-нибудь сама поможет ей перейти к вопросу, который интересовал ее. Увидев, что молодая девушка, занятая приведением в порядок бумаг, совершенно равнодушна к ее рассуждениям, Фелисите, взглянув затем на Мартину, которая продолжала чинить кресло и словно превратилась в глухонемую, решила начать сама:
– Значит, твой дядя вырезал статью из «Времени»? Клотильда улыбнулась и спокойно ответила:
– Да! Доктор положил ее в папку. Сколько заметок похоронил он там! Рождение, смерть, самые незначительные события – все отправляется туда. Там же, – впрочем, ты знаешь об этом, – родословное дерево, наше знаменитое родословное дерево, которое он все время дополняет новыми данными!
Глаза старой г-жи Ругон загорелись. Она пристально глядела на молодую девушку.
– Ты знаешь, что там, в этих папках?
– О, нет, бабушка! Доктор никогда мне об этом не говорит, он запретил мне прикасаться к ним.
Но старуха не верила ей.
– Полно тебе! Конечно, ты их просматривала, ведь они у тебя под рукой!
Клотильда, снова улыбнувшись, ответила очень просто, с присущей ей спокойной прямотой:
– О, нет, в тех случаях, когда учитель что-нибудь запрещает, он. имеет для этого основания, и я повинуюсь ему.
– Отлично, мое дитя! – со злобой воскликнула Фелисите, уступив на этот раз своему гневу. – Паскаль любит тебя и, может быть, послушается. Упроси же его сжечь все это. Если он вдруг умрет, там могут найти такие ужасы, что мы все будем опозорены!
О, эти проклятые папки! Ночью в кошмарных сновидениях она видела их; там огненными буквами была запечатлена подлинная история семьи, ее физиологические пороки, вся эта изнанка славы, – изнанка, которую она хотела бы видеть погребенной вместе со своими умершими предками! Она знала, каким образом у доктора возникла мысль собрать воедино эти документы в начале своих обширных исследований о наследственности, как, пораженный найденными в них типическими случаями, подтверждавшими открытые им законы, он захотел привести в качестве примера историю своего собственного семейства. В самом деле, не являлось ли оно наиболее естественным и доступным полем наблюдений, которое он так хорошо знал? И вот, с прекрасной беззаботной широтой ученого, он в продолжение тридцати лет собирал и накапливал самые интимные сведения о своих родных и классифицировал их, вычерчивая родословное дерево Ругон-Маккаров; эти объемистые папки являлись только комментарием к нему, собранием доказательств.
– Да, да, – пылко настаивала старая дама, – сжечь, сжечь весь этот бумажный хлам! Он может замарать наше имя!
Служанка, увидев, какой оборот приняла беседа, поднялась, чтобы уйти, но г-жа Ругон остановила ее повелительным жестом.
– Нет, нет, оставайтесь, Мартина! – сказала она. – Вы здесь не лишняя, вы тоже принадлежите к нашей семье. Куча небылиц, – продолжала она шипящим голосом, – сплетни, выдумки, которыми нас старались запятнать враги, взбешенные нашими успехами!.. Подумай-ка об этом, дитя мое! Такие ужасы обо всех: о твоем отце, о твоей матери, о твоем брате, обо мне!
– Ужасы, бабушка? Как же ты узнала об этом?
На мгновение она смешалась.
– О, я догадываюсь о них!.. В каком семействе не бывает несчастий, которые могут быть ложно истолкованы? Скажем, наша прародительница, почтенная, милая тетушка Дида, твоя прабабка, уже двадцать один год в убежище для умалишенных в Тюлет. Если господь был так милостив, что даровал ей сто четыре года жизни, то он жестоко наказал ее, лишив разума. Конечно, тут нет ничего позорного, но меня приводит в отчаяние, что после могут сказать, будто все мы сумасшедшие. А к чему это?.. Потом твой двоюродный дядя Маккар – о нем тоже распустили прискорбные слухи! Правда, Маккар грешил когда-то, я его не защищаю. Но ведь теперь он спокойно живет в своей маленькой усадьбе Тюлет, в двух шагах от нашей несчастной матери, за которой он ухаживает, как любящий сын… И, наконец, последнее – твой брат Максим совершил важный проступок, сделав служанку матерью своего сына, бедняжки Шарля. Не отрицаю я и того, что это злосчастное дитя лишено здравого рассудка. Но как бы там ни было, разве тебе будет приятно, если начнут болтать, что твой племянник – выродок, что он как бы повторяет в четвертом поколении свою прапрабабку, нашу дорогую старушку? А ему так хорошо с ней, мы время от времени приводим его туда!.. Нет, не останется ни одной семьи на свете, если начнут копаться во всем, – у одного нервы не такие, у другого мускулы… Противно станет жить.
Клотильда внимательно слушала ее, стоя за конторкой в своей длинной черной блузе. Выражение лица ее снова стало серьезным, глаза были опущены, руки висели вдоль стана. Помолчав, она медленно сказала:
– Это наука, бабушка!
– Наука! – возмутилась Фелисите, снова забегав по комнате. – Хороша твоя наука, если она объявила войну всему, что есть святого в мире! Многого они добьются, если все разрушат… Они убивают добрые нравы, они убивают семью, они убивают господа бога…
– О, не говорите этого, сударыня! – горестно прервала, Мартина; ее простодушная вера жестоко страдала. – Не говорите только, что доктор убивает господа бога!
– Да, бедняжка, это так, он его убивает! И знайте, с точки зрения религии, дать человеку погубить свою душу – смертный грех. Честное слово, вы не любите его, да, да, не любите, хотя и имеете счастье верить в бога, – иначе вы постарались бы вернуть его на путь истины… О, на вашем месте я разнесла бы в щепки этот шкаф, я сложила бы замечательный костер из всех кощунственных гнусностей, которые в нем хранятся!
Худая, иссохшая, она остановилась перед огромным шкафом, измеряя его огненным взором, словно, несмотря на свои восемьдесят лет, намеревалась взять его приступом, разрушить, уничтожить.
– Если бы он еще со своей наукой мог знать все! – прибавила она с ироническим презрением.
Клотильда стояла задумавшись, с отсутствующим взглядом. Потом вполголоса, позабыв о других, заговорила сама с собой:
– Это правда, он не может знать все… Всегда есть что-то неизвестное там, над нами… Это то, что меня огорчает, что иногда заставляет нас ссориться. Я не могу, как он, не думать о тайне – она меня беспокоит, даже мучает… Там все, что повелевает и действует в зыбкой тьме, все эти неведомые силы…
Ее голос, мало-помалу затихая, перешел в неясный шепот. Тогда вдруг помрачневшая Мартина также вступила в разговор:
– Барышня, а что, если доктор и впрямь погубит из-за этих дрянных бумаг свою душу? Неужели мы с вами допустим это?.. Вообще-то говоря, прикажи он мне броситься из окна вниз, я закрою глаза и брошусь. Потому что он всегда прав, я это знаю. Но ради его спасения… Ох! Если б это мне удалось, я готова на все. Как он себе хочет, не мытьем, так катаньем, а заставлю его. У меня сердце разрывается, как подумаю, что он не будет в раю вместе с нами.