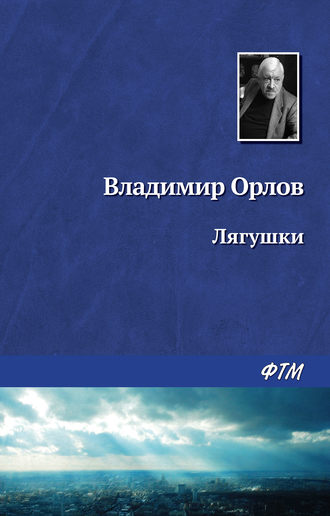
Владимир Орлов
Лягушки
Хотя чему радоваться-то? Пьесу свою Ковригин помнил плохо. Вполне возможно, Натали Свиридова была права: его драматургический опус вышел чудовищным. А теперь еще и среднесинежтурские таланты и без того слабое сочинение могли перелицевать по меркам нынешней моды, по Желдаку какому-нибудь, дочь сандомирского воеводы переодеть, скажем, в неземные балахоны а ля Аватар, ну и прочее, а на афишах прославить имя автора – Ковригина Александра Андреевича.
Нет, надо без всяких наделений полномочиями РАО самому ехать в Средний Синежтур и всё увидеть своими глазами. «Вот тебе и решение! – обрадовался Ковригин. – И пусть она там меня отыщет! В Средний Синежтур! И немедленно!»
И немедленно! То есть, конечно, не в сию же минуту. Не на голодный же желудок. Но уж завтра – это точно! С утра дозвониться до театра имени Верещагина (надо полагать, живописца, а не каспийского таможенника), завтра, правда, – воскресенье, но в театре-то кто-то должен быть и в воскресенье, выспросить подробности (вдруг взяли пьесу совсем другого Ковригина) и условия проживания в Среднем Синежтуре. И, коли пьеса там его, ехать. Хорошо бы, конечно, получить от какого-либо издания командировочные, а нет так нет, можно потратить и свои финансы. Хотя бы из любопытства.
Но тут явилось соображение, поначалу даже испугавшее Ковригина. Ну, если и не испугавшее, то сильно озадачившее его.
А вдруг альманах Юльки Блинова вовсе и не выходил, а дело было в новой затее проказницы Лоренцы Козимовны Шинэль? С неё станется. Если, конечно, она существовала неделю назад и теперь продолжает существовать. Не съездила ли она курьером от агентства «С толстой сумкой на ремне» в славный город Средний Синежтур и не доставила ли в театр имени Верещагина пьесу некоего московского литератора Ковригина? И не съездила даже (доберись на её серебристом лендровере лесами и мокрыми дорогами до Синежтуров!), а слетала туда, хотя бы и на помеле? «Нет, у неё был пупок, – принялся успокаивать себя Ковригин. – Настоящий пупок настоящей земной женщины!» И сейчас же проворчал: «То же мне – научно-достоверное доказательство отсутствия помела!» Другое дело, зная обстоятельства нашей театральной жизни, пусть в этом случае и провинциальной, но потому, впрочем, и менее степенной и более отчаянной, нежели в столицах, следовало предположить, что рукопись пьесы должна была бы доставлена в Средний Синежтур не менее чем за полгода до премьеры. А Лоренца Козимовна Шинэль возникла в жизни Ковригина неделю назад. Мысль об этом отчасти успокоила Ковригина. Но тотчас же и сорвалась с места. В записке Лоренцы, сожженной Ковригиным (не справедлив был в своих суждениях Блинов, кое-что Ковригин всё же сжигал), среди прочего были слова: «Многое из того, что я слышала о тебе, подтвердилось…». От кого и что слышала? И зачем слушала? И что подтвердилось? И давно ли и долго ли слышала? Выходило, что, если признать реальность записки Лоренцы и реальность самой Лоренцы, как он, исходя из своей медицинско-мифологической доктрины, пытался признать реальность её земных пупка и лона, его, Ковригина, личностью по необъяснимым для него причинам интересовались неизвестные ему люди (существа), и среди них так называемая Лоренца Козимовна Шинэль.
Нет, постановил Ковригин, и всяческие мысли о Лоренце Козимовне должны быть в нем высмеяны, высечены розгами, а потом и испепелены.
Но что было терпеть до воскресенья? Чем субботний день в театре хуже воскресного?
Ковригину повезло. Давний его знакомец Михаил Семёнович Провоторский, деятель Федерального театрального общества, оказался в Москве и дома, российский справочник лежал у него под рукой, и Ковригин был снабжен номером телефона дирекции театра имени Верещагина.
В Среднем Синежтуре к телефону подошли не сразу. Но подошли.
– Вылегжанин у аппарата, – услышал Ковригин.
Ковригин представился. Спросил:
– Вы из администрации?
– Нет, – рассмеялся Вылегжанин. – Я – пожарный.
– У вас – пожар? – испугался Ковригин.
– У нас каждый день пожар, – серьезно произнес Вылегжанин. – А из администрации сейчас никого нет. Театр на выезде. На три дня. В Березниках и Соликамске. – И что же вывезли? – с важностью московского управителя культурой поинтересовался Ковригин.
– Естественно что. «Польское мясо».
– Какое такое польское мясо? У вас гастроном, что ли? – Спектакль такой! – осердился Вылегжанин. – «Польское мясо». На афише – «Маринкина башня», а в народе называют «Польское мясо». Хороший спектакль, веселый. Билеты нарасхват. Девушки молодые, красивые. Пляшут и поют. Медь сверкает. Там и про польское мясо, и про коньяк «Камю». И в буфете коньяк, но наш, синежтурский.
– А автор кто? – чуть ли не заикаясь, спросил Ковригин.
– Из Москвы, знаменитый, – это Вылегжанин произнес с гордостью. – Потому и поставили. Ковригин вроде бы…
– Спасибо, – прохрипел Ковригин и осел.
Стало быть, медь сверкает и коньяк синежтурский на сцене и в буфете, и буфет наверняка в виде Маринкиной башни.
Ковригин набрал номер Дувакина.
– Жиры набираешь на солнце? – спросил Дувакин.
– Это ты, наверное, шашлыками объедаешься сейчас у Соцского! Я-то в Москве.
– Это я в Москве, – сказал Дувакин. – Никуда не поехал. А ты на даче в весёлой компании.
– Сбежал, – сказал Ковригин.
– С чего бы?
– Долгий разговор. А я голодный.
– И я голодный.
– Ну, и сейчас же поспешай в «Рюмочную». Знаешь, где «Рюмочная»?
Дувакину ли не знать, где на Никитской «Рюмочная»? Он и учился в ГИТИСе, и почитывал там лекции.
Ковригин добрался до «Рюмочной» первым. Взял рыбную солянку, свинину отбивную с жареной цветной капустой и кружку холодного «Невского». Дувакин, известный неторопыга, и впрямь, видимо, сидел в своем московском одиночестве оголодавший, явился за столик к Ковригину минут через пятнадцать с тарелкой тушеных бобов и рубленым бифштексом под яйцом – напоминанием об учрежденческих и заводских столовых шестидесятых годов, ретро-блюда имели в «Рюмочной» успех.
– К этому ко всему, – сказал Ковригин, – полагается запотевшая бутыль «Ржаной» и селёдка с отварным картофелем и колечками лука.
Слова его резких возражений Петра Дмитриевича Дувакина не вызвали. И «Ржаная» была доставлена из холодильного шкафа буфетчицей Полиной.
– Игоря сегодня нет? – спросил Дувакин.
– И Игоря Андреевича нет, и Антонины Викторовны нет, – сказала Полина, – хозяева отдыхают.
И в «Рюмочной» была Антонина. Дувакин вздохнул. Будто бы и не рад был своему вопросу…
Наконец, организмы приятелей позволили допустить антракты в усердиях глухоты и немоты.
– Ты слышал о городе Среднем Синежтуре? – спросил Ковригин.
– Слышал кое-что, – кивнул Дувакин, вытирая салфеткой губы.
– Ну, так вот, – начал Ковригин и рассказал Дувакину о депеше из РАО и своём звонке в театр имени Верещагина. Лоренца Козимовна Шинэль Ковригиным, естественно, не была упомянута. Да и с чего бы упоминать её?
Дувакин поначалу сидел отрешённо-сытый, но потом заулыбался, а при пересказе Ковригиным телефонной беседы с патриотом театра и спектакля «Маринкина башня» Вылегжаниным и вовсе принялся похихикивать.
– Чему ты радуешься? – обиделся Ковригин. – Какие тут могут быть поводы для смеха?
– Ты пьесу-то свою хоть помнишь? – спросил Дувакин.
– В том-то и дело, что почти и не помню! – воскликнул Ковригин. – И называться-то «Маринкиной башней» она не должна была бы. А как называлась, убей Бог, не помню. Два раза перерывал бумаги студенческих лет, а на пьесу не наткнулся. Скорее всего, я отдал тогда приставале Блинову, чтобы отвязался, её единственный машинописный экземпляр. Одна надежда – рукопись отыщу. Или сама найдётся. Но то, что в ней не было никакого польского мяса и медь не сверкала, ручаюсь. А пели и плясали – это не у меня, а у Глинки и у Мусоргского.
– Про медь-то сверкающую, – рассмеялся Дувакин, – ты услышал от пожарника! От пожарника! Если только директор театра из страха перед тобой не прикинулся пожарником. А пожарник-то тебе и про брандсбойты, и про огнетушители мог рассказать. И польское мясо в его понимании – ещё неизвестно что. А может, и спектакль ставил бывший пожарник…
– Так ты считаешь, – спросил Ковригин, словно бы пребывая в неразрешимых и удручающих его сомнениях, – мне всё-таки стоит съездить в Средний Синежтур? – И думать нечего! – с воодушевлением воскликнул Дувакин. – Обязательно ехать! И расстраиваться тебе не из-за чего! Тебя, пьесу твою пропавшую поставили! Даже если там есть и мясо польское, и медь сверкает, и стриптиз, и девушки с весёлыми ногами откалывают канкан, ехать непременно! Это как раз годится для твоего же эссе о подлинной Марине Мнишек или хотя гипотезе-фантазии о ней! Раз есть теперь спрос на мюзиклы с Мариной Мнишек, значит, есть и интерес к ней как к исторической особе!
«Самый момент, – подумал Ковригин, – Петя созрел…»
– Уговорил. Завтра же и поеду, – доводы разумнодальновидного редактора популярного издания «Под руку с Клио» будто бы сломили, наконец, сомнения Ковригина, одолели крепость. – Узнаю утром, как удобнее – самолётом или поездом с Ярославского вокзала, и поеду… Да. Пётр Дмитриевич, а не смогли бы вы оформить мне командировку в Средний Синежтур?
Дувакин сразу же стал государственно-озабоченным, заёрзал на пластиковом сиденье.
– Видишь ли, Шура…
«Сейчас скряга и эконом примется жаловаться на скудость журнального бюджета, на падение курса доллара, на засуху в Алтайском крае, на гибель вробьёв под Вологдой и на непредвиденные шалости течения Гольфстрим…»
– Я не корысти ради, – сказал Ковригин, – а ради скорейшего удовлетворения культурологических интересов наших с тобой читателей… Но если Гольфстрим и вправду ведет себя непотребно, то, конечно, могу съездить и на свои…
– Ладно, – сказал Дувакин. Финансисты, налоговые надсмотрщики, пассивы, активы и ажуры прекратили в нём пререкания, отматерились, утёрли слёзы с соплями и разлетелись по своим насестам. – Поскребём по сусекам. Но тебе придётся подождать до понедельника.
– Не могу, – сказал Ковригин. – Вышлешь мне в Синежтур деньги и командировочную бумажку. Я бы и сегодня уехал. Но надо собраться. Переночую и с утра – из дома вон! А то ещё нагрянет и нагонит…
Слова вылетели из Ковригина неосторожные, но для Дувакина ожидаемые и необходимые. Возможно, болтовню Ковригина о повороте или даже кувырке («какой репримант неожиданный!») в судьбе сочинения, порожденного наглостью и игрой гормонов двадцатилетнего оболтуса, он выслушивал из вежливости, оживился лишь, узнав о суждениях и оценках просвещенного пожарника Вылегжанина, а интересовало его одно – что случилось у Ковригина с Антониной, как она и кого привезла гостем (или кем там?) на дачу, почему сбежал от неё (от них) Ковригин и почему он намерен бежать на край света или хотя бы в Средний Синежтур, к мюзиклу со сверканием меди, не дожидаясь правового вмешательства юристов Авторского Общества?
– Ничего особенного не произошло, – мрачно сказал Ковригин, – обычные родственные дрязги. Привезла с собой новую подругу, с ипподрома, что ли, дизайнершу, дуру еловую, кстати, оказавшуюся двоюродной сестрой или племянницей, я так и не понял, Натали Свиридовой, и принялись они хозяйничать, работу мне сорвали, дом решили новый ставить, а старый снести, сад выпилить, ну я и вспылил. Пусть делают что хотят. Жаль, что ты не собрался к нам по грибы, при тебе они на меня не посмели бы наезжать…
О том, что Антониной был обещан ещё один гость (а может, гости), неизвестно, какой породы, и неизвестно, каких помыслов, Ковригин умолчал. А Дувакин, похоже, успокоился и был готов, Ковригин это почувствовал, приободрить его увещеваниями доброго дядюшки и выступить дипломатом-миротворцем.
– Не хочу её видеть и не хочу выслушивать её объяснения, – сказал Ковригин. – В ближайшие дни… Все книги и бумаги из твоей коробки я завёз в Москву… Оставил записку, мол, должен срочно вылететь в командировку в Аягуз.
– Это в какой Аягуз? – спросил Дувакин. – Это который на Турксибе, что ли? И почему именно в Аягуз?
– В Аягузе она меня не отыщет, – сказал Ковригин.
Выпили молча. К удовольствию Ковригина, Дувакин вопросов об Антонине более не задавал.
– Вот что, Петя, – сказал Ковригин, – я уверен, что, не обнаружив меня в Богословском переулке, она будет обзванивать многих. Одному из первых позвонит тебе. Прошу, ни про какой Средний Синежтур, ни про какой спектакль «Маринкина башня» или даже «Польское мясо» ты ей не говори. Если спросит про Аягуз, скажи, да, что-то про Аягуз он, то есть – я, упоминал, а от кого он, то есть – я, поехал, толком не знаешь, вроде бы от какого-то из каналов ТВ. Я понимаю, как трудно будет тебе врать Антонине или, скажем поделикатнее, вводить её в заблуждение, но очень прошу!
– А вдруг она бросится в Аягуз? – сказал Дувакин. Сказал с явным состраданием к неизбежным хлопотам тонкочувствующей и совестливой женщины. Да и наверняка её благополучие и лад в душе Дувакину были важнее благополучия и тем более нервических трепыханий её шалопая-братца.
– Не бросится! – резко сказал Ковригин. И добавил: – Я успокоюсь и сам с ней свяжусь. И тебе сразу же позвоню из Среднего Синежтура. Сообщу адрес для перевода командировочных. А теперь давай выпьем за Аягуз!
– За Аягуз так за Аягуз, – вздохнул Дувакин.
12
Телефоны Ковригина, и сотовый, и настольный, обречённый ходом времени к вымиранию, молчали.
И вечером, после сидения в «Рюмочной», молчали. И ночью. И воскресным утром.
Ковригин даже опечалился.
Но из-за чего было печалиться? Разве только из-за своего эгоцентрического ребячества. Обидели бедного мальчика. Украли копеечку… Впрочем, в классическом случае именно мальчики обидели юродивого. А из Ковригина вряд ли бы получился юродивый. Да и никаких резонов к тому не имелось. Хотя жизнь ещё не вся совершена, мало что случится в датском королевстве… А Антонине, выходит, на даче сейчас было хорошо, ничто её не тяготило, и этому следовало только радоваться. Ковригин произвёл звонки и выяснил, что авиарейса на Средний Синежтур сегодня нет, а поезд с Ярославского вокзала отходит туда в семь вечера, билеты в кассах пока есть.
Собрал вещи, взял, что поприличнее, и то, что, по установлению эстеток, ему шло, и то, что, по их же установлениям, не стало в этом сезоне дурным тоном и не было опошлено сливками корпоративных вечеринок и клубных гулянок. Все же ему предстояло посещать театр имени Верещагина. А может, и пить синежтурский коньяк в буфете. Из книг положил в чемодан том Костомарова и козляковское, с Маринкиной башней на обложке, жизнеописание дочери сандомирского воеводы. Подумав, добавил к ним две тетрадки из чердачно-отцовской связки, вдруг в Среднем Синежтуре придется маяться в безделье и одиночестве.
Вчерашнее пожелание устроить уборку в квартире, к радости пожелавшего, само по себе отменилось. Затхло-застарелый (с весны!) беспорядок должен был убедить чистоплотную Антонину в вынужденности поспешного отъезда брата в Аягуз. То есть теперь в натуре Ковригина кувыркались противоречия. Минутами раньше он положил радоваться тому, что на даче и без него Антонине хорошо, и в то же время ждал звонка или даже аварийного приезда сестры (ключи от его квартиры у неё были), притом ждал то ли с нетерпением («совсем ей на меня наплевать!»), то ли с приготовленным возмущением самодержавной личности.
«Нечего ждать! – сурово приказал себе Ковригин. – Сейчас же на вокзал за билетами! И в дом до отъезда – ни ногой!»
В Богословский переулок до отъезда – ни ногой, это для того, чтобы и днём, если всё же она ринется в погоню, не смогла бы застать его дома. Этого ему не надо! И не должна она обнаружить никаких указаний на интерес Ковригина к городу Средний Синежтур и к процветающему в нём (но не исключено, что и прогорающему) театру имени Верещагина.
А никаких указаний-свидетельств и не было. Кроме послания из Авторского Общества. А потому и послание это было решительно упрятано в дорожном чемодане.
Подмывало Ковригина позвонить в Пермь благодетелю юных дарований Блинову. И разузнать у него кое о чем. Но звонить передумал. Антонина была знакома со многими однокурсниками брата, естественно, и с Блиновым, знала о степени их приятельства, и, коли бы предприняла поиски брата, непременно набрала бы и пермский номер Блинова, а Блинов, балабол, хорошо хоть безвредный, и бахвал, конечно бы, просветил милую, несравненную Тонечку о своем шикарном альманахе и спектакле «Маринкина башня» в Среднем Синежтуре. А как бы стала действовать Антонина дальше, Ковригин мог догадаться… Даже и одного варианта её действий Ковригину было достаточно. О том, что добыть какую-либо информацию от Блинова не удастся, приходилось сожалеть, но Ковригин, согласившись с доводами редактора Дувакина («да хоть бы и мюзикл, да хоть бы и стриптиз со сверканием меди, всё это – в копилку твоего эссе о Марине Мнишек!»), посчитал, что в любом случае он проедется в Средний Синежтур не без пользы для себя. Ко всему прочему в нем оживал путешественник, Марко Поло и Паганель с Бронных-Бронежилетных улиц, четыре месяца сидевший сиднем в лесу.
«Всё, – сказал себе Ковригин. – Готовность номер один. Надо присесть на минуту и выходить!»
Присел. Направился было к двери, но вжитая в него семейная привычка бытовой безопасности заставила Ковригина совершить обряд предотъездного осмотра квартиры. Проверить, перекрыт ли газ, не воняет ли где им, отключены ли электрические приборы, не греется ли в ванной утюг, не утекает ли там вода, не оставлена ли на подоконнике недотлевшая сигарета. Ну, и так далее. В обряд этот входила и обязательная инспекция телевизора. Пусть сейчас он уже не светится и не рекламирует средство от поноса, но вдруг и в нем всё же надо что-либо отщелкнуть на всякий случай. Кнопка под пальцем Ковригина заставила телевизор на этот раз контрольно засветиться и зазвучать. Ковригин полагал, что на три мгновения. И надо же было Ковригину включить средство информации именно в минуту, когда левая рука его уже подняла чемодан.
Строгая женщина в милицейской форме укоряла с экрана беспечно-безответственных гуляк и повес. Понятно, жизнь в стране стабилизируется. Наваждение Смуты из неё потихоньку уползает. Возникает, и это замечательно, множество поводов для плодотворного проведения досуга. Но беспечность, в пору повсеместного увлечения попсой и китайской пиротехникой, может приводить к печальным событиям в нашей интересной жизни. У многих на памяти сокрушительный пожар сухопутного шестипалубного лайнера-ресторана «Адмирал Лазарев». Тогда, если помните, во время одной из интимно-чарующих корпоративных вечеринок на всех палубах сухопутного гиганта полыхнуло от неумеренного употребления шутих, петард и ракет. При этом на всех палубах ещё и зажигали публику одноразово-приглашенные звёзды. Хорошо хоть тогда обошлось без жертв. Однако урок адмиральских погорельцев не пошел впрок. Вчерашней ночью неприятное происшествие случилось неподалёку от бывшей стоянки «Адмирала» на берегу всё тех же волжских вод, насосами Канала пригоняемых в столицу ради утоления наших с вами жажд и обеспечения Москвы статусом порта пяти морей. Пострадал популярный в народе дирижабель-ресторан «Чудеса в стратосфере». Сначала он вспыхнул, потом взлетел, и в воздухе его разнесло в клочья, опавшие в воды Канала. По предварительным данным, к счастью, гостей и обслуги в нём не было. Однако не исключено, что внутри дирижабеля находилась его владелица. Личность владелицы и причины возгорания устанавливаются следствием. И сейчас же возникли на экране номера контактного и справочного телефонов.
Рука Ковригина, опустившая чемодан на пол, забралась в карман пиджака в поисках мобильного телефона. Тут же руке был отдан приказ: из кармана удалиться. Ни в каких контактах и справках в связи с возгоранием дирижабеля-ресторана «Чудеса в стратосфере» у Ковригина необходимости не было, рука полезла в карман сама по себе. Ей следовало объявить благодарность. Она напомнила Ковригину о его же решении от мобильного избавиться. Если бы Антонина обнаружила его здесь, в Богословском, ей в голову полезли бы фантазии по поводу пропавшего братца одна невероятнее другой. А держать телефон при себе в ожидании, что он разрядится, тоже было бы глупостью. А потому по нему следовало долбануть пару раз кирпичом или булыжником и отправить его осколки в мусорный ящик. В Средний же Синежтур отъехать со свежим сотовым.
Билет на Ярославском вокзале Ковригин приобрел быстро, чемодан оставил там на хранение и был намерен побродить с неторопливым разглядом знакомых домов по сокровенным улицам и переулкам, о чём мечтал на даче. Не исключались при этом заходы в питательно-питейные заведения, из уютных, предпочтительно без официантов. Начать постановил с Замоскворечья. И вот ехал, ехал себе по Кольцевой в легкой задумчивости туманно-перламутровых (не от мыльных ли пузырей?) синежтурских видений и вдруг понял, что следующей станцией будет вовсе не ожидаемая им «Новокузнецкая», а «Новослободская», а там – переход на линию к Савёловскому вокзалу. «Ну ладно, – успокоил себя Ковригин, – коли сам себя привёз на „Новослободскую“, часок можно будет потратить на путешествие к водам Канала…» В летнюю пору средних классов, на каникулах, в гостях у яхромских родичей Ковригин в обществе множества двоюродных сестер и братьев часами бултыхался в этой буро-полупрозрачной воде и сейчас рад был бы оказаться в Яхроме, но тогда он ни до какого Синежтура и за век бы не добрался. Но теперь поездку в Средний Синежтур отменить он не желал.
А потому вышел из дмитровской электрички на платформе «Речник», у запани с яхтклубом, то есть на северной окраине города Узкопрудного, дирижабельной столицы России, где в тридцатые годы двадцатого столетия свои галактические фантазии пытался превратить в заводские изделия приглашенный из Италии военными стратегами романтик Нобиле, сгинувший на время в ледяных просторах северного приполярья, но потом обнаруженный.
Не сходя с платформы, Ковригин поинтересовался у мужика в ватнике и с ведром яблок, где расположен ресторан-дирижабель «Чудеса в стратосфере».
– Он не расположен, – сказал мужик. – Он располагался. Ночью сгорел и в воздухе – вдребезги! Хозяйку жалко. Замечательная была женщина. На неё ходили смотреть. Красавица. Водяное растение…
– Из русалок, что ли? – спросил Ковригин. – С хвостом?
– Почему из русалок? – чуть ли не обиделся мужик. – Почему обязательно раз красавица, значит – из русалок? Не все красавицы из русалок. И не все русалки вознаграждены хвостами.
– Водяное, стало быть, растение…
– Да. Кувшинка, лилия, лотос – разве не водяные растения? – сказал мужик.
– Ну да, ну да, – закивал Ковригин. – Лотос, белая нежная лилия, кувшинка, кубышка…
– Лоренца Козимовна, – явно укоряя Ковригина, покачал головой мужик, – не была кубышкой.
– Лоренца Козимовна? – будто бы удивился Ковригин.
– Лоренца Козимовна. А что? – сказал мужик. – И по-другому звали. Но и – Лоренца Козимовна.
– Вы её знали?
– Немного, – сказал мужик. – Заходил к ним. Подкармливали. Медузами в маринаде. Со сметаной. Деликатес.
– Из тюбиков? – спросил Ковригин.
– Почему из тюбиков? Из банок. Стекольных, – сказал мужик. – Добрая женщина. Завидовали ей. Из зависти и подожгли. Сама не могла не доглядеть. Хозяйственная и дотошная. Или конкуренты…
– Надо же… – пробормотал Ковригин.
Ковригин чувствовал, что он мужику не слишком приятен, возможно, отчего-то и подозрителен, да и вообще разговор с незнакомцем для того – дело пустое, однако он его не обрывал, словно бы ожидая от Ковригина неведомо-увлекательного, а может, и нелепого вопроса, давшего бы ему повод выговориться не об одном лишь погоревшем ресторане и его хозяйке, но и о многом другом, в частности, о стабилизационном фонде, об инновационной политике, о происках Саакашвили и Кандализы Райс и о продаже «Спартаком» футболиста Торбинского.
– Спасибо, – сказал Ковригин, – за то, что вы уделили мне время. Пойду-ка я к берегу, посмотрю…
– Тебя туда не пропустят. Там оцепление.
– А может, и пропустят…
– Ты – сыщик? – спросил мужик.
– Сыщик, – вздохнул Ковригин. – В своем роде…
– Частный, что ли?
– Вот именно, что частный…
– Ну, тогда давай визитку, – сказал мужик.
– Это зачем?
– Ну как же! – мужик удивился простоте Ковригина. – Частный сыщик всегда суёт гражданину визитку, мол, если что вспомнишь или заметишь, или версия есть, позвони. И ещё – просит сходить за водой, а сам пристраивает жучок с видеокамерой. Считай, что я пошел за водой.
– И какие же у вас версии?
– Тут и постовому понятно, – сказал мужик, – поджог связан с профессиональной деятельностью хозяйки. Погубители – либо завистники, либо конкуренты, недовольные возрождением отечественного дирижаблестроения.
– Это – на виду, и для постового, – сказал Ковригин, – а ваши-то версии?
– Хе-хе! – хмыкнул мужик. – У меня-то есть соображения. Но соображения, сам знаешь, не цветут без вознаграждения.
Ковригин нахмурился. Сказал:
– Нет у меня ни визиток, ни жучков, ни вознаграждений.
– Значит, ты и не частный сыщик! – мужик, похоже, обрадовался. – Значит, ты и есть один из погубителей. И тебя самого сыщут. И не жди удачи.
– Сколько стоит ваше ведро яблок? – спросил Ковригин.
– Антоновка, – сказал мужик. – Без ведра – двести. С ведром, учти – эмалированным, хоть бы и с дырой, – двести пятьдесят.
– Вот вам триста рублей, – протянул бумажки Ковригин. – А яблоки с ведром оставьте себе.
– Премного благодарен, ваше благородие, – согнулся в полупоклоне мужик, – а то ведь и не знал, что делать. Зверушки у меня на ферме сидят голодные. Стонают. Головами вертят. Теперь покушают. Благодетель вы ихний…
– Какие зверушки?
– Улитки виноградные, ну и зелёные лягушки. Лучших сортов. А мои соображения вы хотите теперь услышать?
– Нет. Не хочу, – резко сказал Ковригин. – Нет времени. Ещё раз спасибо, и пойду…
– Ну, сходи… А если вернёшься сюда, загляни ко мне на ферму, спроси ферму Макара, тебе скажут. А теперь сходи, куда направился… – и мужик усмехнулся ехидно, пожалуй, что и со злорадством и будто бы с предощущением невзгод Ковригина в скорые дни…
«А ведь со временем-то у меня действительно туго, – сообразил Ковригин. – Ни на какие переулки у меня его и не останется…»
Нужда спуститься к булыжному берегу Канала у Ковригина, пожалуй, развеялась, отлетела пухом одуванчиков. Что нового он мог бы узнать на берегу и что увидеть? Но он ощущал, что мужик при ведре с антоновкой с интересом (или даже с азартом игрока) смотрит ему в спину. И отказ от спуска к месту ночного происшествия значил бы, что он, Ковригин, спасовал перед фермером Макаром. В чём спасовал и кто для него вообще этот так называемый фермер, Ковригин не знал. Однако, из упрямства, что ли, пошел вниз, к волжским водам. Территория пепелища у моста Рогачёвского шоссе, не слишком великая, была действительно оцеплена. Кроме милицейских автомобилей Ковригин увидел на бывшей стоянке дирижабля и две пожарные машины, возможно, там ещё что-то тлело. На краю платформы к бетону рекламного столба клеем «Момент» были приживлены объявления. Виртуозов чуть ли не пятнадцати профессий к высокооплачивыемым трудовым будням зазывали возобновители шести палуб со штурвальной рубкой наверху возрождаемого сухопутного лайнера-гиганта «Адмирал Лазарев». А ресторан «Чудеса в стратосфере» приглашал на службу лишь гондольеров, но не двух или трёх, а сразу – семерых.
Ковригин присел на траву прибрежного откоса, пока ещё зелёную и сочную, закурил. Потом заметил рядом разброс камней. Вряд ли они остались от ледника, ползшего здесь некогда из северных прогретых краёв. Скорее всего, их не довезли до возрождаемого «Адмирала». А может быть, затевали вымостку откоса, но затея взяла и повесилась. Ковригин пересел на камень. И тут же, влево от себя, ближе к мосту железнодорожному, увидел (и рассмотрел) палубы «Адмирала», пока ещё в лесах и в зеленоватых целлофановых занавесях. Не шестипалубники ли эти и были конкурент-погубителями дирижабель-ресторана «Чудеса в стратосфере», судя по приглашению семи гондольеров с оплатой трудов в у.е., вовсе не собиравшемуся прогорать и уж тем более взрываться? Сейчас же в Ковригине возбудился праведный гнев («экие сволочи, корыстные ублажители корпоративных якобы страдальцев, а по сути – деляг, решетом собирающих влагу!») и сострадание к хрупкой женщине, сбитой ядовитой стрелой в схватке недоразвитых капиталов. «Она-то ведь, – явилось соображение, – может, как и здешний итальянский генерал Нобиле, была истинной патриоткой дирижаблей и ресторан держала исключительно ради того, чтобы возбудить в обществе интерес к дирижабельной романтике и добыть деньги на её возрождение»…
Но почему вдруг – «хрупкая женщина», осадил себя Ковригин. Поводов называть её хрупкой женщиной Лоренца (или как там её?) в забавах с ним вовсе не дала. И что он толком знает о ней? С чего вдруг возникли в нём фантазии о хлопотах Лоренцы по возрождению отечественного дирижаблестроения? Что он вообще припёрся сюда, отчего у него здесь на зелёном откосе слёзы чуть не закапали? Глупость какая-то! Кстати, вспомнилось Ковригину, у неё, по утверждению в визитке, странницы и маркизы, имелся ещё ресторан или подземный будто бы бар. Ковригин вынул бумажник, потрепанный, размятый, оставшийся от отца. Визитка Лоренцы не была в нём обнаружена. Если она не рассыпалась, не улетучилась в азоте с кислородом (и с чем-то ещё) сама, стало быть, осталась в квартире, в Богословском. От дачного полемиста и доброхота Кардеганова-Амазонкина Антонине стало известно о красавице Лоренце Козимовне, и если её визитка попалась бы Антонине на глаза, возникли бы в сестрице отчаянные и ложные направления мыслей. «И это замечательно!» – возрадовался Ковригин.
В это мгновение в кармане его заверещал телефон. «Идиот! – отругал себя Ковригин. – Ведь обещал избавиться от него!» Телефон трещал-верещал минут пять, испытывая силу воли Ковригина. Испытал. А когда затих, Ковригин решил приступить к уничтожению приговорённого им (по необходимости) предмета. На камне он сидел, камни, побольше и поменьше, лежали рядом. И тут его остановила семейная (Антонина не в счёт) и уже известная нам привязанность к старым, долго и достойно служившим человеку вещам. Настроение у Ковригина и так было не слишком весёлое, а тут он затосковал. Рука его не смогла опустить камень на темную пластмассовую коробочку, а в ней наверняка оставались звучать и жить голоса, радости, страдания, дела и самого Ковригина, и многих близких ему и противных ему людей. «А сделаем так! – пришло в голову Ковригину. – Упрячу-ка я его под камни, укрою так, чтобы никто его не нашел. Вернусь из Синежтура и откопаю. Наказаний он не заслужил. Разрядится к тому же он дня через два. А за два дня, глядишь, примет и запомнит что-нибудь важное…»







