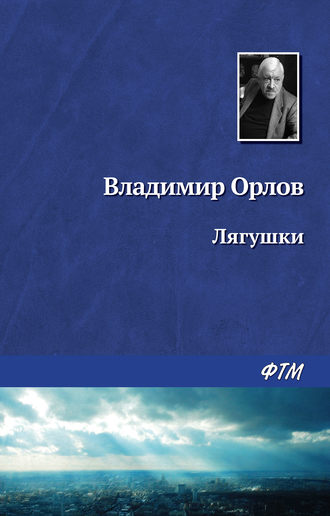
Владимир Орлов
Лягушки
9
Разбудили Ковригина автомобильные гудки.
Ковригин выскочил во двор в трусах и в смущении вынужден был извиняться.
У ворот рядом с синей «семёркой» стояла Антонина, руки в боки, и при ней – сопровождающая особа.
– Сейчас, сейчас, я оденусь, – пообещал Ковригин. – И вынесу ключи…
– Да на кой нам твои одевания! – заявила Антонина. – Отворяй ворота и калитку! И разгружай машину!
«Так, – соображал Ковригин. – Значит, без мужика. Сказала бы толком о бабе, уговорил бы Дувакина приехать… Всё было бы веселее…»
– У нас может быть и ещё один гость, – сейчас же остудила его Антонина. – А вдруг и не один…
«Ага. Без мужиков всё же не обойдутся… Интересно, какие сюжеты нынче намечены? А может быть, из этих сюжетов я и вынырну», – будто бы испытал облегчение Ковригин.
– Смотри, какие бока-то отъел! – не удержалась Антонина и ущипнула Ковригина. – Обнаженная натура! Таскай, таскай, там и тебе что-то перепадет. Завтрак можешь не готовить, сама что-нибудь соображу. Какой ты кулинар, я знаю…
Замечание это вызвало протест Ковригина, впрочем, вслух не высказанный, оно и к лучшему, пусть сами и готовят, то, что он умеет колдовать на кухне, сестрице было известно по житейской практике, стало быть, ехидство было ею произнесено и не для него, Ковригина, а для сопровождающей особы.
На особу эту Ковригин взглянул мельком, она уже грызла яблоко, отмахиваясь от оживших мелких мух, посмеивалась чему-то, было ей лет двадцать пять, эстетических одобрений первого взгляда она у Ковригина не вызвала, а подвинула его к моментальному решению – проявлять себя джентльменом и угодником нет игровой нужды, и поведет он себя букой и дикарём.
– Напрягать вашу творческую натуру, маэстро Ковригин, вряд ли мы будем, – сказала Антонина. – Вам повезло. Мы приехали по делу.
– По какому? – на всякий случай спросил Ковригин.
– Дом надо ставить, Сашенька…
– Какой дом?
– Большой, красивый. Три спальни наверху, гостиная, комнаты для гостей, ну и внизу, ну и камины. Как у людей. Даже у тех, что живут в нашем посёлке…
– В Урочище Зыкеево… – пробормотал Ковригин.
– Каком Урочище? – удивилась Антонина.
– В обыкновенном… сыром…
– В общем, пришла пора. Дети растут. И я решила…
– Ты решила… – сказал Ковригин.
– Я понимаю, Александр. Ты сейчас надуешься. Да, ты старший брат. Да, участок записан на тебя. А я взяла и за тебя решила… Но я выложу все свои доводы и…
«Уломаю тебя…» – должна была произнести Антонина, подумал Ковригин, и ведь уломает, в первый раз, что ли… Но приехала бы одна, ну не одна, а с детишками, они для Ковригина – как свои собственные, и разъяснила бы свое пожелание, и всё бы кончилось непременным, но мирным ворчанием брата. А тут – всё на ходу, да ещё и при чужой и смешливой особе. Что-то здесь было не так. Или совсем не так. И уж точно не по семейным правилам. Ковригин чувствовал, что Антонина находится сейчас в несомненном напряжении, ему даже передалась её нервная дрожь, и это была дрожь не нетерпения или азарта, свойственных сестре, а дрожь неуверенности в себе и своем предприятии, а потому, видимо, она и захотела нынче пойти в лобовую атаку и взять брата голеньким. Что (второе) и вышло самым натуральным образом.
– И Ирина, – сказала Антонина, – согласилась приехать сюда вовсе не для развлечений и шашлыков, и тем более не ради знакомства с тобой, а именно по делу. Она – дизайнер и довольно успешный.
– Ирина, – кивнула дизайнерша и разулыбалась, будто бы радуясь словам Антонины и её огорошенному братцу.
– Александр, – пробурчал Ковригин. – Очень приятно познакомиться.
– Александр, – строго сказала сестра. – А кто такая Лоренца?
– Какая ещё Лоренца? – нахмурился Ковригин. Антонина, похоже, решила закрепить удачи лобовой атаки.
– Лоренца Козимовна. Которая приезжала к тебе на серебристом «лендровере». Красавица! У нас вон с тобой дрянная «семерка», а у неё «лендровер». Нам с Ириной активист Амазонкин уши залил компотом и просил передать Лоренце Козимовне нижайшие поклоны. И вроде бы она отъехала от тебя утром. Так кто же такая Лоренца Козимовна?
– Моё дело… – сказал Ковригин и захлопнул крышку пустого уже багажника. Дрянная «семерка» – была единственным серьёзным приобретением Ковригина, однажды его книжку оценили неплохим гонораром, но ездила на синей дряни чаще всего Антонина.
– Ты, Ирина, – сказала Антонина, – не подумай, что он такой дикарь и питается лишь шишками с ёлок. Нет, иногда он бывает и ходок, в костюмах, это с него Роден ваял «Мыслителя».
– И Мирон «Дискобола», – добавил Ковригин. – И Андреев Гоголя Николая Васильевича для бульвара.
– Точно, точно! – обрадовалась Антонина. – И Мирон Гоголя! Так кто же такая красавица Лоренца?
– Её ко мне присылал Пётр Дмитриевич Дувакин, – сказал Ковригин.
«Так вот… – подумал Ковригин. – Получи своё…»
– А вчера он передавал тебе привет. Я хотел было зазвать его на грибы, но не ведал, с кем приедешь ты.
Антонина не сразу, но переборола в себе (из-за слов, произнесенных в присутствии гостьи, что ли?) смущение, возможные неприятно-неловкие соображения и восстановила в себе воительницу, властную особу («Ба! Да она вылитая царевна Софья! – явилось в голову Ковригину и сразу раздробилось на собственные же возмущения. – При чем здесь царевна Софья! Что за глупости лезут в башку! На Дувакина, что ли, напала икота? И что такое „вылитая“? Кто-то ведь первым употребил эту ерундовину! И в связи с чем?»). Властная особа Антонина поглядывала так, будто она, казалось Ковригину, снова была способна продолжить атаку на него, иронизировать над ним, повелевать им, словно холопом своим или стрельцом полка Хованского. Бред какой… Или же ей, напротив, хотелось радоваться ему, как чуть ли не отпрыску своему, именно ею взлелеянному и воспитанному, и предъявлять его подруге, умеющей ценить линии и формы, экземпляром дачного молодца и лоботряса (оттого и было приказано таскать вещи из багажника «обнаженной натурой»)?
– Ну ладно, к Лоренце мы ещё вернёмся, – словно бы смилостивилась Антонина. – Иди приоденься. Только прихвати в дом наши вещички. А потом приходи завтракать. Мы сейчас что-нибудь состряпаем.
«Стерва! – думал Ковригин, стряхивая на террасе землю и травинки со ступней. – Босиком бегать заставила. Врасплох решила брать. Спящего!» Натянул адидасовские штаны и майку, зашнуровал адидасовские же кроссовки, всё, понятно, произведённое в провинции Муданьдзянь, если такая есть. «Стерва! – повторял он про себя. – Стерва! Предавшая Шакловитого! Ну, я ей что-нибудь устрою! И сегодня же. Спящего. Врасплох». Но сейчас же сообразил, что он вовсе не Василий Иванович в станице Лбищенской на берегу бывшей русской реки Урал. Он был не спящий, а проспавший, засиделся вчера в саду в лунных фантазиях. И понимал, что ничего этакого он Антонине не учинит. Поводов для его досад она создавала много и часто, но долго сердиться на неё он не мог. И сегодня через полчаса его огорчения должны были развеяться…
А вот дизайнерше Ирине досадить следовало…
Экая смешливая кобылица!
Однако, отчего же кобылица? Хотя на вид крепких, предположим, форм. Будто бы из накачанных. Из посетительниц фитнесцентров и спа-салонов. Весной или летом заплывала за буйки где-нибудь на пляжах Ибицы. Но тощая блондинка. Длинная, выше Антонины. Наглая. Волосы жидкие. Прямо стянутые к пучку, из тех, что, как острят, отглаживают утюгом. Не только без яркости барышня, но и без породы. Впрочем, что такое порода? Лёха Чибиков из графьев и князей, а при знакомстве подумаешь – шпана из подворотни. Это про Антонину Ковригину говорили: «В твоей сестре чувствуется порода». На филфаке Антонину сравнивали с Элен Безуховой, что, естественно, её раздражало. И сейчас она, вальяжная, рослая, в теле, в соку, ухоженная, но и спортивная по-прежнему, с лукавыми глазищами, прекрасно причесанная, (природная шатенка), рядом с провинциально-претенциозной Ириной (явно явилась из Уржума завоёвывать столицу) вызывала мысли о породе или даже о примечательном фамильном древе. А какая у Ковригиных была порода? Папаша выглядел маленьким сухоньким мужичонкой. Такому в лаптях ходить. Курил самокрутки с махоркой, выращенной им здесь же в огороде рядом с огурцами и помидорами. Да и у матери в роду были крестьяне и яхромские ткачи. И вот – нате вам! – дочь у них выросла Элен Безуховой, правда, эта Элен Безухова лазала по скалам, гоняла на мотоцикле и прыгала с парашютом. А сынок, то есть он, Ковригин, вымахал в детину ростом в метр восемьдесят семь.
В кухню Ковригин зашел как бы с неохотой, как бы у него не было аппетита. Антонина с новой своей приятельницей состряпали бутерброды с бужениной, красной икрой, открыли банку шпрот и бутыль полусухого вина.
– Шашлыком ты займешься, – объявила Антонина. – Часа в четыре. Нет, в пять. Теплынь-то какая! Тебе бы в шортах ходить нынче.
– Ходить я не буду, – сказал Ковригин, движением ладони отклонив стакан с вином, и нажал на кнопку электрического чайника. – Я буду сидеть. У меня много работы. И срочной. Опять тот же Петя Дувакин озадачил.
– То есть ты даешь понять, – сказала Антонина, – что наше общество тебе малоприятно, ни прогуливаться с нами и вести светские беседы, ни потом телохранителем сопровождать нас в дремучем лесу ты не намерен? – Человек не в настроении, – сказала Ирина, продолжая улыбаться, – зачем принуждать его к чему-либо, дорогая Тони? Тем более к непосильным подвигам…
«Она меня достанет этим „дорогая Тони“! – подумал Ковригин. – Хорошо хоть не произнесла „дарлинг“ и не выплюнула жвачкой: „Вау!“»
– И о чем же таком замечательном, – язвой усмехнулась Антонина, – уговорил тебя написать Дувакин?
– Мало ли о чём или о ком, – проворчал Ковригин. – Вам-то что? Ну, предположим, о Марине Мнишек и о царевне Софье, опальной сестре великого Петра. – Блин! – громко то ли обрадовалась, то ли удивилась Ирина. – Да что всех заклинило на этой Марине Мнишек?
– Кого всех? – спросил Ковригин.
– Да хотя бы Натали Свиридову! Старушка, ей сорок уж, дорвалась до Марины Мнишек в «Годунове». И радуется.
– Какие ей сорок? – с легким (или нежным?) укором взглянула на приятельницу Антонина. – Ей тридцать три. Она моя ровесница.
– Извини, дорогая Тони, какая же ты старушка, ты ой-ой-ой! – Ирина, похоже, и не смутилась. – Я про Натали. Ей-то как раз сказали, что она наконец доросла до Марины Мнишек у Фонтана. Росла-росла и доросла. И она счастлива.
– Марине Мнишек, – хмуро сказал Ковригин, – которая в Самборе у фонтана, было пятнадцать лет.
– Ну, значит, она доросла как актриса! – выпалила Ирина и рассмеялась. – Меня ещё на свете не было, а какой-то влюбленный в неё шпендрик приносил ей пьесу о Марине Мнишек, он был бездарь и придурок, и в прыщах, она его выгнала с пьесой, а теперь вот доросла.
– Но ведь до Пушкина доросла! – заметила Антонина.
– От кого вы знаете про шпендрика? – спросил Ковригин.
– От Натали. От кого же ещё! Вау! – Ирина снова рассмеялась. – Она моя тётка. То есть она моя старшая двоюродная сестра. Но я с детства называла её тётей.
– Сколько же вам лет, извините?
– Мне? Мне… – тут Ирина быстро взглянула на Антонину. – Мне двадцать четыре…
– Но если вас в случае со шпендриком не было на свете, – сказал Ковригин, – выходит, что вам не более шестнадцати.
– То есть?
– Этот шпендрик был я, – сказал Ковригин. – То, что я бездарь и придурок, это справедливо, но прыщей у меня не было.
Антонина ерзала на табурете, желала, видимо, изменить ход разговора, и это Ковригина забавило. Хотел было пожалеть сестру, но передумал.
– А кто играл Самозванца? – спросил Ковригин на всякий случай.
– А этот… Гаврилкин, кажется…
– Но ведь Гаврилкин тенор, – удивился Ковригин. – Он же в опере у Мусоргского поёт Самозванца…
– А он и пел! – хохотнула Ирина. – Рядом с Натали всякий запоёт!
– Вы – дизайнер? – успокаивая себя, спросил Ковригин.
– Да! – не выдержав, воскликнула Антонина. – Ирина прекрасный дизайнер. С мировым уже именем. Совсем недавно мы работали в Крылатском. Там и познакомились. На Кубке Кремля. Нет, не теннис. Конкур. Конкур. Лошадки. Меня пригласили переводчицей. А Ирину экстренно уговорили стать курс-дизайнером…
«Ага, вот откуда кобылица-то возникла! – сообразил Ковригин. – Хотя какая тут логика?»
– Ты хоть знаешь, что такое курс-дизайнер? – спросила Антонина.
– Нет. Мне неведома тайна сия, – произнес Ковригин. Манерно произнес. Будто бы даже с высокомерием по отношению к курс-дизайнерам. И вызов явно был в его словах.
– На конкурном поле, – Антонина словно и не почувствовала его высокомерия, – все препятствия должны находиться на определённом расстоянии друг от друга. Как того требуют программа именно этого соревнования и необходимости разбега лошадей. И, естественно, соответствовать уровню современного дизайна.
– Лошадиного? – спросил Ковригин.
– Хотя бы и лошадиного! – хмыкнула Ирина.
– Не ехидничай, – нахмурилась Антонина. Но сейчас же и продолжила представление подруги: – Всё уж было готово в Крылатском. У нас теперь, имея в виду Сочи, вынуждены пускать пыль в глаза. А тут июльский ураган, почти торнадо, ты здесь сидел, у тебя не веточки не хрустнуло. В Крылатском же препятствия покорёжило. Бригаде дизайнеров дали неделю срок. И Ирина своими проектами порвала всех!
– Это с какого языка? С языка синхронных переводов, что ли? – спросил Ковригин. – И где теперь порванные в клочья?
– Ты дурака валяешь, что ли? – удивилась Антонина. – Так многие теперь говорят. И у Ирины девиз: «Порвать всех!». Тут и целеустремлённость. И уверенность в своих силах. И таланте. Чего нет у тебя.
«И ведь порвет», – подумал Ковригин.
– Многие говорят… – произнёс он, обращаясь как будто бы и не к Антонине, и не к самому себе, а куда-то в воздухи. – Режиссёрша из Похвистнева, завоевавшая в Москве два когда-то любимых мною театра, требует от актёров: главное – порвать публику! Тренер, мне известный, говорил своим фигуристам: на трибунах одни враги, их надо порвать!
– Ты, Александр, сегодня не в духе, – сказала Антонина. – Не выспался, что ли? Или мы тебя раздражаем? – Писанина идет плохо, – сказал Ковригин. – А сроки Дувакин дал малые. А потому я покидаю вас и отправляюсь к бумагам.
И отправился.
Полагал, что его остановят. Или хотя бы выскажут в спину, вдогонку (то есть, понятно, выскажет Антонина) какие-либо ехидства или сожаления. Не остановили, не высказали. Будто от них уходил никчемный и лишний Амазонкин. Хихикали, болтали о чём-то своём, городском, жевали.
«А я ведь и впрямь для них сейчас лишний…» – расстроился Ковригин.
Уговаривал себя не расстраиваться. Ему ли удивляться увлечениями младшей сестрицы. Должен был бы привыкнуть к ним.
Но успокоиться не мог.
Порвать всех. Девиз хорош. Порвать публику. Ради чего? Поселить бы эту желающую порвать всех в Маринкину башню при впадении Коломенки в тихоструйную реку Москву. Но Мнишек в Маринкиной башне, возможно, и не была размещена. Да и желала ли девочка из Самборского замка порвать всех? Вряд ли. А нынешние желают. И всех порвут. Если смогут. Какие препятствия, интересно, выстроила бы курс-дизайнер Ирина в мокрый день на пути странствия взбаломученных чем-то лягушек?
Стоп. Хватит. Ещё и лягушки. О них было постановлено забыть.
Коли бы работа пошла, Ковригин забыл бы и о новой подруге сестры, и о самой сестре, но, увы, терраса глядела в сад и именно на яблони в саду.
Чтобы дамы не посчитали возможным сунуться к нему с разговорами, Ковригин обложил себя бумагами, книгами и тетрадями. Среди прочих у правой руки его на столе улеглась тетрадь с выведенными на её обложке словами: «Мелочи. На всякий случай». Впрочем, это была и не тетрадь. Записи (или выписки) «мелочей на всякий случай» Ковригин делал в вахтенных журналах маяка острова Карагинского, что в тихоокеанских водах у берегов Корякии. Командировочно на неделю залетал к мая́ку («ма́яку» – говорили местные служители) на вертолёте и получил там в подарок пять пустых вахтенных журналов. Ради пижонства и произвёл журналы в писчие тетради. На дачу завез из Москвы одну из них «Р-С», ради работы о Рубенсе. Открыл тетрадь и на страницах буквы «С» наткнулся на запись: «Скань. Софья. У царевны Софьи, сестры Петра I, было большое зеркало в сканой раме». Далее шли слова: «Одиссея. Гомер. Страсть Марса. Сетка проволочная для поимки Венеры»:
Крепко свою наковальню уладил… и проворно
Сеть сковал из железных, крепчайших, ничем неразрывных
Проволок… сетями своими опутав подпоры кровати,
Их на неё опустил с потолка паутиною тонкой…
Почему под зеркалом в сканой раме царевны Софьи возникли строки о страсти Марса и сетке проволочной, Ковригин рассудить не мог. И вспомнить не мог, какие его соображения десятилетней (выходило) давности поместили Марса с сеткой рядом с Софьей. Зато теперешние его мысли вызвали видение Софьи, рассматривавшей себя в зеркале (большом!) со сканой рамой. Наверняка она была в «невыходном» европейском платье. А не украшала ли это платье костяная пороховница?.. Опять – пороховница! Чтобы отвлечься от всяческих пороховниц, Ковригин продолжил чтение давно забытых им самим записей «на всякий случай». И прочел: «Суриков (поры „Стрелецкой казни“) о Софье. Не понравилась ему репинская Софья. Как не понравилась и Стасову. Стасов считал, что Софья у Репина позирует. А по понятиям Стасова, Софья была самой талантливой, огненной и страстной женщиной Древней Руси. Суриков же высказался так: „Женские лица русские я очень любил, непорченные ничем, нетронутые. Среди учащихся в провинции попадаются ещё такие лица. Вот посмотрите на этот этюд (девушка с сильным, скуластым лицом), вот царевна Софья такой должна быть, а совсем не такой, как у Репина. Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабой пойти? Их вот такая красота могла волновать, взмах бровей, быть может… Нетронутая красота…“»
Разговор в саду заставил Ковригина поднять глаза.
Две дамы бродили под яблонями.
Они успели переодеться, зашли, видимо, в Детскую, не отвлекли Ковригина от вахтенных журналов с «мелочами» и теперь в соответствии с июльским настроением нынешних осенних деньков пребывали в саду в шортах и топах на тонких бретельках. В шляпах не нуждались, и без них женщины были хороши. А коли бы и Ковригина посетило сейчас июльское настроение, они бы и у него вызвали обострение чувств. Хотя бы и эстетических. Теперь же в противостоянии их агрессии Ковригин был готов отыскивать в них изъяны. Крепкие икры и плечи («выдержат и два коромысла») Ирины годились в подтверждение мыслей о вульгарности и наглости гостьи. Марина Мнишек с обложки жэзээловской книги, с портрета, написанного её современником, смотрела на Ковригина кротко, деликатно и жемчужно-ласково. А тут Ирина приволокла хозяйственную сумищу и достала из неё веревочные мотки, связки колышков и деревянные молотки («киянки» – вспомнилось Ковригину). С помощью Антонины деловая курс-дизайнерша принялась вбивать колышки в землю, расстягивать бельевые будто бы веревки, устраивая явно разметочную геометрическую фигуру. Ковригина в советчики не призывали, в сторону его окон вообще не оглядывались, судачили о чём-то, но тихо, пересмеивались и очевидно получали от общения друг с другом удовольствие. Колышки и верёвки то и дело перемещали, производя, наверное, примерки, наконец-то успокоились, будто бы завершив фундаментальное дело, уселись в зелёные пластиковые кресла, закурили.
Восемь яблонь, а с ними и две сливы оказались в плену колышков и бельевых верёвок. Среди них и любимая Ковригиным грушёвка.
На террасе стало душно, и Ковригин открыл окно. Не открыл даже, а в сердцах толканул раму среднего окна, чуть стекла не вышиб. Не на солнце сердился. И не из-за духоты толканул, а ради того, чтобы лучше слышать разговоры в саду, улавливая оттенки интонаций собеседниц. Но поздно открыл, собеседницы, девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, откурив, встали.
– Вы чего, и грушёвку пилить будете? – не выдержал Ковригин.
– Мы ничего лично пилить не будем, если только тебя заставим, – сказала Антонина. – Но грушёвка мешает. Да она и отжила своё… Вот берёзы и дубки оставим…
– И на том спасибо… – пробурчал Ковригин.
– Что ты сказал? – спросила Антонина.
– Да так… Ничего… Ничего я не сказал…
– Мы сейчас с Ириной пройдемся по посёлку. Посмотрим, кто что построил. А потом я Ирине здешние достопримечательности покажу. Пруд, в частности…
– Какой там теперь пруд! – сказал Ковригин.
– Какой-никакой. Сам говорил, по осени к нам цапля прилетает…
– Её там сейчас нет.
– Значит, и лягушек нет. А раньше, бывало, – это уже Ирине, – мы, девчонки, дуры, в конце мая – июне лягушачьей икрой морды мазали, ну не морды, понятно, а прелестные личики, лбы и щеки обкладывали…
– Это зачем? – удивилась Ирина.
– Веснушки сводили! – рассмеялась Антонина. – И получалось. Я тогда страдала, бестолочь, веснушками вся обсыпанная. Мол, какая уродина! Тюха деревенская! Сарафаны носить стеснялась – и плечи были в веснушках! А сейчас ни веснушек, ни, выходит, и лягушек!
А ведь было такое! Ковригин запамятовал! Было! Веснушки на лбу, на щеках, на плечах сестры. И сам с шутками, с хохотом, с ощущением благоудовольствий жизни обмазывал визжавшую якобы от холодной воды, чуть ли не от страха – а ничего не боялась, вёрткую тогда девчонку лягушачьей икрой, в особенности густой случалась она в затончике возле участка Соловицких, не обмазывал даже, а обшлепывал, будто штукатур раствором. Как давно и как хорошо это было. Но запамятовал…
– О шашлыке не забудь, это дело мужское, – сказала Антонина. – Баранина в кастрюле с маринадом и луком – в холодильнике.
– Помню, – кивнул Ковригин. – Но ведь это не раньше четырех часов, так вроде бы? Или даже после четырёх?
– Именно так, – сказала Антонина.
Ковригин ощутил, что зла на сестрицу он уже не держит, да и дуться на неё – грех, воспоминания о детских забавах и лягушачьей икре вызвали умиление Ковригина, ему захотелось тотчас же сделать что-то хорошее для девчонки с веснушками, обнять её за плечи, чайно-лаковые нынче, облагороженные гелями и снадобьями с благовониями из орхидей и ланг-лангов, но постеснялся.
– Ты про племянников ни слова не произнесла, – сказал Ковригин. – Как там они? Я по ним соскучился… – Некогда, – сказала Антонина. – Выпадет свободная минута, расскажу… Они – в порядке…
И Ковригин был вынужден наблюдать спины и ноги приятельниц, сведённых судьбой и рассвирепевшими московскими ветрами на конкуре в Крылатском, спины и ноги, надо признать, привлекательные, осанку, отметил Ковригин, сестра сохранила отменную, да и шея её по прежнему заставляла думать о линиях античных граций (помпейские фрески и мозаики вспомнились Ковригину). Мысли об этом были приятны, пока курс-дизайнерша не положила руку на плечо Антонины со словами: «Тони, дорогая!» – и не рассмеялась. Смех её вышел грубым и властным. Словно бы даже владетельным. Есть женщины, и красотки будто бы среди них, каким рты добродетельнее было бы заклеивать скотчем, а уж хохот иных из них был способен морить пауков в самых недоступных углах.
«Этакая и впрямь, – подумал Ковригин, – публику порвет!»
Ковригин помрачнел.
Несколько минут назад в умилении своём он снова был готов согласиться с любым решением сестры, поворчать ещё немного, как же без этого, без этого никак нельзя, а потом всё же признать: «Да, ты, пожалуй, права. И детям будет хорошо». Теперь же он считал сестру чуть ли не предательницей.
«Тони, дорогая…»
Ковригин вспомнил об отце с матерью.
Могло ли им когда-то прийти в голову, что отродье их, веснушчато-подсолнуховое летом, бойкое, склонное к авантюрным затеям, требующим ремня, но в делах своих всё же благоразумное, пожелает в их садуогороде, в отдушине их жизни, всё перекорёжить и земные деяния их истребить? Мысль именно об истреблении и самому Ковригину показалась излишне категоричной и, возможно, несправедливой, но он её не отменил. Понимал, что постановление Антонины – опять реально-разумное, не в романтических же руинах жить ей с детишками (и ему). Память же об отце с матерью надлежало сохранять в душе своей, а вовсе не в музейных футлярах на манер того, что укрывает домик Петра от воздействий погодных вздоров и хода времени на невском берегу. И так щитовому изделию щёкинских лесопилов удалось простоять больше сорока лет. К тому же Антонина и слова не произнесла о том, что намерена ломать их нынешнее дачное жилье. А потому и не следует возбуждать в себе бунтаря или хотя бы оппозиционера, бунтари и оппозиционеры, как правило, очень быстро становятся корыстными и прикормленными соглашателями, а надо всё же потихоньку привыкать к житейской необходимости. Склоняя, естественно, сильных мира сего к уступкам и компромиссам. Однако… Вот что интересно-то! Да! Интересно, откуда у сильных мира сего, то бишь по семейным расположениям сил – у Антонины, сыщутся средства на воздвижение замка? Не от него ли, Ковригина, потребуют финансовых подвигов? Мол, ребёнки плачут, сострадательный дяденька. Сострадательный и добродетельный…
Истории Марины Мнишек и царевны Софьи с её подземными путешествиями под рекой Неглинной финансовых удач не обеспечат.
Но сегодня хотя бы отвлекут, посчитал Ковригин…
Обряд венчания уже и не Марины, а Марии Юрьевны в Успенском соборе (после коронации) совершал протопоп Фёдор. «Народ в те поры ис церкви выслати…» Из собора царицу Марию Юрьевну вывел император Дмитрий (так распорядился себя именовать). Под левую руку её вел Василий Шуйский. За свадебным столом «мусики» и танцев не было. И всё же Радость свадьбы свершилась. А потом начались пиршества и веселья с плясками и пением хора, выписанного из Польши. И подносили Марии Юрьевне подарки – рысьи меха, бархаты златотканые, кубки из серебра, иные – с перламутром раковин, соболей и парчу. Однако, как полагается и как выводится из практики московской жизни, недолго музыка играла. Всего-то девять дней. Через девять дней царица Мария Юрьевна овдовела…
Немного времени было отпущено и Ковригину для отвлечений.







