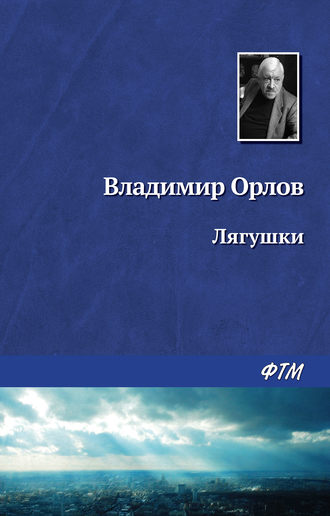
Владимир Орлов
Лягушки
15
Ковригин стоял у окна.
Лил дождь. Небо почернело. Хорошо хоть улица (забыл узнать, как называется) была освещена. Не как в Москве, но всё же… Ещё несколько лет назад по вечерам провинция тонула в черноте. Впрочем, не так давно и Москва по ночам была мёртвой.
Ковригин затосковал по Москве. Но по одной ли Москве?
Из люкса нездешней звезды Натали Свиридовой (что наверняка учитывалось при оплате номера) якобы имелись замечательные виды. Падающая башня, Плотина, синие горы на горизонте. «С видом на Кремль…» Ковригину в это не верилось. Уж слишком приземисто-придавленным выглядел отель. А может, весь Синежтур был таким приземисто-придавленным? Но вот в чём не приходилось сомневаться. Привокзальная гостиница действительно стояла с видом на обнаженный зад Каменной бабы.
«А ведь лицом-то наша Каллипига кого-то напоминала… – неуверенно подумал Ковригин. – Кого-то из знакомых…» Кого, вспомнить не мог. И выходило, что, к стыду и недоумениям Ковригина (хотя чего тут было стыдиться и из-за чего недоумевать?), Каменную бабу он куда внимательнее рассмотрел сзади, нежели спереди. Потому и не мог вспомнить особенности её лица и не мог вспомнить, были ли открыты у неё пупок и лоно. Должно быть, открыты, – принаряжал свою модель ваятель вольно и для своего замысла удобно. Воздушные фантазии стали возникать в голове Ковригина, и всяческие эссеистские соображения дымком потекли вверх.
Очень скоро им пришлось примяться к земле.
На письменном столе были предложены гостю Синежтура справочные брошюры и буклеты. В одном из буклетов имелись цветные фотографии. Первую страницу его украшала привокзальная Каменная баба. История её была истинно земная и к играм ума не располагала. Оказывается, площадь, как только раздались на ней паровозные гудки, стала именоваться в народе площадью Каменной бабы. Полтора века назад поставили здесь памятник Екатерине Великой (после её весёло-деловитого визита в Казань благодетельница земли русской прибыла с инспекцией в здешние глухомани и провела в Среднем Синежтуре два дня). Памятник поставили, на взгляд местных ретроградов, несуразный. Некий купчишка в трактире при вокзале сейчас же съехидничал: «Каменная баба какая-то, а не императрица!» И пошло… Воители монументальной пропаганды с маузерами в руках, естественно, не могли держать голштинскую бабёшку с её фаворитами в числе революционеров. Гранитный пьедестал же наказывать и выковыривать не было практического смысла, на него ещё можно было кого-нибудь усадить или поставить. И это правильно… Стоял на нём и гневно помахивал фуражкой сухопутный и морской главнокомандующий Лев Давидович Троцкий, посиживал на санаторной скамейке приболевший Владимир Ильич, а потом размещался в полуприседе страдалец за народ Михаил Иванович Калинин, в косоворотке и сапогах, и слеза умиления будто бы скатывалась к его бородке (монумент был тут же прозван «сапогами»). А площадь так и слыла в народе – «У Каменной бабы». При очередном порыве масс постановили: «сапоги» убрать, а Бабу вернуть. Но прежняя Екатерина в хозяйственных соображениях давно была раскурочена ломами и пошла на вымостку тротуара у первого общественного туалета. Бабу же вернули, временно поставив на привокзальный пьедестал мраморную копию работы древнегреческого мастера из санатория «Журино», бывшего дворца Турищевых, по женской линии – Шереметевых.
Журино! Вот, стало быть, какая Атлантида! Ковригин взволновался. Замок-Дворец Турищевых-Шереметевых! Во время войны два года там жили московские беженцы, и среди них – его отец с матерью (бабушкой Ковригина). Отец рассказывал о замке своего детства, о его легендах, о поисках ребятишками сокровищ в его подземельях. Если Журино недалеко от Синежтура (а так можно думать), туда надо бы выбраться. И может, он не зря прихватил с собой в поездку тетрадки отца…
Но к Журину и отцовским тетрадям следует вернуться позже. После спектакля. После спектакля!
Ковригин снова взял со стола буклет. Так. Каллипига, значит, привезена из Журина временной Бабой. И создан художественно-исторический Совет, какой и должен определить, кому и на сколько лет (хотя бы до следующего порыва масс) украшать столь почтенное в Синежтуре место. И не только украшать, но и олицетворять собой красоту, силу, ум и уровень непорочности отечественной женской натуры. Проводились опросы общественного мнения. Сбрендившие люди требовали никого специально не ваять, а составить и осуществлять график вахтенного попеременного стояния на пьедестале живых особей женского пола. Их не смущало даже исторически оправданное отсутствие на Земле некоторых женщин из их списков, таких, как Жанна Д'Арк или жена князя Игоря Ярославна. «Этих держать на пьедестале хотя бы по пять суток в виде живых голографических изображений!» – горячились сбрендившие. «Здравствуйте! У нас же Баба каменная!» – осаживали горячившихся, и те умолкали. Другие, крайние, выступали с предложениями сделать отливки с певицы Славы, политической дамы Хакамады, сноубордистки и столбовой дворянки Собчак (Леди Кси), ведущей Дуни и ведущей Рины. И т. д. И с этих отливок ваять. Но оппоненты крайних посчитали, что до уровня названных претенденток Синежтур интеллектуально и нравственно ещё не созрел. Украсить город хотя бы новым и приемлемым вариантом статуи Екатерины Великой не предлагали. Плохая примета. Да и появились уже Екатерины в её городах – Екатеринбурге, Екатеринодаре, в Питере, а Синежтур – был особенный.
Под историей Каменной Бабы в буклете шла информация о Падающей Башне. Сразу же вспомнился вагонно-ресторанный официант и его слова, высказанные вроде бы в раздражении: «Она за Плотиной. Во владении Турищевых». Конечно, конечно. Один из Турищевых, ещё не породнившихся с Шереметевыми, и основывал в Синежтуре заводы. Особо интересных для Ковригина сведений в буклете не было. Одна лишь строчка порадовала: «…построена из подпятного кирпича». То есть глину для кирпичей Башни, добавляя в раствор яичный белок, разминали ступнями. А напомнила Ковригину синежтурская башня (на снимке) определенно-знакомое. Но не Пизанскую башню, нет. А колокольню Николо-Перервинского монастыря, в какой позавчера не допустила Ковригина сретенская «Кружка». Судить же о перервинской колокольне, возвращенной реставраторами из гражданского состояния в состояние духовно-эстетическое, Ковригин мог по ТВ-сюжету и фотографиям в последнем выпуске «Памятников Москвы». Московское барокко. Синежтурская башня была лет на тридцать моложе перервинской, но следовала московской традиции. Совсем рядом с перервинской колокольней в те же годы (при царевне Софье Алексеевне) были поставлены уже упомянутые Патриаршьи кельи, и в них на стене попугай, усевшись на крепкую лозу, поклевывал виноградины. Не залетал ли попугай и в Синежтур? Вспомнилась сейчас же Ковригину и Соликамская башня со схожим массивным основанием верхнего объёма. Но эта башня в его соображениях оказалась сейчас лишней. В гостиничном буклете ни о каком попугае упоминаний не было. Зато сообщалось о завершении Падающей башни, это был не крест, а молниеотвод-флюгер с водяным драконцем о шести лапах. Стало быть, на гранитном пьедестале гвоздём выцарапывали героя местных легенд.
«Завтра разберёмся!» – заверил себя Ковригин. В нем возбуждался азарт искателя.
«А ведь придётся сейчас тащиться в „Лягушки“, – подумал Ковригин. – Если, конечно, не обнаружится достойных заведений поблизости».
Ковригин изучил последнюю страничку буклета с планом центральных улиц. Были рекомендованы приветливые кафе, бар и два ресторана при отеле «Блюдце», раньше там пыхтела, дымила, щи варила Фабрикакухня, устремлённая в высоты общепитательных пристрастий едоков-коммунаров. Все заведения при отеле звались «Блюдцами», но с разными каёмками и каёмочками – с золотой, с голубой, с оранжевой. И даже с клюквенной. Однако в темени и в ливень, да ещё и не зная ночных и вечерних синежтурских нравов и тем более – капканов, разыскивать блюдца с каёмочками Ковригину не захотелось. Хотя он не был трусом и приключения любил. И шикарный, по словам буклета, ресторан «Ваше императорское величество», в народе – «Империал», стало быть, и с шикарными ценами, Ковригина не притянул. «Пусть он останется для меня пока загадочным», – решил Ковригин.
Оставались «Лягушки» и ресторан при гостинице. Кстати, о «Лягушках» в буклете было сказано вскользь и с как бы адресованной бывалому человеку ухмылкой стыдливости – мол, и такие бастарды у нас имеются, а коли вам присуща неразборчивость вкусов, кулинарных в частности, то и зайдите туда. Естественно, гостиничный ресторан был расписан в буклете кистями рублёвско-шоссейного художника Фикуса и приравнен к парижскому «Максиму».
Не хотелось Ковригину мокнуть, но где-то на сценической площадке вот-вот должен был закончиться (а может, уже и закончился) антрепризный спектакль по пьесе Стоппарда, и Звезда театра и кино Натали Свиридова с не менее звездным окружением могла позволить себе расслабиться после трудов праведных и расположиться за накрытым уже столом двумя этажами ниже Ковригина, причём наверняка с пожелавшей посетить праздник искусств знатью и интеллектуальной элитой Синежтура. И Ковригин надел плащ.
Слава Богу, никаких фейс-контролей в Среднем Синежтуре не было. То есть в особо тусовочных или корпоративных ночных клубах и небось там, где пили на халяву, они, наверное, осуществлялись (раз в Лос-Анджелесе или в самом Таллинне, то и у нас, конечно). Но в «Лягушках» именно физиономией и одеждой Ковригина никто не озаботился. Каждый лишний гость был здесь хорош. «Понедельник, – поразмыслил Ковригин. – Оттого и народу не густо…» Но позже выяснилось: пустоты за столиками есть только в переднем, как бы разминочном зале, а в иных, менее просторных помещениях, – заинтересованная теснота, гвалт, запах горячих тел и нервно-игровое оживление.
Метрдотель указал Ковригину на столики с живописными видами, пожелал хорошего аппетита у водоёма с фонтаном и сообщил, что зал этот называется залом Тортиллы, а сама Тортилла сидит в центре фонтана и время от времени выпускает из себя струи воды. Ковригин не сразу смог выделить Тортиллу из прочих фигурок фонтана. Все они были золочёные, как девушки со снопами в Москве на Выставке Достижений. Ко всему прочему Ковригин отыскивал глазами золочёную черепаху. А когда фонтан по расписанию стал гейзером, Ковригин увидел, что струя извергается изо рта кукольной Рины Зелёной. Ни Буратино, ни Дуремар с сачком, ни лягушки в ластах в компанию к Рине Зелёной не были прикомандированы. А тихие струи полились из глоток четырех драконцев с тремя парами перепончатых лап у каждого. Флюгер башенный… И водоём у столика сразу же стал напоминать Ковригину синежтурское блюдце…
Однако к столу Ковригин был призван прежде всего требованиями желудка. В меню он сразу же исследовал цифры и соотнес их с московскими значениями. Они оказались терпимо-сносными. А вот наименования закусок, супов и горячих вторых блюд Ковригина озадачили. Во-первых, никакие лягушки, ни голые, ни в мундирах, ни жареные, ни отварные, ни копчёные, не предлагались. Во-вторых, в состав обещанного исторического юга Франции, видимо, добровольно вошла Бессарабия, или хотя бы Кишинёв с окрестностями, о чём Ковригин в суете жизни уследить не сумел. Францию Ковригин посещал. С кухней тамошней познакомился. Не сказать чтобы полюбил её. Показалась пресной. Но сыры, вина, изделия хлебопеков (где наши французские булки за 65 коп.?!) и кондитеров зауважал… А уж подплыл к столику официант в белой куртке, худой, горбоносый, смуглый. Ковригин поприветствовал его на французском и выразил одобрение внешности гарсона, тот, по мнению Ковригина (фальшивому), якобы имел сходство с президентом Николя Саркази.
– Чего? – удивился официант. – И я не Саркисян! Чуть что, сразу – Саркисян! А я не Саркисян! Вы порусски-то хоть что-нибудь понимаете?
– Понимаю, – вздохнул Ковригин. – Очень много чего понимаю по-русски… Но не всё.
– Так что будем заказывать? – спросил официант.
К утюженной куртке официанта была прибулавлена пластмассовая бляха – зелёная лягушка в белом круге.
– У вас ресторан называется «Лягушки», – сказал Ковригин.
– Лягушки – в другом отсеке, за французской борьбой, – сказал официант, Ковригин, похоже, стал вызывать у него раздражение.
– Зелёные?
– Зелёные, – кивнул официант. – А какими им ещё-то быть? Но они несъедобные.
– То есть?
– А то и есть, – тут официант усмехнулся, усмешка его вышла высокомерно-снисходительной. – Конечно, если их смазать горчицей и посыпать евриками из Страсбурга, то, может, они и позволят от себя откусить… А так они заняты, играют в шахматы и в шахбокс.
– И давно – в шахбокс?
– С неделю как. Быстро освоили. Способные, хоть и дорогие.
– Их что, из Франции завезли? – поинтересовался Ковригин.
– Естественно, из Франции, откуда же ещё! – воодушевился гарсон. – Если, конечно, посчитать, что Тамбов, Воронеж, Бешенковичи или там Конотоп – это и есть Франция. И никто их не завозил. Сами приплелись на запах и на шелест. Кто как. Кто на перекладных, кто на байдарках, кто прыжками, кто ползком на пузе. Лягушки!
При последних словах (или при последнем слове?) гарсона в водоёме произошло движение. Круглые листья, от лотосов ли, от виктории ли, поначалу показавшиеся Ковригину искусственными, ожили, задергались, между ними мелькнула чья-то пятнистая, коричневая с зелёным спина, а потом явилась Ковригину мордочка незнакомого ему зверька. Оглядев Ковригина, зверёк не спеша вылез на голубоватый бортик водоёма. Размером он был с нутрию, а обликом своим совершенно соответствовал синежтурскому драконцу с шестью лягушачьими лапами. Ковригин ощутил, что гарсон напрягся или даже перепугался.
– Это Костик, – сказал гарсон, успокаивая то ли себя, то ли Ковригина. – Наш смотритель. Тритонолягуш.
– Тритонолягуш? – удивился Ковригин. – Тритоны же маленькие… Сам держал в детстве…
– Тритонолягуш, – кивнул гарсон. И далее говорил шепотом, наклонясь к Ковригину: – Новая порода… Вывелась сама по себе и совершенствуется… Вы на Костика не обращайте внимания. Он сидит, размышляет. И наблюдает. Он добродушный, но внимательный…
И последовала история обретения человечеством (хотя бы и одними синежтурцами, и этого достаточно) новой породы животных. Юннат Харченков из семнадцатой школы (да, юннаты не перевелись) увидел в лесной луже искалеченного тритона, принёс домой, попытался спасти. Увы, всяческий интерес к жизни у тритона был потерян. И тогда просвещённый мальчик додумался снабдить страдальца компанией задорных, ещё не угнетённых бытом лягушек. Определить, какого пола искалеченный тритон, юннат не смог, а потому на всякий случай одарил его другом и двумя подругами. И подействовало. Тритон потихоньку ожил, стал столоваться вместе с лягушками, а до того пищи не принимал, принялся играть с ними, и в положенный срок из лягушачьих икринок, не из всех, конечно, а из некоторых, вылупились невиданных форм головастики. Юннат Харченков теперь моцартовский стипендиат в Самарском университете и, используя опробованную им методику, вывел там морозоустойчиво-вкусную породу свиновепрей, теперь уже с привычным набором конечностей.
Тритонолягуш Костик, сидевший во время рассказа гарсона в тихой задумчивости, припрыгал к столику Ковригина, посмотрел тому в глаза, чуть ли не утопив Ковригина в своих рыже-зелёных глазищах, произвел некие движения лапами, понятые гарсоном, и нырнул в водоём. Круглые листья (блюдца) покачались и притихли.
– Вы ему понравились! – радостно воскликнул гарсон. – Он не имеет ничего против. Вас допустят и к борьбе, и к шахматам, и даже в лабиринт.
– А если б не понравился?
– Могли бы отсюда и не выйти…
«Ничего себе, – подумал Ковригин. – Не зря, значит, были предложены живописные виды у водоёма. Такой у них фейс-контроль!» Ковригин почувствовал, что аппетит у него пропал.
– Пить что-нибудь будете? – спросил гарсон.
– Знаете, – сказал Ковригин, – всех этих мамалыг мой организм, пожалуй, не выдержит.
– Дозволено предоставить вам другое меню, – в почтении согнул спину гарсон.
В протянутом «другом» меню мамалыг и голубцов в виноградных листьях Ковригин не обнаружил, но ему показалось, что и здесь отношение к Франции имеют лишь слова «пти» и «гранд». Пти-харчо и Гранд-харчо.
– Думаю, думаю. Выбираю, – предупредил вопрос гарсона Ковригин. Сам же спросил: – А если бы вместо добродушного и внимательного Костика у вас под фонтаном проживали бы аллигатор или даже, помечтаем, амазонкская анаконда, и я бы им не понравился?
– Эти бы, – подумав, сказал гарсон, – суток трое дрыхли бы, переваривая вас. Вы длинный… И пропустили бы, куда не надо, всякую шваль. Нет, крокодилов и удавов у нас не держат. Копчёные крокодилы у нас в холодных закусках. Живые они – невыгодные. Серьёзные люди на своих ранчах-заимках заменили охранников – крокодилов на тритонолягушей. Они-то оказались зверскими сторожевыми животными. Причём и смышлеными.
– Замечательно, – сказал Ковригин. – У вас небось в меню есть лангет «Обоз-88», тава кебаб по-синежтурски и сосьвинская селёдка.
– Откуда вы…
– Я приехал в Синежтур в фирменном поезде.
– Понятно. Разочарую вас. Обозолангеты – в «Люке» при Башне. Для туристов. Сосьвинская селёдка – в «Империале». А тава-кебабы – «У Марины».
– У какой Марины? – насторожился Ковригин.
– У ясновельможной. А у нас сосьвинские раки. В пиве. Не хуже марсельских лобстеров. Сосьва – речка чистая. У нас там заготовители.
Аппетит сейчас же вернулся к Ковригину.
– А что вы сами пожелали бы предложить мне? – спросил Ковригин.
– У нас запрещено делать это, – сказал гарсон. – Но… Вам Костик не просто дозволил. Вы ему понравились. Это редкость. Вы называйте блюда. Я могу кивнуть. Вы меня поняли?
– Так. Закуски. Пиявки по-дуремарски. Фаршированные пармезаном и копчёные. Дуремар и пармезан вроде бы не были французами. Отставим, – сказал Ковригин. – Раки в пиве. Две гранд-порции. И миноги.
Гарсон кивнул.
– Первое… – выбирал Ковригин. – Никаких суповпюре… Ага!.. Уха стерляжья с каперсами по-монастырски… Подойдёт… Так. У вас, оказывается, завелись отбивные из свино-вепрятины?
Гарсон с явной тревогой взглянул в сторону фонтана. – Действительно, – сказал Ковригин. – Эта свиновепрятина кажется мне подозрительной. В Самаре, конечно, много чего изобрели. И по делу. Скажем, первыми создали Партию Дураков. И для них, вполне возможно, хорош метод юнната Харченкова. Но вряд ли он будет уместен для украшения меню вашего ресторана. Так что, откажемся от предложенного блюда.
Гарсон закивал с воодушевлением. И будто бы опасность с когтями росомахи только что отпрыгнула от него в густоту елового лапника.
– А потому заказываем, – подытожил Ковригин, – пти-коко, то есть табака по-гальски в чесночном соусе Ришелье. На десерт – вишнёвый пирог «Лютеция». Напитки сами выберете.
– Откушаете и пройдёте к оливковому маслу и к шахматисткам на раздевание, а может, потом – и в лабиринт? – поинтересовался гарсон. – Или экскурсию совершите сразу?
– Сегодня командует мой желудок, – сказал Ковригин. – Сытый и довольный он пожелает полениться и поурчать, а на деятельную экскурсию вряд ли окажется способен.
– Разумное соображение, – согласился гарсон.
Никаких разумных соображений Ковригин не высказывал. Просто болтал. Молол чепуху. Гарсон ему надоел. Но обслуживал тот старательно и насыщению Ковригина не мешал. Неодобрительных движений в фонтанных водах не наблюдалось. Можно было предположить, что тритонолягуш Костик спокоен, недостойных натур на подходе к его околотку нет. Или – все возможные шалуны и игроки, синежтурские и региональных значений, были Костиком уже исследованы, взвешены, допущены и рассеяны в отсеки по интересам. Чрезвычайных же едоков и любителей сладких мгновений более не ожидалось.
– Замечательно! – произнёс, наконец, Ковригин. Искренне произнёс. Чрево его уже было расположено именно к урчанию и покою в гостиничном номере.
Но и сыч, набивший себя деликатесами от лесных и полевых грызунов и придремавший на дубе, при шелесте в траве глазища вытаращит и пожелает узнать, что там в траве-то? Вот и Ковригин понял, что не уйдёт из заведения с Костиком под фонтаном, пока не увидит, какие такие лягушки играют на раздевание в шахматном отсеке. О чём и объявил гарсону. Тот кивнул, за указаниями к Костику не обратился – видимо, имел полномочия.
Отсеки, в какие Ковригин направился любопытной Варварой, полагая себя при этом ВИП-персоной, признанным ботаником с сачком, купленным в Кейптауне, лицом, одобренным бдящими Силами, отсеки эти его разочаровали. Ну, борцы, здоровенные дяденьки, ну, деревянные чаны с теплым оливковым маслом, куда дяденьки ради выявления рельефов мышц окунались перед каждой схваткой, Афродиты-Тарзаны в кипрской пене-шампуни, ну, деликатные правила и приёмы греко-римской, классической – иначе, естественно, французской борьбы. То есть цирковое ретро. Возвращение к Иванам Поддубным начала двадцатого века. И никаких драк без правил, никакой крови и хруста шейных позвонков. Ну, понятно, и в жанре ретро ухо оторвать возможности имелись. А так – скука. Суть аттракциона была, видимо, в другом. Наверное – в особо заманчивых условиях тотализатора. А может, и в чём-то ином, Ковригину не открытом, но приглашающем его в секреты подпольных действий и игр. Не исключено, что именно в связи с его заходом в борцовский отсек было тотчас же объявлено: «Внимание! Внимание! Этого все сегодня ждали! Начинается серия схваток с острожелающими любителями из числа гостей ресторана!» Тут же в пляски и подёргивания огней цветомузыки (тема тореодора в смесителе с темой Мефистофеля, Бизе, Гуно, французская борьба-жизнь-лямур-тужур, люди гибнут за металл и, тем более, за любовь) вступил мужчина в банном халате и шагнул к чану с оливковым маслом. «Мистер Поголовкин, Чёрный Цилиндр движущегося состава! – было объявлено. – Поприветствуем его!». Чёрный Цилиндр сам поприветствовал публику, вскинув руки «викторией», а к Ковригину обратился персонально со словами: «Чтоб и вам хотелось!», сбросил халат, подпрыгнул и опустил себя в лохань с оливковым маслом. Голова его вскоре возвысилась над подогретой жидкостью, и последовало обращение уже не к одному лишь Ковригину, а ко всем:
– Чтоб и вам хотелось!
Впечатления первого взгляда Ковригина улетучились. Это был не крепыш Мамин-Сибиряк, а не менее крепкий удалец, угощавший Ковригина в вагоне-ресторане сосьвинской сельдью.
Публика тем временем ревела, отбивала ладоши и свистела с хрипотцой. Чёрный Цилиндр явно имел в атлетических кругах синежтурцев поклонников и букмекеров.
А Ковригин понял, что ему не хочется.
И винтовым ходом в стене (подсказали) перешёл в отсек (подводники, что ли, заправляли рестораном?) с шахматными партиями и раздеваниями. Там-то он и увидел, наконец, обещанных лягушек.
Понятно, что это были никакие не лягушки, а бабы. Если, конечно, принять во внимание специфику заведения или его профиль – мадамы и мадемуазели, по курсу же синежтурских условных единицо-восприятий – бабы, бабищи, барышни, девицы и прочие бывшие поселянки с бывших же единоутробных просторов Отечества, где прежде в каждой семье имелось по пять шахматных досок. В отсеке богини Каиссы было куда теснее, нежели при оливковых чанах, тут и ароматы курились поприятнее, и интеллект поражал глубиной, и, естественно, вид обмасленных мужиков (не для всех, конечно) уступал виду особей женского пола разнообразных форм, жанров и назначений. Другое дело, что художник по костюмам попался хозяевам с избирательными представлениями о дамской красоте. А может, покорно следовал чьему-то творческому диктату.
Или, что хуже, капризу.
То есть все шахматистки – и турнирные, при часах с падающими флажками на столиках, и подтанцовывающие, и выделывающие номера у гимнастических палок, были обряжены им в костюмы земноводных беспозвоночных. И не в костюмы даже, а в будто бы зелёную кожу лягушачьего сословия французских сортов. Опять же Ковригину вспомнились цирковые персонажи. Ну, пожалуй, и балетные. Здешние одеяния были все – в блёстках и в пупырышках. У наиболее пышных шахматисток выявлялись завлекательные складки кожи. Или шкуры. Сразу же на ум пришла Лоренца Козимовна Шинэль, курьер журнала «Под руку с Клио», и её промежуточный, перед залеганием под одеяло, костюм, как показалось тогда Ковригину, космических предназначений… Кстати, не выбросилась ли Лоренца Козимовна с парашютом из пылающего дирижабеля в Пятый Океан и не отнесло ли её злыми северо-атлантическими ветрами в окрестности Синежтура? Нет, Лоренца не играла здесь в шахматы, не танцевала и не вертелась вокруг эротической палки. И без неё задорных экземпляров хватало. А и при едином крое зелёной кожи, стал приглядываться Ковригин, костюмы их имели свои «загогулины», все, видимо, – в соответствии с ударными свойствами предлагаемых натур (у кого-то были особенные вырезы на спине и на груди, на животе и уж на совсем доверительных местах, кто-то щеголял с обрезанными до ягодиц и выше подолами, кто-то – в лосинах, а кому-то разрешили иметь лишь прорези для глаз). И, естественно, учитывались свойства их тел (горячих, подумал было Ковригин, но сразу же вспомнил о температурах земноводных). Но и хладнокровные они могли быть замечательны в употреблении. Бабы есть бабы. Как жаркие, так и охлажденные. Как французские, так и синежтурские. Или приползшие, прискакавшие сюда на запах и на шелест (слова гарсона) со всех боков глобуса.
Одно лишь соображение удерживало теперь Ковригина в отсеке земноводных. А где же эти милашки, впрочем и как, игравшие с ними шахматисты и шахбоксеры, раздеваются, и на какой срок, и на какую сумму? Тут зашумели, ладоши отбивая, знатоки синежтурских забав, и Ковригин увидел, как пара – она, в зелёном с блёстками и бородавками на правом плече, и господин в чалме – от шахматной доски направились к проему в стене отсека. Над проемом зажглось: «Болото № 18». Позже зажигалось и над другими проёмами – «Болото» (и номера «болот»), «Топь», «Трясина», «Засохший пруд», «Клюквенное озеро», «Таёжная лужа» и славненько так – «Мой лягушатник». Зелёная из восемнадцатого болота возвратилась, не было в ней усталости и следов страсти, одеяние её не помялось и не поползло по швам. Ковригин даже расстроился. Отчего же так быстро-то? А оттого быстро, что заведение здесь исконно и педантично стильное. Раз французская борьба без всяких уступок веяниям коммерческого бесчеловечья в спорте, то, стало быть, и любовь французская. А какие в ней могут быть задержки? Но сейчас же Ковригин и задумался. Милашка-то вернулась из болота одна. А где же господин в чалме? Конечно, после ублажения его выигрышем он мог быть выведен чёрным ходом, дабы не соблазниться участием в новых клеточных баталиях и не ограничить права и возможности других желающих. Это было бы даже разумно. Но вдруг господина в чалме (надеемся, что хотя бы после сеанса упоительной французской любви) от болота № 18 адресовали прямиком в трясину, чтобы не наглел и не обжирался, а уподобился искателям одноразовых тел Клеопатры и роскошноносой хозяйки Дарьяльского ущелья?
Жутковато стало Ковригину.
И что это ещё за «Заросший пруд»? Не наш ли ужасный Зыкей надзирает над ним? Стоило ли в таком случае ехать Ковригину в Средний Синежтур?
Что гадать? Уже приехал… Но, рассудил Ковригин, даже если бы его взволновали сейчас шахматные красавицы, вступать с ними в игры вышло бы глупостью. Да и не хотелось. То ли устал он с дороги, то ли ослаб естеством, но вот не хотелось. При этом его уже не пугали ни топи, ни заросшие пруды, ни кавказские ущелья. Напротив, притягивали его к себе. Останавливало же Ковригина некое предчувствие.
Будто бы следовало поберечь себя. Будто бы впереди, по улице и за углом, его поджидало событие, участие в каком должно было оказаться куда важнее лягушачье-шахматных забав.
И предчувствие Ковригина не обмануло…







