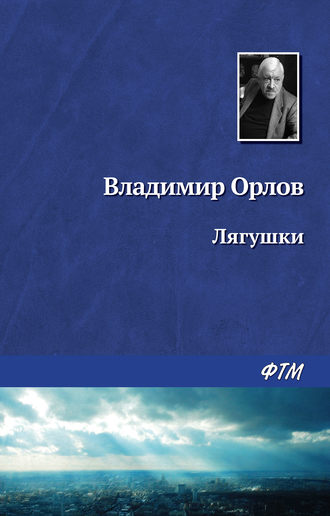
Владимир Орлов
Лягушки
7
Показать бы надписи на боках чибиковской (а может, и голицынской) реликвии и процарапанные (резцом ли или ещё чем) инициалы (?) и пометы палеографам… Каким макаром? Если только уговорить Лёху Чибикова снять хотя бы и сотовым телефоном бока и ребро реликвии, да и незлобного единорога. Но Лёха – человек своенравный, ему ничего не стоит и заартачиться…
В ельнике вблизи Ковригина возникла компания грибников с собакой. Собака лаем сейчас же вернула Ковригина с Петровских ассамблей или с Польского акта царской оперы Михаила Ивановича Глинки к суглинкам урочища Зыкеево. У Ковригина спросили, не пошли ли осенние опята. Нет, отвечал Ковригин, опят он не видел, да и откуда им быть при таких-то теплых ночах. К тому же в ельнике осенних опят бывает мало, это место летних, рыжих опят, говорушек, а за осенними ходят за овраг на вырубки в дубняках и липах.
За овраг компания и унесла собачий лай.
Ковригин за овраг не отправился – и грибов он уже набрал, и вспомнил, как на днях провалился в овраге в неведомо откуда взявшуюся яму с поломанными досками в ней и чудом не повредил ноги. К тому же его напугал пронесшийся мимо него человек. Напугал, правда, не надолго, но вынудил остановиться и застыть в недоумении. Скорее это был и не человек, а существо, похожее на человека. Грибы прохожий (пробежавший) явно не имел в виду, не было при нём ни корзины, ни пакета, ни ведерка. Почти голый, мускулистый, звероподобный, он снабдил себя лишь набедренным одеянием из меха, возможно, волчьего. Лобастая голова его была в жестких мелких кудряшках, будто бы от горных баранов. Поначалу Ковригин подумал, потому и напугался на мгновение, что это клиент сумасшедшего дома в Троицком, одолевший бетонные стены и пустившийся в бега. Но потом – спина бегуна была уже метрах в тридцати от Ковригина – он сообразил, что ноги существа – в рыжей шерсти, а копыта у него – козлиные. Козлоногий… Пан, что ли? Фавн? Сатир? Силен? И стало быть, испуг его был и не испуг, а, как и полагается, – страх панический? Ковригин рассмеялся. Откуда здесь Паны или Силены? Но сейчас же подумал, что смеяться нечему. Ему стало казаться, что в левой руке лохматого бегуна он увидел свирель, возможно, и двойную. Не из тела ли несчастно-влюблённой нимфы Свиринги сотворённую? Фу ты! Какая бредятина лезет в голову… Но прежде, чем скрыться в ореховых зарослях, существо обернулось, пригрозило Ковригину волосатым пальцем и выругалось матом.
И это Ковригина успокоило.
Конечно, – беглец из Троицкого дурдома, псих на сексуальной почве, начитанный, знакомый с античной мифологией, возомнивший себя Паном, хорошо хоть не Приапом, а энергетика у психов такая, что возможны метаморфозы с их обликами и костюмами, посчитал бы себя Наполеоном, пронесся бы сейчас мимо Ковригина в треуголке, с барабаном и подзорной трубой…
К возвращению в реалии повседневной жизни Ковригина призывало и верещание телефона. Напоминала о себе сестра, Антонина. Было объявлено. Прибудет она в субботу, но не в обед, а утром. Детишки её вынуждены по школьной программе автобусами отправиться в Большие Вязёмы на поклон к Сашеньке Пушкину («Оно и к лучшему», – пришло в голову Ковригину). Но прибудет она не одна. Тут возникла пауза. Далее не последовало разъяснения, кто же будет спутником Антонины, – хахаль ли её какой, или серьёзный ухажер, либо – приятельница, эта, не исключалось, с прищуром глаз на него, Ковригина, непристроенного холостяка. Антонина лишь выразила братцу надежду на то, что всё на даче будет в чистоте и порядке и он не расстроит её каким-либо бардаком. Сказала, что перезвонит завтра, а он пусть подготовит список заказов, что ей надо купить ему из провизии и напитков.
Ковригин, ещё выходя в лес, наметил себе вечером пересмотреть свои бумаги, связанные с Рубенсом. И если даже обнаружатся какие-либо следы интересов или усердий Лоренцы, не вскрикивать и бумаги эти не рвать. Но, как всегда, занятия с грибами (на ночь в холодильник грибы в семье никогда не убирали, готовить их «только что из леса» было законом) и в особенности тушение картошки с зелеными сыроежками и сметаной удержало его на кухне до темноты. Он почувствовал, что устал. Ко всему прочему он объелся. Три полных тарелки горячего блюда было без задержек отправлено в чрево толкователя судьбы дипломата и разведчика Пауля Рубенса и его полнотелых красавиц. Ковригин подавил в себе икоту способом пловчихи кролем. Но зевать не перестал.
Уже под одеялом (но на террасе) вспомнил о своём соображении в ельнике. Детишки не приедут. «Оно и к лучшему…» Почему он так подумал?
А потому, что детишки не станут свидетелями или даже участниками какой-либо странности.
Какой странности?
А неизвестно какой!
Две или три странности здесь уже случились в последние дни.
Или даже четыре.
Какая же четвертая-то?
А бегун-то этот лохматый в ельнике со свирелью в руке и козлоногий? Может, он и не такой уж псих. Ну, выругался матом – и что? Раз даже негру преклонных годов было рекомендовано пролетарским поэтом выучить русский язык, то почему бы и хитрозадому эллину по необходимости жизни не освоить деликатнообязательные выражения лесов, полей и пастбищ среднерусской равнины? Тем более вблизи обитания страшного Зыкея…
Такие вот соображения посетили в зевотные минуты Ковригина.
А вот, подумал он, ухажёр Антонины или её незваная приятельница, из привычных либо новейшая, это – пожалуйста. Этим странности, по рассуждениям Ковригина, не помешали бы. Экий он был заранее кровожадный!
Но опять вместо ожидаемых Ковригиным грибов в его предсонной дремоте возникли лягушки, их были сотни, они ползли, ползли, прыгали, карабкались, но теперь и пели, явно пели и, видимо, по-аристофановски в переводе А. В. Пиотровского: «Брекекекс, коакс, коакс! В час дождливый в глуби водной блещет след проворных плясок лопающихся пузырьков. Брекекекс, коакс, коакс!»
«Чур меня! Чур меня! – пробормотал Ковригин. – Это я объелся…» И повернулся на правый бок.
8
Утренний просмотр (на голодный желудок! на голодный!) бумаг и материалов, связанных с написанием им эссе о Пауле Рубенсе, то есть якобы простодушно-обывательским рассмотрением обстоятельств жизни великого художника с упрятанными в видимых смыслах восклицаниями типа: «Надо же!», «А мне и в голову не могло такое прийти!», Ковригина отчасти успокоил.
Многое он успел сделать. Если не всё.
Застрял со второй частью эссе, это да. По лености (считал себя неисправивым и бесстыжим лентяем). И из-за досады на Дувакина. Что он будет спешить с Рубенсом, коли случился затор с пороховницами, и Петр Дмитриевич неизвестно как теперь к нему относится. В искусстве и литературе бытовало понятие, не Ковригиным придуманное, – «нерожденное дитя». У раннего Павла Кузнецова этих нерожденных дитятей хватало. Для Ковригина понятие это существовало в ином, можно было даже признать, – ремесленном смысле. «Нерождёнными детьми» были для Ковригина его неопубликованные работы. Если они не обретали жизнь в печатном виде, то как бы оставались внутри Ковригина, мешая зарождению и развитию в нем новых сочинений. Ковригин мог только предположить, как тягостно было жить литераторам или, скажем, композиторам середины и конца двадцатого столетия, чьи опусы лежали в столах, терпели, перенося родовые схватки, без надежды попасть под опеку доброжелательных акушеров.
Теперь Ковригин снова обзывал себя лентяем, безответственным нытиком, в оправдание себе вспомнившим теорию о «нерожденных дитятях» и губительных родовых схватках, нынче вызванных якобы произволом субъективиста Дувакина. Стоило ли ныть-то? Сочинение его о Рубенсе было уже сотворено. В разговоре («лекции») с Лоренцой, обозвавшей его халтурщиком, он держал его в голове целиком – ощутил это! Больше половины его шариковой ручкой было выведено на бумажных листах, другая, меньшая часть, обрывками записанная на клочках разных цветов, варилась в голове Ковригина и, пожалуй, дошла до степени готовности, блюдо вот-вот, с пылу с жару, следовало подавать на стол. Не стал подавать. Пусть он, Дувакин, напомнит и попросит. Попросил бы, тогда Ковригин за день-за два свел бы всё уже написанное – лохмотья на обрывках, мысли и образы в голове – в единый текст, выправил бы его и преподнес бы приятелю и мучителю (хотя каждый издатель и вынужден быть мучителем) Петру Дмитриевичу. Но проявил фанаберию.
Однако какой текст получил Дувакин? Если он вообще его получил…
День назад, если помните, Ковригин, как порядочный литератор, пекущийся о собственной чести, чутьчуть успокоившись, намерен был (пусть и не слишком решительно) перезвонить Дувакину и объявить, что никакого эссе о Рубенсе он ещё не написал, а текст в журнал попал самозваный и его надо подвергнуть остракизму (эко завернул бы!).
Не позвонил…
И теперь он заробел снова. Дувакин якобы намеревался обсудить с ним темы, связанные с Мариной Мнишек и Софьей Алексеевной. Но не обсудил, звонков не произвел. А вдруг он и никаких книг Ковригину не присылал, и не было никакой курьерши, и никакие соображения о Рубенсе московского обывателя Дувакина не порадовали, а всё это входило в «Брекекекс, коакс, коакс», в лопающиеся пузырьки, ставшие следами проворных плясок часа дождливого в глуби водной, и прочие влажные странности Урочища Зыкеево?
Впрочем (или кстати), пришло в голову Ковригину: а ведь ни одной виноградной улитки ни у него на участке, ни поблизости на глаза ему не попалось…
Нет, в любом случае надо было звонить Дувакину и, ни о чем не напоминая, а сообщив ему о том, что эссе о Рубенсе готово, поинтересоваться, надобно ли оно журналу и, если надобно, когда и с какой оказией отправить текст в Москву.
Услышав дачный голос Ковригина, Дувакин принялся извиняться:
– Запарка! Запарка! Помнил, помнил… Самому интересно было бы обсудить с тобой… Но производственная суета… И сегодня, извини, не позвонил бы… Вот только что ко мне заходила Сафарина… Подбирает иллюстрации к твоему Рубенсу…
Сафарина была художественным редактором журнала. Слова о ней снимали сомнения Ковригина. Текст о Рубенсе в журнале имелся, курьерша, стало быть, к нему на дачу приезжала. И картонная коробка была отправлена к нему Дувакиным.
– Молодец! Молодец! – сказал Дувакин. И далее до Ковригина донеслось: – Спасибо, Марина, это кстати… и чай, и бутерброды… И ты, Шура, молодец…
– А эпизод с «Ледой и лебедем» тебе не показался лишним? – осторожно спросил Ковригин.
Эпизод с «Ледой и лебедем» не был выдавлен Ковригиным на бумагу, а существовал до позавчерашнего дня лишь в лениво-плавающих его мыслях.
– Нет! Нет! Что ты! – воодушевился Дувакин, впрочем, воодушевление его могло быть вызвано отменным вкусом колбасы, доставленной ему Мариной. – И твои соображения о судьбе Дрезденской галереи вполне уместны…
Выходит, что и Леда с лебедем опустились с высот Ковригинского воображения на плоскости производственных форм и поплыли к наборным устройствам.
– Это приятно, это приятно, а то я волновался, – сказал Ковригин. Он сидел важный, будто незабвенный Ильинский-Бывалов на палубе парохода «Севрюга» при исполнении подотчетным ему оркестром счетоводов музыки Шуберта.
Подносивший ко рту, можно было предположить, стакан с чаем («два куска сахара») Дувакин продолжал вперемежку с глотками произносить комплименты работе Ковригина, Ковригин в них не вслушивался, к нему опять пришли сомнения. А не отправиться всё же в Москву и не отозвать ли эссе на доработку («требовательность взыграла»)? Мало ли какие сюрпризы могут через месяц выскочить в свет за его подписью, не окажется ли он посмешищем или урной для ехидных плевков? Нет, решил, пусть всё идет как идет, озорство шебутило его, даже если в эссе будет нагорожена удивительная чушь, учёные люди со званиями, приученные к церемониалам академического общения, до базарных перебранок не снизойдут, а и очевидную чушь обсудят с уважительной корректностью и, может, обнаружат в ней смелые, пусть и рискованные гипотезы. А по прошествии времени публикацию и вовсе можно будет объявить мистификацией (хотя бы вызванной спором). И случится потеха. Приятная (ясно, что не для Пети Дувакина, но, может, и для него), а уж для Ковригина-то – несомненная потеха. Из тех, что потом помнятся и даже исследуются, с разбором тайн, серьезными людьми в толстенных томах. Типа «Памятники культуры. Новые открытия».
Позже, когда разговор с Дувакиным был окончен, Ковригина будто подняло с места и притянуло на кухню. Там, на полке у окна, он нашел записку и визитную карточку Лоренцы дочери Козимо, бывшей супруги мужчины (для кого-то значительного) по фамилии Шинэль. Именно нашел. Он-то надеялся, что никаких записок и визиток в его саду уже нет. Как нет виноградных улиток. Не скажу, чтобы находка обрадовала его. Хотя, что в ней было удивительного? Однако беспокойство и душевный неполад сразу же возобновились в Ковригине. На кой ляд ему эта записка? Но опять же без раздумий и опасок он на обороте записки (а карандаши и ручки валялись у него и на кухне) после слов курьерши: «И не пугайся – совсем не твоя Л.» вывел, как ему показалось, повелительно: «Спасибо за усердие. Но прошу более не оказывать мне услуг. И не влезать в мои дела. Всё, что есть во мне, – моё. И за всё моё должен отвечать я». Бумага не сразу, но стала корежиться со скрипами и тресками, чуть ли не насмешка почудилась в них Ковригину, а потом ниже его строчек начали возникать слова, будто бы рождаемые «секретными» (и тут же как бы сразу же «высыхающими») чернилами: «Слушаю и повинуюсь. Извините. Хороша ли женщина, плоха ли, ей надо изведать палки».
Ковригин стоял растерянный. Панический пришел к нему страх или не панический, не имело значения.
«Чур меня!» – пробормотал он и перекрестил бумагу, не сознавая, бессмысленен ли его жест или в нем есть необходимость.
«Сейчас мы посмотрим, какие это секретные, несгораемые чернила!» – и он шагнул к газовой плите. Зажег конфорку и поднёс к огню записку Лоренцы. Пепел опал на эмалированный поддон плиты.
Совершенно лишняя дернулась мысль: это в книжках о революционерах чернила проступивших над огнём слов отчего-то именовались несгораемыми, а ведь было у них иное название…
Визитку же Ковригин сжигать неизвестно почему не стал. При этом обратил внимание на одно слово. Оно следовало сразу за именем с фамилией. Маркиза. Прежде его вроде бы не было. А впрочем, не все ли равно – было или не было. Маркиза, и пусть маркиза. В последние годы у нас в стране появилось много баронесс. Даже и среди баскетболисток. А вот с маркизами Ковригин не сталкивался. Хотя маркизу Лоренцу Шинэль удобнее было посчитать существом эфемерным. Но продолжать переписку с существом эфемерным нельзя было никоим образом. «Свечки, что ли, надо бы поставить где-то… – размышлял Ковригин. – Или заклинание, хоть бы и мысленное, сочинить на избавление от дирижабельных маркиз?..»
Но действия с бумагами Лоренцы, повторюсь, произошли после разговора с Дувакиным. А Ковригин с Петром Дмитриевичем успели ещё порассуждать по поводу Мнишек и Софьи и о том, какие погоды ждут москвичей в выходные дни. Естественно, верить прогнозёрам, больше болтавшим теперь о лекарствах, нежели о небесных явлениях и столбах давления, было дурным тоном, и всё же, по сведениям Дувакина, вся Москва в выходные решилась ехать в леса и сады. Вот пробки-то встанут…
Снова позвонил Дувакин.
– Грибы у вас есть? – спросил, хотя знал от Ковригина, что да, есть.
– Есть…
– Действительно, как им не быть, если тифлисские Мальбруки собираются в походы, – сказал Дувакин.
Ковригин молчал, подбирал слова, какие смягчили бы досаду Дувакина.
– Антонина собралась приехать в субботу утром, – сказал Ковригин.
– С детьми? – спросил Дувакин.
– В том-то и дело, что и без племянников, – выразил своё неудовольствие Ковригин.
– Одна?
– И не одна! А с кем, не сочла нужным сообщить! – воскликнул Ковригин.
Чуть было не добавил: «Если с мужиком, ещё куда бы ни шло, а то ведь возьмет да и припрётся с какой-нибудь бабой!» – но сообразил, что словами своими всерьёз расстроит приятеля.
– Меня Стоцкий зазывал к себе на яблоки и шашлыки. И грибами заманивал, – помолчав, произнёс Дувакин. – К нему, пожалуй, и съезжу. С ночёвкой…
– Подожди, – сказал Ковригин, – я сейчас позвоню Антонине, узнаю точно, с кем она явится…
– Не надо, – сухо сказал Дувакин. – Не надо… У тебя и переночевать негде! А у Стоцкого комфорты…
Обрывать разговор при возникшей неловкости вышло бы нескладно, и приятели ещё минуты три посудачили о Мнишек и Софье.
– Есть опасность, – сказал Ковригин, – хочу ли я этого или не хочу, оказаться слугой тенденции. Раньше мы глядели на этих дам эдак, а теперь посчитали нужным оценить их иначе. Свежий взгляд, да ещё и с ехидными укорами в адрес прежних жрецов, эко подстраивались и врали-то, заманчив и для публики, и для автора, но и он может привести к упрощениям и спекуляции.
– Во-первых, ты ещё в студенческие годы, – взволновался Дувакин, – в пьесе своей о Марине Мнишек принялся спорить со всеми, мол, чего вы к ней привязались, стервой её вынудили стать взрослые интриганы, да и стервой ли…
– Это была любовь, – выпалил Ковригин, – безрассудная и неразделённая, к девушке с вишнёвыми глазами, её я написал, а не Марину Мнишек. А она, девушка эта, назвала меня дураком и бездарью…
– Ты встречаешь её иногда? – спросил Дувакин.
– Случается… – пробурчал Ковригин. – Ладно, у меня сейчас телефон сядет.
Замолчали. И более не говорили ни про любовь, ни про грибы…
«Бедняга Дувакин… – подумал Ковригин. – Сколько лет морочит ему Антонина голову…» Собой он был недоволен, не следовало мимоходом, но и с горячностью вспоминать о девушке с вишнёвыми глазами. Дувакин прекрасно знал историю его юношеской пьесы. Ковригин вбил тогда себе в голову, что выше театра и кинематографа ничего нет. А после сидений в студенческом кружке историков, удивившись обстоятельствам жизни причисленной к злыдням и ведьмам дочери сандомирского воеводы, ощутил к ней чувство сострадания и чуть ли не влюбился в неё… Да, чувствительный и с воображением был вьюнош! Но в реальности-то он влюбился в студентку-щепкинку Натали Свиридову. Этак всё сошлось! Ковригин, может, и пьесу о Марине Мнишек не стал бы сочинять, но в мечтаниях о благорасположении Натали Свиридовой обнаглел и за полтора месяца наколотил на машинке одной из кузин пьесу и преподнес её (с посвящением) чудесной Натали: мол, для тебя и про тебя. Свиридова скорее всего, пьесу лишь пролистала, но наложила резолюцию: «Ты, Ковригин, ушастый дурак и бездарь! Пьес больше не пиши, а от меня отстань!» Пьес Ковригин более не писал, к тому же на пятом, дипломном, курсе было уже не до пьес и сценариев. Сейчас же к кино он относился с высокомерием (освоило приемы в тридцатых и послевоенных годах, толчется на месте, куда поверхностнее и легковеснее в познании человека, нежели музыка, литература и живопись), в театры ходил редко, иногда лишь в должности необходимого кавалера или по приглашению приятелей-лицедеев, не тянуло – там скучно процветали провинциальные (по духу и уровню) завоеватели типа Жолдака, в упражнениях коих не было актеров и смыслов. А вот на «Бориса Годунова» сходил, там у Фонтана блистала всенародная Наталья Свиридова.
Бедняга Дувакин беднягой, а подсунул ему, Ковригину, Марину Мнишек и вызвал хоровод призраков, печалей и юношеских комплексов.
Впрочем, и сам Дувакин сидел, наверное, сейчас у онемевшего телефона в печали и думал об Антонине.
«Кого же она приволокёт-то? – соображал Ковригин. – Детишек сплавила в поход по пушкинским местам, значит, Алексея в автомобиль она не посадит…»
Алексей, сорокалетний архитектор, в последние годы – удачливый и с заказами, был второй муж Антонины и отец племянников Ковригина. С ним Ковригину всегда было приятно поговорить и выпить. Детей своих Алексей любил, как и дядечка Ковригин, и, коли дозволялось, с охотой приезжал сюда. В Зыкеево Урочище – вспрыгнуло вдруг в мыслях Ковригина. Если же Антонина доставит на дачу (или прибудет в его автомобиле) нового хахаля или кавалера с намерениями, могут возникнуть и напряжения. Хотя ему-то, Ковригину, что? Вразумить чем-либо или в чем-либо эту своевольную дуру Ковригин не был в состоянии. Вот уж истинно, хоть кол на голове теши…
Впрочем, и на нового сестрицына игруна или претендента взглянуть было бы интересно. Но скорее всего – минут на пять, и всё стало бы ясно. Хотя Антонина Андреевна могла завезти кого-нибудь и ради забавы, подразнить старшего брата.
А вот с приятельницей или с приятельницами вышло бы поскучнее. Завидным женихом Ковригина назвать было никак нельзя. Хотя порой (на недолгое, правда, время) он оказывался и при деньгах. И репутация повесы и шалопая (не плейбоя, не плейбоя, для этого надо было соблюдать правила соответствия жанру, а это Ковригина тяготило бы) сужала круг женщин, заинтересованных в общении с ним и тем более в поисках выгод от этого общения. Конечно, случались и чудачки, глаза пялившие в его сторону, но таких надо было ублажать извержением слов и угощать конфетами с ликёром, а это было скучно. Однако Антонина не переставала подводить к Ковригину барышень, какие, на её взгляд, могли быть ему не противны, а в случае удачи и составили бы легкомысленному переростку устойчиво-нравственную компанию.
Антонина была на два года моложе брата, но считала себя чуть ли не опекуншей Ковригина. Иногда на неё набредали приступы материнских чувств. Она готова была подсовывать под спящего Ковригина уголки одеяла, чтобы, не дай Бог, братец не озяб и не простудился.
Отношения между ними были слоёно-переменчивые. То в режиме пикировок, на грани скандала. То в гармонии горько-сладостной любви. Были эпизоды, когда Ковригин и Антонина жалели о том, что они брат и сестра, а не чужие по крови люди. Их тянуло друг к другу, иногда они боялись остаться в доме или на даче одни, при этом испытывали чувство стыда: а не извращенцы ли они? Антонина даже набралась смелости и побывала у сексопатолога. Выяснилось, что случай их вовсе не редкий, подсудного людской молве ничего в нем нет, и всё зависит от выбора: кто-то переходит черту, кто-то – нет. Назывались и медицинские термины, Антонина запомнила их, Ковригин же не мог держать в голове и названия простейших лекарств. А после чтения второго тома «Человека без свойств» Музиля с историей главного героя Ульриха и его сестры Агаты они будто бы получили облегчение и перестали стыдиться своей тяги друг к другу. Природа неисчерпаема в вариантах расположения людей в их томлениях и радостях. Черту они не перешли, и теперь, после множества любовных приключений, порой не могли понять: жалеть ли им об этом (хотя бы и о единственном случае «перехода черты») или не жалеть…
Нынче они существовали в состоянии спокойного нейтралитета при ощутимом (внешне) подчинении Ковригина затеям и предприятиям младшей сестры. Тем более что Антонина была убеждена в том, что она практичнее и разумнее балбеса, по недоразумению отправленному в жесткие реалии жизни на два года раньше её…
Субботнее утро вышло добродушно-ласковым.
А ночь накануне была прохладной. Полнолуние, вопреки сведениям Лоренцы (и тут, стало быть, она дала повод считать её существом неосновательным и эфемерным), не наступило. Но луна уже не выглядела примятым лишь с одного бока мячом регбистов, вот-вот должна была надуться до положенной гладкости и ползла с юга меж редких облаков и кружева березовых ветвей. Ковригин сидел в пластиковом кресле посреди сухого сада и слушал, как яблоки бомбили крыши. Подумал: «Яблоки». Потом решил: «Яблони». Яблони в лунном безветрии занимались бомбометанием.
Нынешней осенью земля, грядки, клумбы в садах поселка, особенно в тех, чьи хозяева из города уже не выезжали, были устелены яблоками. Будто в ранней ленте Довженко. Позднего Довженко (работы его, конечно, а не личность) Ковригин не уважал из-за пафосных красивостей, а вот немые фильмы мастера были для него хороши. Вспоминались эпизоды одного из них – яблоки, не переставая, падали там на землю, падали, как и полагалось в Великом Немом, беззвучно. Сейчас же они, иные из них – с антоновок, апортов, штрефлингов, в полкило весом, гремели. В поселке в последние годы дневными звуками электропил и молотков давала о себе знать строительная лихорадка, и теперь в ночные часы фруктовые бомбы взрывались на свежих крышах, особенно тяжело и тревожно ударяли они в жестяные покрытия соседей Ковригина.
Яблонь в саду Ковригиных стояло двенадцать, но крыши дома и кухни от них не страдали, над теми тянулись в небо берёзы. При этом, по нынешним деньгам и понятиям, дом их был и не дом, а домик – комната, три террасы (две из них – пристроенные) и чердак. Домик, отчего-то названный финским, но привезенный из Щёкина, того самого, что портил своими вредностями жизнь Ясной Поляны, был щитовой и в годы Хрущёва благонамеренно соответствовал требованиям и духу вздуваемой ветрами эпохи Программы идеального общества. Без заборов и с равными условиями быта сознающих себя честью народа тружеников. То есть не вздумай выпендриваться и выделяться. Имей за городом непротекающую крышу и место для хранения инвентаря, ковыряйся по выходным дням на картофельных и овощных грядках, и достаточно. По легенде, наиболее свирепым ревнителем коммунных правил считался Член Политбюро Дмитрий Полянский, поговаривали, что после его усердий и в целях совершенствования человека всяческие права на наследство будут отменены. Чтобы в свободном и братском обществе всем предоставлялось удовольствие начинать с нуля. А потому родители Ковригина и не суетились. И так могли обеспечить себя стеклянными банками с соками, вареньями и маринадами. К банкам бы ещё добыть крышки для завёртывания. Из ягод же получались хорошие домашние вина и наливки. Участок получил отец Александра и Антонины Андрей Николаевич Ковригин, корректор в издательстве. Понятно, денег он в семью приносил в носовом платке, и когда пошли послабления и повсюду в поселке затевали надстройки и дома как бы «флигельные», сил у него хватило лишь на две хрупкие пристроенные террасы. Но тогда всё это мало трогало Ковригина. Что есть, то и есть. Главное, чтобы отец дышал летом лесным воздухом, а мать, в чьем роду были крепостные крестьяне, сидела в грядках и радовалась любому зародившемуся кабачку. Теперь же, когда Ковригин наблюдал в глянцевых журналах фотографии вилл с мордами известных стране звезд, цену которым он знал, всё это были, по его понятиям, пустышки и шелупонь, он начинал досадовать. А тут ещё и в их поселке стали подниматься терема совершенно ничем не примечательных личностей, и досады его обострились. «Впрочем, стало быть, ты достоин своих условий проживания, – успокаивал себя Ковригин. – Ты лежачий камень и этим обстоятельством доволен. И не будет у тебя ни уважаемого автомобиля, ни приличной квартиры…»
«И не надо!» – грозно заявил кому-то Ковригин.
И тут же отругал себя.
О чём он думает?! При тиши (падение яблок нисколько не раздражает), глади и Божьей благодати лунной ночи, на куинджевскую непохожей, и в непохожести своей ещё более прекрасной; будут ли у него ещё такие ночи и миромногозвучие в душе?..







