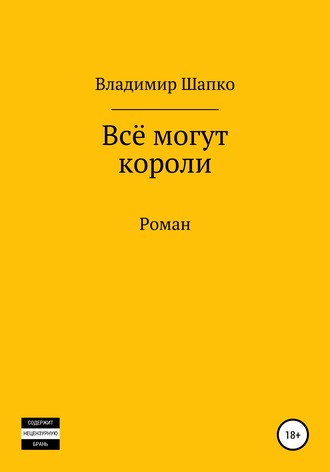
Владимир Шапко
Всё могут короли
21. Тихий шумок за кулисами, или Ну ты, чего делаешь, козел!
…Кулаком сантехник Колов ударил в край стола. Таракан сразу же выскочил. Насмерть перепуганный. Колов пригоршней, как муху – поймал. Кинул в стакан. В стакан с водкой. Таракан закипел в водке как в серной кислоте. Однако прогрёбся к стенке стакана, выполз на край. И замер: ну ты даешь, Колов! Вот, показал Серову исследователь: невозможно бороться! Смахнул таракана и начал пить. Из этого же стакана. Эту же самую водку. Обнажал фиксы, клацал ими. Закаленного Серова начало ударять пароксизмами тошноты. Предваряющими рвоту. Серов культурно встал, пошел в туалетик, в ванночку, приданную этой комнатке аспирантов. Спорящие за столом Дружинин и Трубчин даже не заметили этого. Когда проблевался и вернулся в комнату, вечный аспирант Дружинин уже орал Трубчину: «Да кто тебя пустит туда! Сегодня! Когда весь театр нашпигован охраной! Кто?! Трепло ты несчастное!» Однако Трубчин настаивал, что он, Геннадий Трубчин, пройдет в театр. И именно сегодня. В день Совещания. Которое кстати… только что началось. И всё увидит. И притом – вблизи… Вот как тебя, болвана! (Ха! Ха! Ха! – выкрикивал смех Дружинин.) Вон и Серегу могу прихватить с собой. А то еще не поверите. Серега, пойдешь? Эти козлы на улице будут ждать, возле театра мерзнуть, а мы пройдем? Серега, а? Ты – как? Серов засомневался. Мне кажется, бредовая это затея. Честное слово. Что-то не туда вас, ребята, сегодня повело. Однако Дружинин все кипятился. Всегдашний, свежевымытый чуб его был как вспотевшая тальян-гармонь. С бубенцами. «Слушай, Серега! Соглашайся! Выручай! Надо проучить трепача! Литр на кону! Пусть-ка раскошелится потом! Мы вечером выпьем, а ему – не нальем! А, Серега?» Все ждали от Серова. Даже сантехник Колов. С фиксами своими – как сра…й рыцарь… Серов махнул рукой: ладно! Только в случае чего… Да какой разговор! какой разговор! Серега! Быстро допили бутылку, быстро оделись, рванули на улицу… К трамваю по ноябрьским оледенелым тротуарам летели как безумные, развевая за собой полы пальто. Тронувшийся трамвай заглотнул их в последний момент, вывернул на Площадь 5-го года и мимо консерватории загудел по Ленина вверх. К театру.
В служебном оперного театра, кроме обычного вахтера, разгуливали еще двое. В штатском. В сером. Один положил руку Трубчину на плечо: куда? «Я мастер по свету!» – с гордостью сказал Трубчин. (А есть ли, интересно, по тьме?) Показал удостоверение. «А это со мной. Ученик». Серов тоже был увешан фонарями. Больше даже, чем Трубчин. В штатском повернулся к вахтеру. Точно, подтвердил тот, ребята из осветительного! Прошли. Продвигались дальше. С фонарями – как из фильма диверсанты. Везде по коридору кучковались эти самые в-штатском-в-сером. Однако никто из них почему-то на идущих парней с фонарями внимания особо не обращал. Один, правда, спросил. Да и то так, больше для проформы. Что, ребята? Куда? На пульт! В осветительную! – как паролем тут же ответил Трубчин. Придвинул ему к лицу фонарь. Будто бомбу. Ну-ну. И тут прошли. Им нужно было свернуть направо и по винтовой лестнице взобраться наверх, в осветительную, где дежурил сменщик Трубчина, и всё бы оттуда увидели… но… но свернули зачем-то влево, прямо к кулисам. И никого из охраны здесь почему-то не оказалось. Чтобы задержать дураков… На цыпочках начали подкрадываться. К освещенной сцене. К длинному столу президиума, край которого с двумя-тремя членами уже двигался им навстречу. Как пацаны, выглядывали, тянули шеи и хихикали. Увешанные фонарями. Низенький и длинный. К ним уже поворачивались из-за стола недоумевающие лица, а Главного Докладчика с трибуной всё еще не было видно. Его. Самого Главного. Скрежещущего там чего-то басом во рту своем. Вроде как в машинно-тракторной станции. Где он там, чертяга, прячется? Всё вытягивались, хихикали, уже сдвигая кулису… Серова от вывернутой руки ударила резкая боль. Его потащили со сцены. К коридорам. Рядом, такой же вывернутый, согнувшись в три погибели, спешил Трубчин. Ну ты, козел! чего делаешь! – натужно сипел Серов. Дергался, не в силах распрямиться. Отпусти, сволочь! Один фонарь упал, покатился. Другой, ударившись об пол, разбился. Вдребезги. Побелевший президиум полувстал и замер. Каким-то скопищем инвалидов. На Тайной, разоблаченной вечере. Однако Трактор продолжал ворочать слова. Вроде как железный колчедан во рту. Тогда президиум обреченно пал. На место. Серов все рвался. Вывернулся-таки. Сразу въехал серому в ухо. С левой. Его снова заломили, бегом вогнали в коридор. Захлопнули дверь. Трое начали метелить Серова. Ногами. Он перекатывался по полу, все пытался вскочить. Но его тут же сшибали и снова били ногами. Трубчин сразу же сломался в углу и только закрывался руками. Его спокойно, прицельно пинал один. По ребрам! По ребрам! Но не пы̀ром, не носом ботинка, а щёчкой. (Хитрый футболист!) С правой садил, с левой! Тулово Трубчина отвечало какой-то большой гулкой тубой. Тубой космонавта. Из которой, казалось, упорно выбивали наружу человечью голову. Ой, не надо, дядя, не надо! Глава за трибуной прервался. Покосился на президиум. Одним глазом. Как будто инкубаторным птенцом. Который ничего еще не петрит. Отпивал в это время из стакана. Поставил стакан. Стуживаясь отшибленным словно бы нутром, гмыкнул. Раз, другой. Продолжил.
Когда Серова и Трубчина вывели к машине – Дружинин и Колов сразу засунули руки в карманы пальто, пошли в разные стороны. С обтянутыми горбами, как африканские барабаны. Которые ждут, трусливо ждут, что сейчас в них начнут бить…
…При виде грузности груди Эммы Глезер на ум Серову всегда приходила плотина ГЭС. Взятая на еврейские присогнутые ноги кенгуру. Однажды случился казус. Произошел он зимой. В раздевалке факультета. Сняв и отдав гардеробщице пальто, девушка Эмма одернула спереди платье и пошла. Сзади же (так уж случилось) платье осталось высоко задранным. Полностью открыв голубые, атрибутные, как называл такие Серов – от коленных впадин и до пояса – панталоны. И все это на внушительном ее заду и осторожных разлапистых ногах. Вокруг захихикали. Почему-то одни парни. Девчонок не было. Серов бросился и… и сдернул платье вниз. К полу. Точно вывернувшийся мешок. Эмма повернулась – удивленно вытаращилась на него. Низенького, плюгавенького, по сравнению с ней, Эммой Глезер. Дескать – как ты посмел? Комар! Не долго думая… сильно влепила ему в ухо. Правда, ухватив в последний момент за лацканы пиджака. Потому что оглушенный Серов натурально начал падать. Встряхнула, приводя в чувство. Как ты посмел, подлец! Хотела еще раз. Замахнулась даже… Помог же! помог! тебе! дура! Одернул! – орал Серов. Эмма с сипом раздувала ноздри, думала. По-прежнему не отпуская лацканы. И кенгуровые ноги ее были все так же присогнуты. Только теперь точно для старта на лыжах…
Эмма, как групорг, непосредственно подчинялась Чекалиной. Освобожденному секретарю. Они никак не могли достать Серова, чтобы тот платил взносы. Серов умудрялся не платить два года. Целых два года! Безобразие! Чекалина хмурилась. Будем исключать. (Из комсомола, понятно.) Глезер отговаривала Чекалину, обещала, что воздействует на злостного неплательщика через жену его, Никулькову. Примерную комсомолку… После случая у раздевалки – затруднений со взносами не стало. Рассчитался за все месяцы и платил дальше в числе первых. Эмме Глезер даже было неудобно слегка. Принимая взносы, хихикала вместе с Серовым. Они вроде как породнились теперь. Глядя на такое панибратство, Чекалина хмурилась. Однако когда Серов из комскомитета выходил, помощницу хвалила – молодец! Мы не должны терять людей. Чекалина эта, освобожденный секретарь (прозвище Ерофей) – имела привычку заглядывать в аудитории. Во время идущих занятий. Точно бездельничающий студент. Причем заглядывала всегда быстро и как-то очень уж капризно. Как на всеобщее обозрение – независимый ветер. За ней выскочил однажды физик Матусевич. Преподаватель. Доцент. Минуту, уважаемая! Чекалина остановилась. Оправдывая прозвище, походила на скуластого отчужденного Ерофея-кота. Сердитого Ерофея-кота. Нужно стучать, уважаемая, прежде чем войти в аудиторию или даже заглянуть. Сту-чать. Всегда, понимаете? Даже если дома входите в собственную спальню! Это еще зачем? – прищурилась Чекалина. А если у мужа любовница? А? Глаза Матусевича смеялись. Узкая еврейская лысинка походила на хлебную горелку. На пережженный сухарь… Сколько же вас тут в институте развелось? Чекалина думала. Опять же – Эмма Глезер. Не много ли? Фыркнув, сказала: не смешно! Дальше пошла.
…Вот к этой Чекалиной вместе с Эммой Глезер и еще одним групоргом Найдёновым, белобрысым пришибленным парнем (как в групорги-то попал?) – вызвали Серова и Трубчина после произошедшего в театре. Вернее, после всего, что было с ними потом. После бессонной ночи в кутузке… После суда на другое же утро, где судья, хмурая женщина в годах, с волосами на голове как взбитый пепел, не произнесла ни слова, пока что-то писала, а потом размашисто подписывала – по пятнадцать суток каждому!.. После того, как в глухом фургоне (маруське? черном вороне?) отвезены были в городскую тюрьму… После тюремной бани, куда с такими же попавшимися бедолагами загнали мыться. (Хорошо хоть не остригли, не обрили.)… После того, как развели по камерам и Трубчина (подельника?) от Серова отделили – Серов его не видел все пятнадцать суток… После двухъярусных нар вдоль большой вытянутой камеры, на которых храпели, булькали, верещали по ночам пятьдесят глоток… После команды «к стене!», когда проводили по коридору настоящих заключенных, а декабристы жались к стенам. И трусили, и жадно смотрели на бритых субъектов… После окриков «к стене! руки назад!», когда, наоборот, уже декабристов быстро прогоняли по коридору, а нескольких уркаганов ставили лицом к стене, с руками назад. И что происходило в это время в их обритых черепушках – одному богу известно…
Были также в этих сутках и ежедневная работа на овощехранилище за городом, где под ноябрьским дождем и снегом декабристы перебирали привозимую картошку и другие овощи: свеклу, морковь, капусту…
…и жиденькая кашка по утрам: то перловая, то ячневая…
…и супец в обед с рыбьими скелетцами…
…и минута на оправку в шесть утра в хлорированном до дурноты сортире, куда выводили партиями, по десять человек, и эти десять зло орлили над чашами, пытаясь из себя хоть что-то выдавить (Серов, во всяком случае)…
…и скоротечные, непонятно из-за чего возникающие драки, после которых сидели на нарах, как ни в чем не бывало…
…и разговоры по вечерам, и жалобы (на жен, конечно, на любовниц, которые сдали…)
…и постоянно веселые фиксатые анекдотчики, весело посверкивающие из углов, точно редкоземельные металлы…
…и внезапно забазлавшее радио где-то под потолком. 7-го ноября. После чего декабристы вытаращились на потолок, будто белкастые шахтеры из шахты (Праздник! В тюрьме!)…
…и еще многое, многое другое… о чем знать не дано было этой троице за столом в комскомитете. Этой тройке, сказать точнее, вызвавшей их сейчас, по-видимому, еще на одну расправу…
Они постучались. Услышав «да», вошли Но Серову сразу приказали выйти. Странно. Однако вышел. Ходил туда-сюда. За дверью приглушенно бубнили. Сначала Чекалина, потом Глезер. Подслушать, ухо приложить – было неудобно. Ладно. Сейчас позвать должны. Однако минут через пять появился Найдёнов. Один. И скользнул мимо. Мимо него, Серова! Серов хотел спросить, но Найдёнова и след простыл. Вывели Трубчина. Именно вывели. Как больного. Глезер повела его куда-то. Защищала от Серова, загораживала. Что! что такое! – метался Серов. Собрание в двенадцать! В актовом зале! – отчеканила Чекалина.
Минут за пятнадцать до начала Серов стоял в коридоре возле актового зала. Какими-то нагипертоненными бубнами постоянно пробегали активисты. (Готовили людей? выступающих?) Нестерпимо хотелось уйти, бежать и в то же время остаться. Дождаться, чем кончится всё. Чем кончится это собрание. В зал уже валили студенты. Некоторые подмигивали Серову. Другие – разом дубовели лицами, не узнавали. Стоящий на виду у всех Серов – вроде нарывался. Сам нарывался. Словно приглашал на расправу над собой… Однако не верилось в это. Нет, не верилось. Не посмеют. Не должны. Ладно. Будет что будет.
Рядом была раскрыта еще одна дверь. В артистическую. Где прятался выход на сцену. От все больше и больше охватывающего стыда… Серов вошел в нее. При ярких светильниках по стенам – стол, два дивана, стулья. На столе длинный аквариум. В аквариуме стая мелких рыбешек. Одинаковых почему-то. Одной породы. Гупёшек вроде бы… В комнату неожиданно втолкнулся Трубчин. Вздрогнул, увидев Серова. Сразу начал ходить вдоль аквариума. Серов заходил вместе с ним. В озабоченную ногу. Куда ты пропал, Генка?! Надо же договориться! Что̀ будем говорить! Колова с Дружининым в это дело путать не надо. Ни о каком твоем споре с Дружининым даже не заикайся! Слышишь?! Просто пошли посмотреть. Понимаешь? Сами. Ведь так, собственно, и было. Какое в этом преступленье! Генка! Всё же просто! В чем наша вина? Что оказались слишком любопытными? Так простите нас, простите дураков! В другой раз умнее будем! Ведь научили, наказали уже! Чего же еще? Надо держаться вместе. Только вместе. В этом наше спасенье. Ты понимаешь, Гена? Серов все ходил с Трубчиным, клал руки ему на плечи, чтобы остановить, чтобы увидеть его глаза. Все внушал. Понимаешь? Только в этом! Трубчин же не останавливался. Трубчин перетаскивал Серова с собой. Перетаскивал будто навешанную большую гирю, словно неимоверного веса галстук свой. Бормотал. Какой разговор! Серега! какой разговор! конечно! Как от немых выстрелов, пестрая мелочь стайно шмаляла от Трубчина куда-то в сторону. И останавливалась. Шарахалась – и останавливалась резко. Трубчин споткнулся, уставился на рыбешек. Глаза его стали дики. Тю-тю-тю, постукал ногтем по стеклу. Рыбки! И снова заходил вдоль аквариума. Серову захотелось одеть зеленый этот сосуд ему на башку. На трусливую его головенку. Тю-тю-тю! – стукал рыбкам ногтем Трубчин. И опять куда-то устремлялся. Ты больше молчи, Гена. Говорить буду я. Слышишь! Раз боишься. Какой разговор! Серега! конечно! тю-тю-тю! какой разговор! Тю-ю-тю-тю! Глаза Трубчина вдруг снова сделались безумными. Теперь Трубчин увидел светильник на стене. Мерцающий сосуд и все чугунные причиндалы были выполнены в виде накаленной морды тура-козла. А? Серёга?.. Спасаясь, Трубчин кинулся к аквариуму. Тю-ю-тю-тю-тю! Рыбки!..
Ведя их в зал, Эмма Глезер сопела Серову в затылок. Нетерпеливо поталкивала коленками. Поталкивала как не имеющими стыда женскими какими-то своими лихоманками! Вот сволочь еще! Серову хотелось лягнуться. Втолкнув героев в зал, плотно закрыла дверь. Только теперь изнутри зала.
Зал был битком. Сообщение делала Чекалина. Стоя на сцене, за красной, понятно, трибуной. После каждых двух-трех предложений, предложений обличительно-патетических, разящих – делала долгую паузу. В это время желтые глаза ее на круглой морде кота – широко и отчужденно светили. Будто приданные семафору. Открывали в зале дорогу гулу. Большому гулу. (Гудели активисты и подготовленные ими люди.) Таким образом отправляла поезда – раз пять. Закончила она так: Пусть выйдут! На сцену! Перед всеми! И ответят! Свернула бумажки и стала спускаться со сцены. Но не со стороны, где с краю первого ряда сидели преступники (Серов и Трубчин), а с противоположной – где тоже в первом ряду восседал весь партком, местком, комскомитет и даже сам Шилобреев. Ректор. Полный мужчина в просторном пиджаке, с лысиной в кучерявом венце – как надолб… В зале стало тихо. Тянули головы. Ну к негодяям. Ну в первом ряду которые. Слева. Серов в неуверенности привстал, поглядывая в зал и ожидая Трубчина. Мол, чего же ты? – пошли. По-цапельному резко и высоко тот передернул ногами. Вскочил. Затоптался. Пошли. Полезли на сцену. Встали неподалеку от трибуны. Маленький Серов точно подпирал собой совсем раскисшего фитилястого Трубчина. Начал говорить. Рассказывать, как было дело. Говорил правду. Во всяком случае, почти правду… Ну выпили… Немного… Решили увидеть нашего дорогого Руководителя Страны… Ну вблизи… Вживую…Тем более, Гена (ну Трубчин) в театре работает… Пропуск у него есть… Ну и пошли… А там нам руки начали ломать, а потом пинать ногами!.. Вот так… было…
Чекалина вскочила. Он даже не понимает, что̀ говорит! Он ничего не понял! не осознал! Распахивала рукой на Серова, направляя гул. (Подготовленные исправно гудели.) Серов пытался что-то сказать, но Чекалина громогласно кричала: хватит, Серов! мы вас поняли! замолчите! хватит, я сказала!.. Пусть говорит теперь Трубчин! Говорите, Трубчин! Мы вас слушаем! Генка дернулся и задрожавшим голосом заговорил. Сказал буквально такое: «Я прошу простить меня… Простите… Я обещаю, что буду выбирать друзей… достойных друзей… Обещаю, что больше не поддамся на провокации…»
От услышанного Серов оторопел. Не поверил. Ни ушам своим, ни глазам. Серов длинного Трубчина… начала избивать. Натуральным образом. Сию же минуту. Прямо здесь, на сцене. Фитилястый Трубчин откидывался от разящих кулачков маленького Серова, отступал. От пинков его кидало на стороны. В зале привстали и разинули единый рот. «Да сделайте что-нибудь! Сделайте! – подпрыгивал в кресле, точно привязанный к подлокотникам Шилобреев. – Сделайте!» И венценосный надолб его стал багровым, как мясо. Но Трубчин был уже на полу. Серов сам перестал махать кулаками. Постоял. Волчонком глянул в зал. Сбежал по ступенькам в предбанник, за сцену. Исчез. Аплодисментов не было. Трубчин корячился на полу. Точно собирал себя, рассыпанного. Плакал. Мильтоны бьют! Гад этот бьет! За что?! Зал гудел. Теперь уже весь. Спрятавшаяся в последнем ряду Никулькова быстро пригнулась. К коленям. Закусила руку. Как собака кость. В свитере взбалтывая грудь-плотину, на сцену уже лезла Эмма Глезер. Лезла выступать. Лезла клеймить. Присогнутые разлапистые ноги ее точно влипали в ступени…
Помимо исключения из комсомола (почти единогласно проголосовали), приказ на Серова был уже к четырем часам в этот же день. За проступки, порочащие звание советского студента, из института – отчислить. Дата. Всегдашняя ректорская подпись. Как рассада. Огородная. Шилобреев. Серов застыл. Смотрел на роспись как привязанный. Никто возле доски приказов не останавливался. Серова и доску приказов – обтекали. Так беззвучно сплывают во сне реки. Убегают онемевшие ручейки. Серов смотрел на чернильный идиотский куст росписи. Сволочи! Гады!
…Напился он в тот вечер страшно. Что происходило потом – помнил смутно, отрывочно, почти бессвязно… В черном холоде ночи где-то за городом (на Шарташе? еще ли где?) последний пустой трамвай, выкинув Серова, зло бежит в трамвайном кольце – как будто точильщик в ночи топор точит… Искры россыпью летят… Потом там же, в полной тьме, погибая, Серов проваливался в каком-то подмерзшем болоте. Проваливался в ледяную грязь по щиколотки, по колено, ахал по пояс. Серов был один. Серов погибал. Болоту не было конца…
…Полз снизу на полотно. На железнодорожное. Руки загребали, выцарапывали оледенелый шлак. Полз, царапался, сваливался назад – подобно свихнувшейся драге… Наверху тяжело дышал, уперев руки в насыпь, будто в черную поверженную стенку. От которой бы только оттолкнуться, встать… Встал все же на карачки и выкачнул себя на полотно… Пошел. Шибáлся меж рельсов как мягкий тряпичный шарик…
Сонное в тумане оконце Серову издали хотелось погладить… Шел к нему, как слепец тянул руку, улыбался… К стенке дощатой будки привалился возле этого окна: всё, он дошел. Как сама, явилась бутылка из пальто. Серов отпил. Раз, другой. Завозился, заворочался на стене, ища курево в карманах, спички. Все было мокрым. Пропало. Одна бутылка вот только. Отпил еще. «Ты что здесь делаешь, дружок? Ты как сюда попал?» Глаза женщины были близки, удивлены чрезвычайно. Это сложный вопрос, уважаемая, ответил Серов и опять приложился. Очень сложный вопрос. В голове уже красно шумело. Можно сказать, в голове опять бушевало. Что-то пытался женщине объяснять. Трудно ворочал перед ее лицом лапами. Все время повторял – «уважаемая». Гундел что-то про жену, про собрание. Потом вроде бы про пятнадцать суток. Вдруг построжал. С пальцем. Но смотрите, уважаемая! «Э-э, да ты опять хорош!» Серова начали подымать, отдирать от стенки. Серов думал, что ему сразу же дадут под зад. Поставив на ноги. Поэтому поднимался и растаращивался, сердито бормоча: «Я сам! я сам! уважаемая!» Однако женщина, умело поднырнув, закинула руку героя себе на плечо, другой своей рукой ухватила за поясницу – и поволокла к крыльцу, к двери. (Классическая композиция! Жена тащит пьяного мужа!) Серов висел как альпинист. Которого втягивают в гору – бутылка везлась чуть не по земле. Серов только перебирал, набалтывал ножонками. Вроде как помогал. Женщине. Благодарно смущался. Ну зачем вы так. Я сам могу. Не стоит. «Да ладно тебе! Помолчи!» Серов был доволен: уважает. В будке, куда ввалили и оказались на свету коптилки, женщина опять воскликнула: «Да ты как тысяча чертей! Дружок! Весь в грязи! Никак по Шарташу, по болоту блуждал!» Я в порядке, уважаемая, сказал Серов. В полном. Выпятил грудь, напыжился. И как был – в длинном пальто, мокрый и грязный – пал. Назад, навзничь – бутылка покатилась по полу. Женщина смеялась, уже снимала с него одежду. Потом завалила голого на какой-то топчан. Накинула кожух, как тьму. Спи давай! И всё померкло.
Проснулся через час. А может, полтора. Проснулся от жары. В каменной беленой печке гудело. Женщина стирала у двери, дергалась над корытом. Что за черт! Женщина была почти голой! Она скакала над корытом в одних голубых панталонах в колено! Как поджарый присогнутый жокей на дистанции! Груди дергались увесисто. Груди были как вцепившиеся в нее снизу дети. Ребёнки!.. Серов сделался мокрым, как мышь. Неужели всё уже было?! С ней?! Ощупал у себя. Ответа не было. Коптилка залпом выпустила к потолку кучу чертей из хлопьевого чада… Медленно-медленно начал поворачивать себя к стенке. Запирал дыхание. Старался не скрипнуть. Отвернулся, наконец, унимая сердце.
Трудовая рабочая ладонь обходчицы, тронувшая его голову – ощущалась в темноте как сверху сухой, отполировавшийся слизень. Как крепко подсохший моллюск. Даже после мыла, после стирки пахнущий мазутом. «Ты спишь, Сережа?» Серов сказал, что не спит. Глаза его не видели даже стенки. Таращились в полной тьме. Рука женщины робко гладила его. Гладила волосы, ухо, щеку. Точно рукоположенный, боясь задрожать, Серов напрягался. Вы бы осторожней со мной, уважаемая! Я ведь женат! Это было сказано с угрозой. Как будто он, Серов, по сексуальной части очень опасен. За последствия не отвечает. Как будто из тюрьмы он, по меньшей мере, только что. Впрочем, так оно и было – дома Серов еще не был, не был пятнадцать суток и Никулькову, жену, естественно, эти пятнадцать суток не видел. Так что сами понимаете, уважаемая! Женщина смеялась, руку не убирала. «Да что ты все трандишь – «уважаемая! уважаемая!» Галя я. Просто Галя. «Уважаемая!» Ха-ха-ха!» Рука скользнула на грудь. Потом на живот. Э, нет, уважаемая! Серов сел. Говорил и махался в темноте руками. Доказывал кому-то. Это ведь ошибка, женская ошибка, заблуждение, что все мужики такие. Все! Жестокое заблуждение! Мол, помани его, покажи ему – и он готов! Всегда готов! Как кобелишка побежит! Хвост крендельком! Неправда! Не все такие! (Уж он, Серов, во всяком случае, точно не такой!) Женщина отодвинулась. Голос ее стал отчужденным. «Да ладно тебе! Разошелся!.. Не остановишь… Стара я для тебя – вот и всё мое заблуждение». Серов тут же начал заверять ее, что не стара она, нет, а все дело в нем, в Серове, не может он – просто вот так! «Ладно, успокойся. Ложись и спи… Никто тебя не тронет. Только вот что я тебе скажу, дружок. Зря ты с женой так носишься. Недостойна она тебя. Ни разу не пришла к тюрьме. Сам ведь пьяный говорил, что ни одна собака… В том числе и она… А кто же должен поддержать в беде, как не жена?.. Да и на собрании – где она была? Видел ты ее?.. Ну вот видишь… А ты с ней, как с писаной торбой…» Серов молчал. Лежал на спине. Не верилось, что у него такая жена. Да и вообще – как дома-то он теперь будет? У Никульковых? В каком качестве?.. Грудь сжала тоска. Повернулся к женщине. Но только гладил, сжимал ее рабочую руку. Гладил и потихоньку сжимал. Точно хотел внушить ей, руке, что не все так просто, однозначно, что… «Не переживай, Сережа, не переживай, дружок. Всё уладится. Поверь! Утро вечера, как говорится. Постарайся уснуть. А завтра по-другому все будет». Эх-х! Почему дома-то его никто так не жалеет? Его, подлеца? Вот как эта женщина? Почему? Глаза защипало от слез. Эх-х! Отвернулся к стене, зажался. Рука женщины опять гладила его голову. Не думай об этом, Сережа. Не думай. Не ты первый, не ты последний. Друзья-подлецы, жены-стервы. Не думай. Перемелется. Поверь. Спи, дружочек, спи…
На рассвете Серов быстро натягивал на себя одежду. Женщины в избушке не было. В низкое оконце заступил похмельный серый свет. Одежда не успела просохнуть, была волглой, жёваной, но чистой. В застиранных, напитанных водой полах пальто карманы стали глубоки, обширны. Как магазины. Быстро запускал туда свои вещи, беря их со стола. Паспорт, военный билет, записную книжку, рубля три денег – двумя бумажками и мелочью. С документами произошло так: в день пьянки в общежитии и всего, что потом случилось, Серову возвратили документы в отделе кадров института, куда по требованию он их сдавал. И были они там для проверки. Для проверки их подлинности. Раза два в году такую проверку проводила сама кадровичка. Задастая, величественная матрона. С косой, уложенной на голове в виде змеюшника. При матроне в это время всегда находился безликий, как моль, куратор из КГБ. Запершись с ней на целый день в кабинете отдела кадров. Можно только представить, ч т о они там за железной дверью друг у дружки проверяли… (Серов видел однажды, как куратор крался за задом матроны – по-охотничьи, растопыривая ручонки, с глазами – навыкате.) Побывали документы с Серовым и в тюрьме. Только в другой, понятно, камере. И вот теперь они у него, в кармане. И это почему-то здорово успокаивало. На другом конце стола увидел записку. Поднес к свету окошка. Каллиграфическим женским почерком в ней было написано: «Сережа, дружочек! Если проснешься, не уходи. Обязательно дождись меня. Я пошла в поселок: принесу еду и бутылку красного. Как знала, припрятала после дня рождения. Как раз для тебя. Схожу быстро. Дождись, прошу тебя! Галя». У Серова перехватило горло. Серов затосковал. Опять до слез, до сердечной боли. Стало жалко и себя, пьянчужку несчастного, и эту тоскующую по мужской ласке женщину… Но остаться и вновь увидеть ее жалеющие, всё понимающие глаза… Нет, на это нервов просто не хватило бы. Своей авторучкой на оборотной стороне записки быстро написал: «Галя! Дорогая! Прости меня за всё. Прости. Сколько жить буду – столько буду помнить тебя. Прости. Прощай. Сергей». Бумажку положил на стол и ринулся из будки.
Предзимнее свердловское небо походило на выгребную яму. На смрадный провал. Словно шелковыми рассыпчатыми шалями, укутано было инеем кочковатое болото. По другую сторону от железнодорожной насыпи – от пустого поля с одичалыми пнями – упячивался лес… Серов уходил по железной однопутке, как казалось ему, к городу. По принципу: телега дорогу покажет. Где-то в той стороне за лесом должен быть Студенческий городок. А там – уже автобусы, трамваи. Накатывала и трясла дрожь. Похмельная трясучка. Всю одежду тащил, будто чужие тяжелые спрелые шкуры. Ничего. Высохнет. Высохнет на теле. Поглубже, вроде котелка, насаживал шляпчонку. Оборачивался все время назад, на будку путевой обходчицы… В полном одиночестве в округе прилепились к избушке две сосны… Плешивые, как гнезда… И одинокие эти две сосёнки… почему-то больше всего скребли сейчас душу…
…Декан Нечволодов смотрел на Серова. Поверх неряшливых свисших очков. На кончике мокрого носа. Сильно поредевшие волосы на голове напоминали побитый гребень. Достал платок. Сморкнулся. Не снимая очков. Дужки встали дыбом, очки чуть не упали. Однако подхватил. Поправил. Чего же вы от меня хотите, молодой человек? Документы! – заорал Серов. – Справку, что я закончил шесть семестров! – А это уж к секретарю, уважаемый. Только к секретарю. Опять смотрел поверх очков. С побитой волосяной своей гребенкой. Серов пошел. Счастливого пути, молодой человек! – успел напутствовать Нечволодов.







