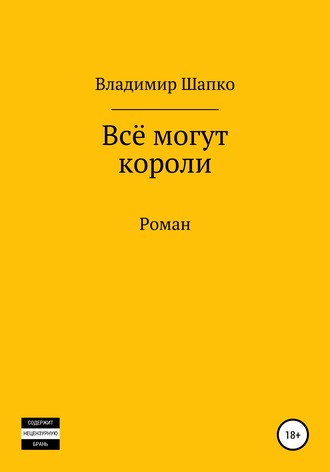
Владимир Шапко
Всё могут короли
29. Стойкие вирусы
В отличие от Серова, Дылдов писал всегда трудно. Как загнанный в клетку. Насильно. Как загнанный в клетку опасный зверь. Без остановки ходил. Из угла в угол. Часами. Он словно насильно, ногами, выбивал из себя хоть какое-то подобие мысли, хоть какую-нибудь образ… Кинется к столу… но запишет… два-три слова. От силы – предложение… И снова взад-вперед. И снова с вытаращенными к кому-то глазами. (К кому?) Уже явно безумный… Гадство-о!..
Должен быть всегда звук. Прежде всего звук. Звук прозы. Звук вещи. Должен заныть в тебе. Заверещать. Как занудливейшая зурна. От которой никуда не деться, не убежать. Только записывай тогда, только успевай. (Однако метод!) Но где? Где это зурна?!
И всё же как из той же клетки, как из застенка, слова прорывались на бумагу:
…Уже в Москве, уже в последней стадии болезни, отца стало припирать в самых неожиданных местах. Как собака, поспешно подковыливал к первому же дереву, столбу… «Ты прости меня, сынок – не могу…» Моча брызгалась неудержимо, как из плохой лейки… «Сынок, прости!..» Глаза закрыты, не могут смотреть на людей. Весь покрыт потом… Можно ли писать об этом?!.
…Милиционер. Легавый. С усами как ежи… «Эт-то что еще такое?! Ну-ка убери его отсюда!..» Сволочь…
…Мать умерла спокойно. Естественно. Если смерть можно признать естественной… Умерла во сне. Никогда не болела. Ничем. Родила первого и единственного в сорок пять. Будущего оболтуса. Неудачника. Лицом была всегда чистая, свежая. Как после воды родника. О ней можно. О ней много и писал. Но как – об отце?! О жуткой его смерти! Здесь, в Москве!.. «Ты осторожней, Леша, осторожней… Больно, Леша, больно-о!..» Катетеры в черном сгоревшем паху – как водяные волосы, как пиявки!.. Гос-по-ди!..
…Молодые парни-курсанты милицейской школы… Четверо… На Тверском… В аллее… Сизые бездельники… Как говорится, не кочегары мы, не плотники… На одном сизом хрипит рация: «Усилить подборку лиц в нетрезвом состоянии! Не чувствуем вашей работы! Смотреть по сторонам!..» А в твои руки уже вцепились двое. Двое из четверых. Композиция: ты и мгновенно онемевшие чугуны. Онемевшие от радости и от страха. Что сейчас поведут. Что попался в руки, голубчик… «Слышите меня, курсанты?! Усилить подборку лиц в нетрезвом состоянии!..»
Метания Дылдова прекратились часа в три дня – пришел Серов. Вдвоем отправились к известному писателю. Преуспевающему, сказать точнее. Три дня назад Дылдов набился на встречу. Неизвестно для чего. Может быть – ума-разума поднаберемся? А? Сережа? Потом – рукопись вот. Ладно. Сходим.
В тихом зеленом переулке Дылдов точно зло дописывал то, что не успел дописать дома. В таких вот домах в два-три-четыре этажа, в таких вот московских переулках в центре, в просторных квартирах этих домов – таятся тишайшие заповедники барахла и богатства. Будет тебе известно, народные тут живут. Одни народные. Какие-нибудь балерины, актеры, актрисы, ну и крупные ученые, конечно, профессора… И наш писатель в таком же заповеднике обитает… Взглядом Серов показал на рубашку в одном из дворов. С веревки которая свисала вроде спущенной мокрой кожи… Дылдов не дал себя сбить. Это исключение. Плебс. Попадаются и тут. Какой-нибудь дворник вроде меня. Или шофер. Народные стирать сами не будут. Тем более – развешивать на веревки. Приходящие у них прачки. В крайнем случае, банно-прачечный трест. Приедут, заберут – чистенькое, наглаженное привезут.
Наконец увидели «народного». Настоящего. Старик. Мекоголовый, вытянутый, прямой. Навстречу идет. Как тлеющая бежевая трость. Крапчатая бабочка на веревочной шее, американский песочный пиджак. Проходил мимо на бамбуковой тяге – палка выделывала на тротуаре щегольски, ритмично. А? Сережа? Каков гусь!
Спотыкались дальше. На «народных» по-прежнему изливалась желчь. Железные двери уже ставят. Натурально из листового железа. (Есть, значит, гадам что прятать, что охранять.) Не видел? А я удостоился. Ночевал тут у одного. На Волхонке живет. Вирус. С понтярским именем – Стас. Станислав, конечно, какой-нибудь. Но сейчас натурально – Стас! И вообще – Влады, Стасы какие-то кругом пошли. Чистейшая же понтяра! Да. Но я уехал, я – о другом. Ночую, в общем, у него – а утром вдруг загрохотало по всему подъезду. Что за черт! Как забойные двери тюремных камер! Натуральная тюрьма! На оправку – выходи! Сразу вскочил: где я?! (А до этого был вдребезину, как попал к нему – не помню.) А Вирус меня успокаивает: не пугайся – обыкновенный утренний грохот. Просто день, оказывается, в тюрьме начался… Да-а. Непонятно только – как заключенные-то сами живут. В таком грохоте. Кто-то сидит, пришипился в своей одиночке, не высовывается, а кто-то осмелел уже – выходит даже наружу, на площадку, дверью гремит…
Когда спускались на улицу за пойлом (а он у отца, оказывается, гужевал, Стас-то, в отцовской квартире) – вижу: какая-то вроде девчонка ключом ковыряется. Ну в железной такой двери. Стройная, ножки, всё такое. То ли открыть не может, то ли наоборот – закрыть. Ключ длинный. В замке, как электричество, кусается. «Здравствуйте, Ольга Александровна!» – здоровается с ней Стас подобострастно. Она обернулась. Боги! – лицо как сморщенная лайковая перчатка! Вот так девчонка! Оказалось – знаменитая балерина. Народная артистка СССР. Да мне-то бара-бир, как говорят татары. (Не писатель же она.) Стоим. Сильно, надо сказать, благоухаем. Стас ловит там чего-то этим ее ключом. В двери. Вроде как рыбку рыболов. Открыл все-таки. «До свидания, Ольга Александровна!» И понесли от нее вонь свою, стали спускаться. «Привет Лёлечке!» Наш Стойкий Вирус Стас все изощряется. Боится, что отцу донесет. Кого он тут водит. Так и стояла наверху, пока мы спускались. Как мумия. Как грозная карающая статуэтка. Как тощий американский Оскар, наконец! Которым можно дать тебе по башке! Чтоб не ходил, подлец, в такие дома. Не лез куда не положено. Вот такие тут кругом заповеднички припрятались. Хоронятся, притаиваются. И вроде бы в самом центре Москвы, в самом шуме. Но – всё тихо, скромненько внешне, незаметно. Как говорится, без афиш. Каста. И наш маститый где-то здесь живет. Зря идем, наверное. Но – надо, Сережа. Всё надо пройти. Всё. До конца. Раз писателями себя мним. Надо.
…Маститый явно не узнавал Дылдова. Тем более приведенного еще какого-то хмыря. (Хмыря-Серова.) Так бывает, когда сильно переберешь. Вчера вечером. Видимо, пьяный он опять был добрым. Опять черт-те чего наобещал. И самое главное, пригласил домой. На удивлению сейчас себе, на досаду. Пребывая сегодня в абсолютной трезвости. Дьявол!
О столе, за которым сидел настоящий писатель, сказать стоит особо. Это был не стол даже – это был трон. И стоял он не в каком-нибудь пятиметровом задвинутом закутке, а – в большущей комнате. (До него сидящим посетителям было не менее пятнадцати метров! Тянуться – не дотянуться!) На виду у всего мира стол. Трон хана. Трон падишаха. Солидно огруженный к тому же рукописями. Где сам Хан находился ровно посередине. Ровно по центру. Самодовольно оглядывал свое богатство… Впрочем, этот наверняка неоднократный, уже наезженный сеанс (Писатель в Процессе, Писатель в Творчестве) показывался при более благоприятных обстоятельствах. Показывался избранным. Достойным. Не всякой там случайной шушере. Поэтому сейчас хозяин стола хмурился. Явно не хотел вспоминать, что̀ там было три дня назад. В каком-то там ресторане ЦДЛ.
А в ресторане три дня назад, в окружении восторженных и льстивых пристебаев, куда Дылдов попал случайно (Вирус один расстарался) – он, этот писатель, казался доступным полностью, демократичным, этаким всеобщим любимцем, баловнем судьбы. Ленивая праздность его казалась врожденной, навечной. Такая бывают только у поэтов, у истинных стихоплётов. Им всё запросто, им всё по плечу.
После достаточной алкоголизации, после того, как шары (точно от хорошего удара кием) за столом раскатились и стали попарно, Маститый, отдав руку спине Дылдова – барствовал. Дылдов сердился. Дылдов был вроде комнатной собачонки, взятой на руки. А Маститый щедро обещал. Приноси. Запросто. Посмотрю. (Речь шла о рукописи. Не Дылдова даже – Серова. Друга. Талантливого друга.) Если стоящая – напечатаем. Вон у меня: только принес – почти сразу в набор! Почему вы-то такие зачуханные? Почему у вас-то так не получается? Все это говорилось с наивным простодушием скотовода. Аульного скотовода. Который громко рыгает встречным, показывая, как хорошо он поел сегодня, к примеру, мяса… Дылдов все же снял с себя руку, освободился от такой опеки. Тем не менее это не помешало ему прислуживать Маститому. Прислуживать в числе прочих. Под локотки выводить. И так же было и на улице. Где Маститый целил башкой почему-то сразу в обе дверцы такси. (Так баран упирается, ищет новые ворота.) Дылдов порывался даже ехать провожать. До дома, так сказать, до семьи. Но нашлись более прыткие.
Принесенная папка с рукописью, на которую Маститый старался не смотреть, стояла на колене у одного из парней. Размером казалась с чертежный планшет. В свою очередь, посетители иногда тоже поворачивали головы к рукописи. Будто к проститутке сутенеры. Не зная уже, как и кому ее предлагать… Потом зачарованно смотрели на гробик старинных часов на стене. С маятником, с римскими цифрами – с бесконечно длинными и свободными еще минутами и часами… Очнувшись, вновь устремлялись вниманием к столу. Молодые. Очень внимательные. Парнокопытные на стульях.
Маститый говорил ровно час. Монолог был наполнен планетарным. Философичным. Вирусы по-прежнему сидели очень пряменько. Как институтки. Чуть-чуть только касаясь спинок стульев. Иногда переглядывались: зачем мы здесь? Не иначе – для дерьмовости ситуации. Для окончательного ее углубления и наполнения. Вновь напрягались.
Философ прерывался. Жуя губами, наглядно думал. Лицом похожий на кавказское седло с крючком. Вновь продолжал. О рукописи не было сказано ни слова. (Так не говорят о нехорошей покойнице.) Будто ее никогда «не стояло» на колене у Серова. Когда прекратилось от стола окончательно… молчком поднялись. Кивнули. Вежливо. Направились в прихожую. С явным облегчением Маститый тоже пошел. Опять-таки вежливо пожали протянутую руку. «Я всего добивался сам… (Золотые в общем-то слова.) Впрочем, вот возьмите…» На листке из записной книжки, сложенном вдвое, было начертано название журнала и фамилия… З Е Л И Н С К О М У Г. В. (!!!) Серов развернул. Уже без всякой вежливости. Прежде всего бросалась в глаза роспись Маститого. Она давала фору, большую фору даже шилобреевской. Ректора института Шилобреева. Где Серов когда-то учился. Однако если та была сродни густой рассаде помидорной на окне, то эта являла собой хитроумнейшую шерстяную нить, надерганную из проносившегося свитера! Большого философического наполнения была эта роспись. Такую нужно д...... годами. Это уже точно. А слов было над ней всего три. Если не считать предлога. «Геннадий, посмотри у ребят». Что посмотреть? Зубы? Яйца? В жопе?.. Серов положил листок на тумбочку. На обувную. Вышли.
Серов на улице расхлёстывал, сдирал с себя галстук. Зло совал в карман нового выходного пиджака. Который ему утром наглаживала, а потом навяливала Евгения. Дылдов замахался кулаками. Да он всю жизнь вымучивает, вытягивает из себя одну темку! Пацанёнка-абхазёнка-чеченёнка своего! Всю жизнь! Сережа! Прекрати, сказал Серов. И Дылдов заткнулся.
30. Встреча Дылдовым своей бывшей жены и своей дочери
Он быстро двигался вдоль состава. Пропускал и пропускал людей. Вытягивал голову, подпрыгивал. Наконец – увидел. Углубленной нефтяной качалкой Пожарская мотала себя, спускаясь из вагона вниз. Подумал почему-то, что она приехала одна – какие-то мужчины подавали ей сверху чемоданы, сумки. Коробки. Она ставила всё на перрон, сдвигала в кучу, потом считала поштучно… Подходя к бывшей своей жене, Дылдов начал волноваться так, что на щеках стали проступать все пощечины, которые он когда-то от нее получил. (Так, во всяком случае, ему казалось.) Гангренозно проступать. Здравствуй! Голос его дрожал. С приездом! Женщина мельком взглянула. Как будто видела его только вчера. Наклоняясь к клади, мотнула рукой. Куда-то вбок. «Твоя дочь… Анжела, если не забыл». К нему нехотя повернулась девица семнадцати с половиной лет, с натянутыми назад волосами, с двумя волосяными спиралями с висков, в которых было что-то от пружинящих колец иллюзиониста. Девица спокойно разглядывала так называемого отца. Который уже тащил из кармана платок, который судорожно вытирал лицо этим платком. А перед Дылдовым стояла – ДОЧЬ. Его дочь. С талией подсвечника. Одной рукой можно было переставить на другое место. Он не знал, как быть вот с такой. Обнять? Пожать руку? Потянулся и осторожно коснулся ее щеки. Губами. Девица отшатнулась. Лицо ее, как от удара анестезией – отвердело. «Ну хватит, – оборвала всё мать. – Как потащишь?» Дылдов не понял. Кого тащить? «Вещи! Чемоданы! Коробки!» Дылдов побежал. Искать носильщика с большой тележкой.
Пожарская шла рядом с потрясывающимися на тележке вещами. Шла какой-то громоздкой отчужденной недвижимостью. Которой Дылдов, если можно так выразиться, когда-то владел. Не единолично, правда… Дылдов суетился позади дочери и носильщика. Как бы оберегал всех. Чтобы чего не вышло. (А чего, собственно?)
В такси, сидя рядом с шофером, без остановки говорил, показывая направо-налево, объясняя, где они сейчас проезжают, что они сейчас видят. Мы знаем, – обрезали его, – можешь не стараться. Он заткнулся. Смотрел вперед. Шофер в таксистской конфедератке был индифферентен. Однако на поворотах почему-то зло (очень круто) заруливал двумя руками. Валил дома, пешеходов, всю улицу. Перемешивал всё, как какую-то нечистую силу, по меньшей мере. (Пожарская в это время раскидывала по кабине руки.) Вновь все выравнивал. Из зеркальца косящий на Пожарскую глаз был сродни недобитку. Партизанскому, к примеру. Стерва!
…Дылдов знал за собой неприятную, пугающую порой его самого, особенность, склонность: он часто выдавал окружающим (Зенову, Новоселову, Серовым – Сергею и Жене) какой-нибудь прогноз на будущее, прогноз неприятный, как правило, нехороший, сам в глубине в него не веря. Касалось ли это цен, семейных ли чьих-нибудь отношений, в том числе и своих, видов на урожай (плохих, как правило) и т. д., и, странное дело! – прогнозы эти дурацкие сбывались. Почти всегда. Он говорил: «Погодите, не то еще будет…» И рисовал неприятную всем картину. Разворачивал ее перед всеми. С каким-то смиренным мазохизмом. И – точно. Всё так и случалось. Он, что называется, каркал. Накаркивал. Порой на свою голову. На свою шею. (Так произошло и с приездом Пожарской.) Окружающим (опять-таки Зенову, Новоселову, Серовым – Сергею и Жене) постоянно бы ему говорить – «Не каркай!» И они это делали, говорили. Но словно бес какой-то на языке у него сидел, и он опять р а з в о р а ч и в а л к а р т и н у…
Переданная соседкой телеграмма сразила наповал: «Проездом из Трускавца Москве будем двадцать четвертого поезд номер вагон номер». И подпись: «ПОЖАРСКАЯ!»… Господи, ведь только три дня назад бормотал об этом! Что, мол, всё возможно. Что всё бывает. Что, например, однажды вот так вот. Звонок или телеграмма. Сергею с Женей трандил. Невероятно! Как же теперь быть? Вдруг через сердце протащили длинную иглу с длинной нитью. Упал на стул, хватаясь за грудь и таращась на телеграмму. Наклеенные буковки вдруг стали весомы, выпуклы. Грозили раскатиться. Ссыпаться… Задрожавшей рукой на этой же бумажке отложил их на стол, как дробь…
У Серовых, после того как прочел – засовывал телеграмму во внутренний карман пиджака. Уже как документ. Уже как постоянный. Просто необходимый при пожизненном ходатае-сутяге. Я, Сережа, на вас только и надеюсь. Приходите. А? Женя? Налепим пельменей. Выпьем (сухого! только сухого! Женя! обещаю!). А? Посидим. А то что же я с ними – один? В общем, боюсь я их. (На свою голову накаркал, Женя! Правильно ты говорила!) Боюсь обузениться. Ударить в грязь лицом, если мягче сказать. А вы – друзья мои. Близкие мне люди. А? Женя?.. Евгения сразу согласилась. Хотя Катьку с Манькой опять придется оставлять соседям. Обещала все с Дылдовым купить к столу. А потом приготовить, пока он будет встречать бывшую семью на вокзале…
На рынке Дылдов вел себя так. (Был он там уже на другой день, с Евгенией, с поддержкой, вроде как с женой.)
– Почем картошка?
– . . . . . . . . . . . . . .
– Ведро, что ли?
– Килограмм!
– Вот уж воистину: кто продает – совести не имеет. А? Евгения?
Крестьянин забеспокоился. Был он как только что выдернутый с огорода корнеплод. Типа брюквы-волосянки. А? Куркуль? Не стыдно? Могла произойти хорошенькая смычка. Так сказать, города и деревни. Но Евгения оттеснила, увела. Не дала пойти в натырку.
В мясном торговалась, выбирала все сама. Дылдов не вмешивался. Однако с некоторым испугом смотрел на мясо. Висящие на крюках туши были как африканские континенты. Можно сказать, истекающие кровью. Натуральные Патрисы Лумумбы! Вот да-а… Его и отсюда увели. Правда, уже нагрузив сумками. Куда столько мяса? Женя? Неужели всё съедим?
При виде вазонов с цветами, которые стояли прямо на асфальте, на ум пришел почему-то колумбарий. Его в подвялых цветах стена… Дылдов не мог представить, что он преподнесет на вокзале один из этих букетов. И, самое главное, что у него примут этот букет… Нет. Ни к чему, Женя. Не тот случай. Не тот человек. Тогда дома поставим, решила Евгения. Цветы были куплены.
…Почему-то волнуясь, Серов тыкался среди дылдовских пустых бутылок в углу. Словно среди заблудившихся пыльных паломников. Словно пастор среди толпы. Мессия. Куда их? Куда выводить? Побежать сдать? Цейтнот! Поздно! Евгения накинула тряпку. Типа скатерти. Бутылки сразу стали походить на приговоренных смертников. Весь всклоченный Серов теперь ходил вдоль них будто тюремщик. Точно охранял их. От посторонних глаз. От всяких проезжающих и любопытных. Припрутся ведь сейчас! Евгения восклицала старушкой, бегая вокруг стола: скоро приедут, скоро будут тут – а у нас не у шубы рукав! Тарелок комплектных, парных, у Дылдова не осталось. Побиты были тарелки, побиты по пьянке. Евгения перекидывала уцелевшие, как шулер карты. По-всякому тасовала. И всё бесполезно. Даже купленные стрельчатые цветы на столе не радовали. Казались чьими-то вырезанными тромбофлебитами… Что делать? Сергей?..
Появилось безумное лицо Дылдова: помоги! Серов кинулся. Начался занос вещей. Можно сказать, закантовка. После чемоданов – вдвоем кожилились с громадной коробкой. На ум приходил пакет кирпичей. Который возможно поднять только краном. Довольно большая комната Дылдова на глазах превращалась в товарный двор. Ну, вот и всё! Налимья улыбка хозяина перекашивалась, тряслась. А теперь – познакомьтесь, пожалуйста! Прибывшие гости (мать и дочь) хмурились. Тучная женщина была одета по-дорожному – в плащ с поясом. Смахивала на туго перевязанный сноп. Надо лбом торчал из-под газовой косынки желтый букетик завитых цветков. У стройной девчонки брюки были струйны, как шторы; в виде клумбы на груди – взбитый шелк. Пожалуйста, познакомьтесь, все уговаривал хозяин. На поспешный шаг Евгении… на шаг с протянутой рукой… Пожарская только мотнула головой и отвернулась к вещам. Руку девицы Серов подержал точно растение. Вьющуюся жимолость. Как дятел, долбанул два раза: Серов! Серов! Руку отпустил.
Дошло до приглашения к столу. Однако Пожарская на стол со всеми его паштетами и салатами вдруг стала смотреть как на секторы, на квадраты незнакомого города. Точно пролетая самолетом мимо. Не желала совершить посадку. Оказывалась то с одной его стороны, то с другой. (Все за ней ходили.) Это еще зачем? – бормотала. Для чего всё это? Мы не голодные! Еще чего! Всё же дала себя усадить. И дочку рядом с собой. Под локотки старались Дылдов и Евгения. Серов был наэлектризован, дик. За столом всклоченностью прически походил на штопор. (Казалось – это мысли его торчат в таком виде из головы.) Крутил бокал за ножку. Недовольный, злой. Постоянно внимательное лицо жены, обращенное к гостям, все время роднилось с какой-то пошлой избитой метафорой. Вроде пресловутого света в конце туннеля. Этакого светкá. Ну что, спрашивается, старается? Для чего? Евгения же, когда слушала, особенно девчонку, когда поворачивалась к ней – становилась сладкой, медовой. Как далекая какая-нибудь, вся в мечтах, Анталия. Серов не узнавал супругу. Вот уж правда: хочешь узнать жену – выведи на люди. В свет. Уж тогда точно узнаешь! Евгения не обращала внимания на супруга, она пыталась вести светскую беседу: как вам Москва? Не правда ли, кругом суета, шум и неразбериха? Ей отвечали односложно. Пожарская отвечала. Угу. Ага. (Вроде как – отстань!) Так серьезный мужик отвечает надоевшей свистульке-жене. Во время хлебания какого-нибудь борща. Щей. Заткнешься ты, наконец, а?
Большая бутылка на столе походила на силосную башню в Техасе. На полях его. Ее можно было увидеть за десятки километров. Наливая всем, Серов брал ее двумя руками. В обхват. Когда доходило до Пожарской – бутылка замирала над бокалом. Тяжелый взгляд женщины не давал лить, гипнотизировал. Однако Серов все же исхитрялся плеснуть. Чуток. И убирался восвояси вместе с бутылкой. Со всеми ее американскими наклейками и этикетками.
Пожарская сидела напротив Серова. Когда отходила от стола и рылась в чемодане (у Дылдова не оказалось салфеток к столу, конечно, забыли, Евгения взмахивала ручками, как старушка) – с короткой спиной и объемным задом на длинных ногах – походила на сутулую, недоразвитую лиру. Возвращалась к столу. Совала салфетки дочери. Помедлив, кидала несколько штук на скатерть. Для остальных. (Евгения прямо-таки исхудала за это время.) Продолжила обстоятельно, ни на кого не глядя, насыщаться. Голые руки ее были усеяны цехинами веснушек. Голые руки ее были точно в колониях сохлых клопов! Серов уводил глаза. (Ну вот всё, всё ему было плохо в этой женщине!)
За весь ужин он не сказал и нескольких слов. Сначала украдкой, а потом и открыто, внаглую Серов разглядывал эту женщину. Эту женщину, сидящую напротив. Что насыщалась сейчас. Что жрала сейчас напротив… Поворачивался с недоумением к Дылдову. Как можно любить такую? Это же больше завод, чем человек. Функциональная фабрика. Для заглатывания, для переработки там чего-то внутри. Как?! Однако женщина чувствовала неприязнь зачуханного мужичонки – иногда на Серова внимательно смотрели желтые, спокойно-злые глаза большой котяры… Серов покрывался потом. Чтобы не потерять сознание, поспешно отпивал из бокала.
Девица за столом была все время с оттопыренными пальчиками. К еде перед собой относилась как, по меньшей мере, к нейрохирургии. Когда пила из бокала, а пила она желтую фанту – губы ее сводило от газа как гузку.
А сам хозяин?.. Сам хозяин точно прибыл с голодных мысов – ел, хватал все подряд. Словно только чтобы меньше говорить. И в то же время нес без остановки. Иногда начинал сильно заикаться. Будто давился едой. Пытаясь объяснять что-то этим двоим, размахивал руками. На него смотрели строго и недоуменно. Как на немтыря в несущемся поезде. Который втюхивает пассажирам порнографию. Дылдов понимал, что старается зря, что «порнографию» его не купят и, словно извиняясь за нее, загонял бормотню свою куда-то обратно, куда-то в желудок. Да. В общем. Извините. Больше не буду. Да. К концу обеда он заткнулся вообще. Однако оставался очень любопытным. Как пенсионер в задрипанной машинешке. Который, боясь выехать, робко высовывается из боковой улочки. На главную, шумящую магистраль…
Ночевать пришлось у Серовых. В общаге.
Постельное белье Пожарская доставала из своего чемодана. Дылдовское приготовленное с кровати – сбросила на пол. Долго не решалась застелить простыней матрац, разглядывая его, как, по меньшей мере, всю в разводах обосса… Нигерию. Дочь уже проглаживала на ночь волосы щеткой. Точно неопасным, изрядно облысевшим ежом.
Утром Дылдов долго стоял в аллее напротив своего дома. Какой-то гражданин не слишком трезвого вида перелез на дорогу прямо через чугунную огородку. Дорогу – простриг. Поперек. Этаким пьяным вялым зигзагом. Не обращая внимания на машины, на визг тормозов. Разодранный, изломанный поток тут же выправился, и машины рванули дальше, что называется, плюясь и чертыхаясь. А Дылдов все стоял, не решаясь ни лезть через огородку, ни идти в обход…
По пояс оголившись, вольная, как Бульба Тарас, Пожарская плескалась над коммунальной раковиной на коммунальной кухне. Соседка Дылдова, не менее вольный казак (пижамные штаны, измятый колокол рубахи), не могла почему-то заставить себя пройти в туалет. Даже в туалет. Однако старушонка-мать ее… выбежала в кухню с решимостью бойцового петушка. Прытко подскакала к Пожарской и уставилась снизу. Со своим больным глазом – как с выпавшей маткой… Пожарская скосила лицо. «Ну, в чем дело, старая калоша?» В ответ старушонка вдруг начала бить ее. Тощими грабками. Быстро-быстро. На манер длиннопалой обезьянки. Норовила голову Пожарской – перекидывать с руки на руку. Как мяч. Пожарская брезгливо отстранялась. Пожарская ударила старушонку только раз. Ладошкой. Сверху по темени. Старушонка шмякнулась на попку и подкинулась. Трясла головенкой как после нокдауна. Заскочивший в кухню Дылдов увидел только самый конец всего – Пожарская широко шагала к двери, рубашкой удерживая вываливающиеся груди, а старушонка трясла головой на полу, приходя в себя. Однако легко, с перекато вскочила на ножки. Как кривоногий джигит. Как ванька-встанька!.. А дочь ее, Нюра, уже пела: «Это что же, а? Лешка? Как жить?» Хороший вопрос, сказали бы сейчас. Очень хороший вопрос. Но Дылдов отмахнулся от нее. Дылдов на цыпочках пробежал и приложился ухом к закрытой двери…







