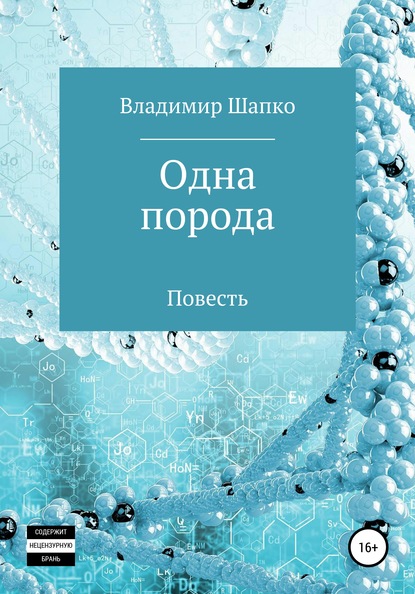 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Владимир Шапко Одна порода
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

1. Антонина Лукина
Его привел Коля-писатель. И он сразу ей понравился. Новоселов. Пожилой, правда. Но волосы… Даже удивительно. Густые, лучистые. Так и бьют белым костром. Даже не верилось, что такие бывают. «Ну, вы сидите теперь, сидите, а я – пойду», – все время придвигался к ним, облокачиваясь на одну свою руку, Коля. Но сам не уходил. Словно бы боялся оставить их одних. Не хотел все пустить на самотек. В забывчивости кидал в рот рюмки. Снова облокачивался: «Ну, вы тут… а я…» Пошел, наконец. В гимнастерке, без руки, с подвернутым рукавом, поджатый, обрезанный на один бок. В дверях цапнулся за косяк. Улыбался пьяненько, не хотел отпускать комнату за спиной. Махнул рукой, и как оступился в коридор… Антонина спохватилась: «Вы закусывайте, закусывайте, Константин Иванович!» – «Спасибо, Тонечка! Я – ем!» Женат, правда. Но где сейчас неженатые. После войны-то… «Тонька, горит!» – прилетело из коридора. «О-охх, извините, Константин Иванович. Я – сейчас». – «Ничего, ничего, Тонечка, действуйте!..»
Они стояли спиной к покинутой входной двери двухэтажного дома. Как ждущие выстрела, как приговоренные. Ворочалась впереди глухая октябрьская темень… Антонина повернулась. Волосы его словно светились… «Что же вы, Константин Иванович?..» – «Да знаешь, Тоня… я ведь женат… если честно…» – «Знаю», – согласно и твердо сказала Антонина, сглотнув комок. И опять спросила: «Что же вы, а?..»
Он спал без храпа. Как ангел. А Антонине все не верилось, что у мужчины могут быть такие лучистые волосы.
Приезжал он в Бирск и еще несколько раз.
Весной 48-го Антонина забеременела.
Ходила на работу в райисполком до последнего. Когда печатала – сильно ломило поясницу. Примеряла, подкладывала под себя папки. Чтоб выше как-то было. Выше. Наконец садилась. Живот, казалось ей, уже подлез к самому горлу, а оголенные руки были худы, беспомощны, малокровны. Как не ее. Как плети чьи-то…
Он появился в городке в октябре, в золотой ветреный денек. Когда Антонина увидела его – прикрывающего в приемную дверь – сердце ее упало. А он смотрел на нее во все глаза. Охватывая всю разом.
Он загнанно дышал, весь взмок. Чудные волосы его после шляпы замяло, поставило белым колтуном. Но глаза сияли. И уже стеснялись, не могли остановиться ни на чем. Он толокся возле стола, прижимая шляпу к груди. «Тоня, я ведь теперь собкором… Добился… Ты извини… Может, тебе неприятно… Понимаешь, часто бывать буду… И в Мишкино, и здесь…»
Они словно вместе несли Антонинин большой живот. Они пугливо ловили глаза встречных. Они удалялись в мокрое золото аллеи – как в икону.
Дома он осторожно держал руку на ее высоком, твердом животе и сквозь тонкий ситец халата слушал вспухающие и тут же прячущиеся пошевеливания, толчки. Этакое осторожненькое ляганьице. «Ах ты чертенок!» Крутил головой, дух переводя. Снова улыбчиво вслушивался, ждал, заперев дыхание.
А Антонина на кровати, откинувшись головой к стенке, плакала тихонько, промокала соленым платочком глаза и нос. И Иван-царевич с коврика на стене глядел на нее очами прямо-таки отборными…
2. Константин Иванович Новоселов
«…Не нужно ничего, Константин Иванович, незачем это, незачем!» – твердила и твердила Антонина, хмурясь, еле сдерживая себя. Зачем-то толкла на коленях молчащего Сашку. А тот выпускал грудь на время, недоуменно вслушивался в тряску и снова, поспешно выискав, хватал грудь ртом. «Но как же так, Тоня? Человеку четвертый месяц пошел, а ты…» Константин Иванович ходил по комнате, взволнованный, красный. На нем был выходной костюм, привезенный специально с собой и почищенный сегодня утром бензином, взятым у Коли-писателя. «Тоня, ведь я хочу этого, я. Сам… Неужели откажешь мне в этом?» – «Сама я! Сама! – чуть не кричала Антонина. – Незачем!.. Не запишут там, понимаете! Не запишут!..» – «Ну уж не-ет, извини-ите. Нет такого права… Отец я, в конце концов, или нет?»
Тоня с полными слез глазами смотрела на него, покачивая головой. Смотрела как на сына – бесталанного, жалконького. Отворачивалась, кусала губы, плакала. Он понял, что уговорил, обрадовался: «Давай, давай, Тонечка, докармливай – и одевать Сашку, да потеплей. И пошли, пошли, до конца работы успеем». – «Вы бы тогда хоть ордена надели… Раз уж так…» – «Надену, надену. Не ордена, правда. Вот планка моя. Орденская… Прихватил…»
Тоня головой потянулась к нему, он бросился, прижал, гладил мокрое лицо…
В плоской раскинувшейся комнате, похожей на вечернее пустоватое правление колхоза, холодной и продуваемой настолько, что даже стекла окон не принимали морозцу и зябли чистенько, нетронуто – у бревенчатой стены работали две делопроизводительницы. От одежд и холода встрепанные и смурные, как кочерыжки. Вдоль простенков и окон, запущенные для тепла, как на тихих посиделках стеснялись посетители. Были тут и мамаши с младенцами, и старухи, завернутые в черное, и родня с женихом и невестой.
К столам подбегала девчонка лет шестнадцати. В дедовых пимах, в бабкиной великой кацавейке. Быстро убирала, подкладывала женщинам такие же, как они, встрепанные книги. Канцелярские. Женщины, взбадривая себя, подстегиваясь, постоянно выкрикивали: «Жилкина – метрическую!.. Жилкина – смерть!.. Жилкина – на брачную!» (Казнь, что ли?)
– Следующий! – стегало то от одного, то от другого стола. И к столам торопливо подходили, присаживались на краешек стула и сразу начинали или плакать, или показывать младенца, или стоять пионом и ромашкой в трепетно радующемся букетике родни.
– Следующий!
И опять быстрая пересменка у стола, и: или слезы в горький платок, или младенец, или пион и ромашка. Жилкина металась, меняла, подкладывала книги…
Раздевшись в ледяном коридоре, быстро накидав расческой копну из чудных своих волос, одернув пиджак с орденской колодкой, Константин Иванович принял младенца и сказал Антонине «сиди!» Широко распахнул дверь, как сделал глубокий вдох, и с сынам на руках пошагал в комнату. И вошел в нее – точно отчаянный вестник, как всё разъясняющий момент пьесы, после которого зрителям только ахнуть: вон в чем дело было, оказывается! Вот да-а…
– Почему дед принес? Где родители? – строго спросила у девчонки одна из кочерыжек. Как будто та – в ответе. Жилкина, раскрыв рот, воззрилась на Константина Ивановича: да, почему?
– А я и есть родитель! А я и есть отец! – по-прежнему отчаянно объявлял Константин Иванович. – А это… и есть мой сын! – Он поднял, повернул всем сверток, в окошечке которого виднелся насупленный недовольный Сашка. – Так что… прошу, как положено!
Он подошел к столу. Без приглашения сел. Поправил в кружевной дырке. Вытаращенным глазом Сашке подмигнул. Тот даже не пикнул.
– Где… мамаша? – поперхнулась делопроизводительница.
– Там… – мотнул головой Константин Иванович. – В коридоре… Позовите…
– Жилкина!
Жилкина побежала.
Антонина шла к столу, роняя и подхватывая одежду Константина Ивановича. Шапку его, полупальто, шарф. На стул так и села с ворохом одежды.
– Вот… Она… – опять мотнул головой Константин Иванович. Точно в сторону просто присоседившихся. Которых пока что приходится терпеть.
Выкинул на стол паспорта, справку из роддома. Небрежно. Будто козырными раскрыл.
– Так и запишѝте: отец – Новоселов Константин Иванович!.. Ну и ее… – снова кивок головой в сторону, – припишите… – И затолок заоравшего наконец-то Сашку. А Антонина смотрела на мужа и только чуть руки над ворохом одежды подымала: каков!
Делопроизводительница… словно с удовлетворением вернулась в себя (все понятно), выползла из одежд на стол, приготовилась писать и с выглаженностью змеи в движениях… спросила:
– Как назовем младенчика?
– «Как»… Сашкой его зовут… Давно уже… – Константин Иванович хмурился – Александром Константиновичем… Так и запишите!..
3. Детская коляска
Вытирая влажной тряпкой подоконник, Антонина глянула на улицу и сердце ее упало: Константин Иванович ворочал в канаве, выталкивал на тротуар здоровенную детскую коляску. Прямо-таки колесницу с чугунными колесами. Сваренную из листового железа. Колесница капризничала, упершись передним колесом в кирпич. Константин Иванович разворачивал ее, выдергивал.
Громыхал с нею на лестнице. Ввалил ее, наконец, через порог болтающуюся.
– Вот, Тоня, – Сашке… Здравствуй, родная…
– Да как вы ее в автобус-то втащили?!
– Да уж втащил… Хорошая коляска. Надежная… – Колесница от перенесенного беспокойства подрагивала. В руки она, верно, Константину Ивановичу по-настоящему так и не далась. Ни габаритами своими, ни весом. – Сварщик постарался. Знакомый…
Опробовать ее, конечно, мог только Константин Иванович сам.
В коляске на колдобистой мостовой Сашку трясло, подкидывало как в лихорадке. Но, перепуганный, он молчал. Два раза был круто обдат пылью от пролетевших грузовиков. И тогда уж с полным основанием заорал. Константин Иванович решил держать ближе к обочине, но и там подкидывало и встряхивало. Пришлось выбираться через канаву на тротуар. А тротуар разве сравнишь с мостовой? Где все широко, открыто? Где тебя видно за версту? Да ладно, и здесь ничего.
Со сметаной, с творогом, с берестяными ведрами на коромыслах к базару трусили старухи-марийки. В лаптях, в национальных кафтанчиках, подбитых короткими пышными юбками – узкоплечие как девчонки.
Сразу окружили коляску, отпихнув Константина Ивановича в сторонку. Смеялись над онемевшим Сашкой, играли ему сохлыми пальцами, точно коричневыми погремушками.
Константин Иванович смеялся. Марийки начинали одаривать его, отказывающегося, руки к груди прикладывающего, полбаночкой сметаны. Уже налитой. Кидали жменьку-другую творогу в тряпочку. В чистую. Завязывали узелком. «Пожалиста!» И поворачивали ведра и коромысла. И поторапливались дальше. И ноги худые их в шерстяных разноцветных чулках откидывались пружинно назад – по-кобыльи… Константин Иванович вертел в руках баночку, творог, не знал куда деть. Пристроил к Сашке, в коляску. Повел ее дальше.
Ну и встретился, наконец, свой, можно сказать, родной, райисполкомовский. Им оказался Конкин. Инструктор Конкин. Словно держал его Константин Иванович, как вышел из дому, на задворках сознания, не пускал на волю, загонял, заталкивал, запинывал обратно. Но вот – выскочил-таки. Освободился. Подходил. Забыто размазав улыбку. Глаза его торопливо восторгались. Будто видели интимное, женское, тайное. Ноги забывали, куда и как ступать…
– И не боишься – жена узнает?.. – Стоял. Вывертогубый. Утрированный. Как поцелуй.
– А! – смеясь, махал рукой Константин Иванович. – Бог не выдаст – свинья не съест!
– Ну-ну! Смотри-смотри!..
Конкин спячивался. Конкин уходил, вывернутой скользя улыбкой…
И еще нескольких раз выводил коляску с Сашкой на улицу Константин Иванович. И опять бежали с коромыслами и берестяными ведрами марийки. И окружали они колесницу, и радовались, и смеялись, и головки их метались над младенцем как пересохший мак… И оставляли потом отбивающемуся отцу баночки и жменьки в чистых тряпочках. И дальше бежали к базару, по-лошадиному откидывая ноги назад…
Они вошли в приемную втроем: сам Чалмышев, Конкин с папкой и какой-то незнакомый мужчина, который сразу с интересом стал рассматривать Антонину. Точно давно и много был о ней наслышан.
Антонина начала подниматься из-за стола. Спорхнул, метнулся под ноги мужчинам белый лист. Чалмышев нагнулся, поднял его, положил обратно на стол. Взял мужчину за локоть, увел в кабинет. Вернулся один. Трудно, тяжело объяснял все Антонине…
– Но почему? за что? в чем он виноват? В чем мы виноваты?!
– Прости, Антонина. Я тут ни при чем… Стукнул кто-то… Видимо, жене… Та – на работу… Сама знаешь, как это бывает…
Конкин-инструктор стоял в сторонке. Раскрытую в руках папку изучал уважительно. Как партитуру жизни. Вывернутые улыбки его стеснялись на лице. Будто окалина. Плюнь, и зашипят.
За Чалмышевым пропадал в двери на цыпочках, дверь закрывал от убитой Антонины тихонько, деликатно, нисколечко не скрипнув ею.
В пыльнике, сутулясь, сидел Константин Иванович на табуретке. У ног его разъехалась сетка с привезенными из Уфы, забытыми сейчас продуктами. Где, несмотря ни на что, главенствовал над всем хорошо откормленный смеющийся младенец. Нарисованный на белой чистой коробке.
– …Ну подумаешь, Тоня. Ну убрали от дела. Ну посадили на письма. Ну билет отберут… Так что – жизнь кончится?.. Пошли они все к дьяволу, Тоня… Живем ведь…
Антонина отворачивалась, кусала губы. Посматривала на него. Опять как на бесталанного, жалконького, как на несчастного своего ребенка, сына. Плакала.
– Ну, Тоня… Не надо… Живем ведь… Не надо… Прости…
Ладошками Антонина перехватывала свой натужный стон, пугаясь его, раскачивалась, удерживала, не выпускала. Глаза ее не могли вместить всего, что будет с ней, что будет с сыном ее, что будет с Константином Ивановичем. Глаза метались, мучились, полные слез.
– Не надо, Тоня… Прошу…
В кроватке у стены спящий Сашка сладко плавил, завязывал губами бантики.
4. Папаша Куилос и тетка Гретхен
Над весенним греющимся огородом падала первая бабочка. Тяжело побежал Сашка за ней по вскопанному, сдергивая кепку. Упал, пытаясь зацепить, прихлопнуть. Бабочка взвилась, зашвыряла себя из стороны в сторону высоко. И оставшийся на коленях Сашка, раскрыв рот, смотрел, как она закидывала себя выше, выше. И там, на высоте, в безопасности, снова выплясывала, падала.
Слышались со двора голоса мамы и тети Кали. Привычно ныл где-то там понизу Колька. «Ну чего тебе! чего! горе мое!» – вскрикивала тетя Каля и опять продолжала спокойно говорить с сестрой. «Чего тебе, я спрашиваю! Чего!» Голос Кольки ныл давно. Как похороны. «Ы-ы-ы-ы-ы!»
«Ныло!» – сказал Сашка, уже следя за жуком. Черный жук-рогач сердито путался в комочках земли. Сашка приложился щекой к теплым комочкам – вся земля стала в небе. И жук медленно переворачивал ее лапами… Сашка хотел крикнуть Кольку, но позвали в дом. Второй раз уже.
Удвинутые узким пустым столом к залезшему свету окна Сашка и Колька ели хлеб, намазанный повидлом. Запивали молоком. Кружки были высокие. Как уши. Удерживали ручки их в кулачках.
С другого конца стола, подпершись ладонями, Антонина и Калерия любовались, сравнивали. Просвеченный Сашкин чуб стоял как лес. Колькина голова стриженая – была стесанной, пришибленной какой-то. «Зачем остригла-то?» – «Волос слабый… Вон он – родитель-то… Одно слово – Шумиха… Чего уж тут?..» – вздыхала скорбно тетя Каля.
Сашка смотрел на стену, на дядю Сашу, своего тезку и Колькиного отца. Даже на фотографии у него пробеливала лысина в размазавшихся кудрях. И гармошку виновато развернул на коленях… «На баб весь волос извел», – опять вздыхала тетя Каля. Сашка раскрыл рот – как это? Но мать сразу замяла все (умеет она это делать!), расспрашивая уже, когда приедет он, гость-то с Севера, ждут ли его тетя Каля и Колька. И тетя Каля сразу закричала, что на кой черт им сдался, гость этот с Севера! Опять гармошки, сапожки, пляски его! Опять стыдобища на весь город!.. Да пошел он к черту! Да и не ждут они его вовсе. Колька, ведь верно – не ждем?
– Ждем… – виновато взглянул на отца на стенке Колька. Продолжил жевать. Тетя Каля накинулась на Кольку.
– А чиво-о-о? – сразу загундел Колька. – Сама говорила-а.
Может Колька реветь. Мастер. Проревелся. Будто малёк в слёзках – сидит-вздыхает. Прямо жалко смотреть. Тетя Каля его фартуком. Как ляльку. Сморкнулся с облегчением. И дальше жует, точно и не было ничего. Может. Чего говорить.
А тетя Каля, опять подпершись ладошками, говорила уже нараспев:
– Эх, Тонька, дуры мы с тобой, дуры несчастные. Где только таких гостей-кобелей откопали, прости господи! Один – на Севере, другой – в соседнем городе…
Сашка видел, как мать сразу нахмурилась. Стала торопить его, чтоб поставил он, наконец, кружку. Хватит дуть! хватит! Домой пошли!..
Чубы Сашки и Константина Ивановича были одинаковыми – густо свúтыми. Только отца чуб стоял, белым костром бил, чуб Сашки – стремился вперед, как навес, как крыша сарайки. Когда Калерия видела эти чубы вместе – шли ли те чубы мимо ее дома на рыбалку, ходили ли по ее огороду – говорила покорно, соглашаясь с Судьбой: «Чего уж… Одна порода… Пермяки…»
Антонина останавливала колоб теста на омучнённой доске. Ждала. «Почему пермяки?»
– Да пермяк он! Пермяк! – нисколько не смущаясь, что Константин Иванович услышит, кричала Калерия. (У Калерии, когда ехала на целину, в Перми сперли чемодан.) – Неужто не видно? А?..
Антонина подходила, закрывала окошко.
Пельменное тесто попискивало, было готово, но Антонина мяла, мяла его, отмахивая лезущую прядь со лба оголенной сильной рукой. Окидывала мукой колоб. Мяла. Отвернув лицо от сестры…
– Ну ладно уж, Тонька, ладно тебе… – винилась Калерия. Поглядывала в окно.
Ничего не подозревая, чубы покачивались поверх ограды.
В своем дворе Сашка опять тарахтел с кирпичом у крыльца Аллы Романовны. Алла Романовна точно только и ждала, чтоб он затарахтел – сразу появлялась на крыльце. С прической, как с болтающимися собачьими ушами, с выгнутым носиком – натуральный пудель Артемон из Сашкиной детской книжки. Да еще помпоны белые на теплых тапочках. «Иди, иди, мальчик! Сколько раз тебе говорить! У своего крыльца играй!» И словно не половичок просто вытряхивала, а Сашку с этого половика отрясала. Как блоху какую. Брезгливо. Капризно.
Упрямый, Сашка отползал чуть. Возил кирпич. Как детство свое. Стоеросовый – ждал продолжения.
Видела, что ли, мать, слышала ли – тоже выходила. Не глядя на Аллу Романовну, баюкала ступку с пестом. «Саша, иди сюда!» Сашка упрямо пошевеливал кирпич на том же месте. Он, Сашка, был центром сейчас, точкой, поверх которой, не видя ее, говорили с двух сторон: «Кому сказала!» – «Да пусть играет, пусть! – спешила разрешить Алла Романовна. – Мне разве жалко?.. А хочешь, я тебе конфетку дам? А, Сашенька?..» – «Мальчик не хочет конфетки», – мстительно отвечал Сашка, буксуя кирпичом.
В воротах показывалась близорукая голова Коли-писателя, мужа Аллы Романовны. Все трое во дворе сразу налаживались своими дорогами: Тоня уходила в подъезд, мельком кивнув Коле; половички зло подхватывались Аллой Романовной и уносились; неизвестно куда забурóвил с кирпичом Сашка.
Коля посмеивался. Ничего не понимал. В толстых стеклах очков словно плавали голубые недоумевающие осьминоги. Шел за своей Аллой в дом, на второй этаж. Однорукий, с подвернутым рукавом белой рубашки.
Раза два, когда Аллы Романовны не было дома, Сашка приводил брата Кольку посмотреть, как дядя Коля печатает на машинке. А печатал он – будто дровосеком в жутком лесу просекался. Одной своей – левой рукой. Лицо его говорило: не прорубится вот сейчас – всё, погибнет. Лес задавит. Однако когда прорубался – откидывался от машинки, ерошил светлые волосы. А глаза плавали в очках довольные, умиротворенные. Как к машинке – будто в жуткий лес. И замахались топоры!..
Когда прикуривал, ловко выдергивал огонь нескольких спичек прямо из кармана. Поворачивался к ребятишкам – как факир в факеле. Таинственно подмигивал. Сашка и Колька уже знали эту шутку – смеялись.
Всегда давал ребятишкам по большой помытой морковине. (Морковки он ел для глаз. Полно их было у него. Морковок.) Из табачного дыма выводил во двор, на воздух. Сам садился на ступеньки крыльца. Сочинять стихи в огромный блокнот, свесив его с колена. И сочинял он в него – тоже левой рукой!
Коновозчик Мылов, подпрягая, дергал лошаденку в оглоблях, косился, будто дикóй конь. «Ишь, как китаец пишет, паразит!»
Дядя Коля ему подмигивал. Мылов стегал лошадь так, что удергивался сразу за ворота. Только вохровский картуз успевал мелькнуть.
Дядя Коля странно ходил по улицам. Как будто пол проверял. На прочность. Провалится или нет. Но – где-то внутри себя… В таком состоянии часто проходил мимо дома…
На лавке у ворот ссиливал нутрецо и бросал нутрецо Мылов – пьяный: «Порченый, н-назад! Куда пошел! Н-назад, я тебе приказываю! Вот твои ворота! Марш в свои ворота! Кому сказал!»
Дядя Коля, смеясь, подходил. Приобняв Сашку одной своей рукой, с улыбкой ждал от Мылова еще чего-нибудь. Этакого же. А? Мылов? Давай! Но Мылов ничего уже не видел. В глазах его, как в капсулах, засела окружающая изломанная жизнь. Был пуст, как небо, околыш вохровского взгроможденного картуза… «Выпил человек маненько, – со смехом уводил во двор Сашку дядя Коля. – Маненько засандалил…»
Приезжал на день-два Константин Иванович, отец Сашки. В такие дни Сашка и Колька ели мороженое и пили газировку от пуза.
Каждые десять-пятнадцать минут Сашка колотил пяткой в закрытую изнутри дверь. В нетерпении Колька рядом переступал тоже голыми пыльными ножонками.
Открывала всегда мать, запахивая халат, посмеиваясь. С просыпанными волосами – не очень даже узнаваемая Сашкой. И приподымался на кровати отец:
– Что, уже?..
– Да! – радостно кричал Колька. – Мы еще быстрее можем!..
Мать сразу отворачивалась к окну, то ли скрывала смех, то ли просто волосы расчесывала… А отец тянулся за брюками. И тоже вроде как укрывался от глаз ребят…
Бежали к мороженому и газировке на углу. Чтобы скорей вернуться…
– Да дайте вы им сразу! – хохотала Антонина с закинувшейся головой, с которой проливались волосы как выкунившийся блёсткий мех. – Сразу! Ха-ха-ха!.. – Но Константин Иванович говорил, что нельзя. Обсчитают. Вышаривал мелочь по карманам. – Ой, не могу! Уморит! – Антонина ходила, со смеху умирала. Дал все же три рубля. (Старыми.) Мало было мелочи. Но долго наставлял, сколько должно остаться, если, к примеру, по стакану и по мороженому. По одному. Или, к примеру, когда заказываешь по две газировки и мороженому, то должно остаться… «А если с двойным сиропом?» – хитро прищуривался Колька. Константин Иванович поворачивался к Антонине. Та вообще падала на стол… Смеялись за компанию и ребятишки.
В тесном скученном парке Сашке и Кольке казалось, что они находятся в провальном лесу. Лежали на траве раскинувшись, смотрели, как деревья подметают небо. Животики вздувало, пучило. Под качающимся шумливым многолистьем засыпали.
Константин Иванович тоже уже лупил глаза, готовый провалиться в сон. Антонина, пальчиком выводя на груди его извечные, лукавые женские вензеля, внутренне смеясь этой своей раскрывшейся способности – спрашивала: «Костя, ты в Перми когда-нибудь был?» – «Был. Проездом. А что?» Антонина сразу начинала душить в подушке смех. Ничего не понимая, Константин Иванович только подхихикивал. Дергал ее: ну что? что? что такое? «А у тебя там чемодан, случайно, не свистнули? Ха-ха-ха!» – «Какой чемодан? Когда?» – «Ой, не могу…»
Покручивал головой муж и, верно, думал, не много ли на сегодня смеху-то. А?..
Подвязанный набитым ватой платком, Колька сидел в кроватке грустный, склизкоглазый, как малёк.
– Чего же ты?.. – спросил Сашка.
– Анхина… – разлепил голос Колька.
Помолчали. Посопели.
– Говорил, – пятое не ешь…
– Да, не надо было…
Взобравшись коленками, стояли столбиками на лавке у стола, рассматривали Альбом. С пасмурных листов смотрели родственники. Когда по одному, когда – скопом. Некоторые улыбались. Были тут и цветные открытки. Одна открытка Сашке была незнакома. Новая, тоже цветная.
– Папка прислал, – пояснил Колька. – Иноземная. Немецкий комический танец – название.
В немецком комическом танце тетенька выставилась спиной так, что открылись у нее полосатые панталоны. Как в тельняшке руками вниз была тетенька.
– Морские… – с уважением сказал Колька. Имея в виду панталоны. Точно. И пальчиком грозит дяденьке. Будто девочка она. В детском саду выступает. На утреннике.
А дяденька упер руки в бока. Он танцует перед тетенькой. Высоко подкидывает голые коленки. Он в шляпе с пером, в коротких штанишках и толстых гетрах. Он розовый, как боров. В усато-радостных зубах у него – трубочка.
– Он – кто?
– Папаша Куилос.
– А это что у него?
– Это подтяжки Папаши Куилоса.
– А-а… Шкодный, верно?
– Ага. Очень шкодный…
На оборотной стороне открытки явно пьяной рукой было начертано: «Колька! Это – Папаша Куилос и тетка Гретхен. Слушайся их, мерзавец!»
С любовью вставил Колька открытку обратно в прорези листа. Разгладил. Сказал во второй раз:
– Папка прислал…
Потом пришла тетя Каля и начала ругать Кольку и далекого дядю Сашу с его дурацкой открыткой, отосланной домой под пьяную руку.
А вечером – отогнанный, упрямый – опять отползал Сашка с кирпичом от крыльца Аллы Романовны. Кирпич недовольно возил в нейтральной зоне. Прослушивал перелетающее над головой:
…Надо же! Это, говорит, машина у меня! Хи-хи-хи! Какой милый мальчик!..





