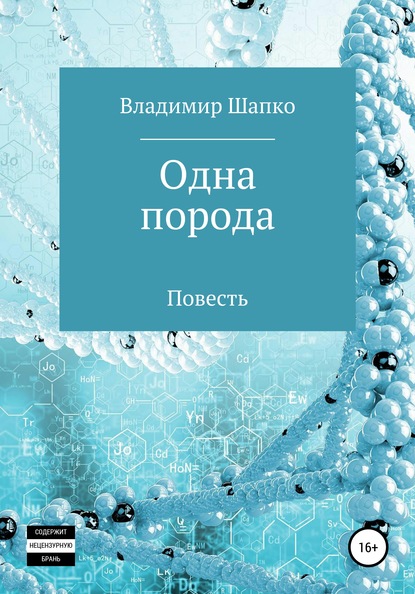Полная версия
Полная версияПолная версия:
Владимир Шапко Запечный таракан
- + Увеличить шрифт
- - Уменьшить шрифт

1
После смерти жены – пил. Пьянством проталкивал дни, недели. По утрам, ощупывая вылезшую щетину, удивлялся её жёсткости. Вяло разводил мыло, брился. Потом снова сдёргивал день, как сдёргивают вместе шторы, до следующего утра, до следующего ощупывания колючего подбородка. Иногда говорил в пивной, отпивая из кружки: «Когда пьёшь – борода сильнее растёт. Раз в пять быстрее, чем у трезвого». Через час-полтора сползал под мраморный столик и висел там, обняв железную корзину прутьев. Селиванов поднимал его с пола, волок домой.
Утром смотрел опять в зеркало на столе. Всклоченный, дикий. Снова разводил мыло в чашке.
Сестра приходила через день. Сразу начинала ругать. Требовала отдать сберкнижку ей. «Пропьёшь ведь все деньги! Дурак!» Водил станком по вздрагивающей заячьей щеке. Сестра грохала дверью.
Когда выходил сам, старухи на лавочке разом надувались. Уводили глаза, боясь задохнуться от возмущения. «Опять весь наглаженный! – оставалось за спиной. – Как ни в чём не бывало! Зато вчера был ни тяти ни мамы».
В сберкассе ручка не слушалась. Плясала. Чёрт! Кое-как заполнил бланк. Единожды глянув, кассирша больше на вкладчика не смотрела. Её ручка – зло дёргалась. Шестимесячная завивка тряслась бубенчиком. Пора, наверное, перекочевать на Советскую. В ту сберкассу. А то вон, лопнет сейчас от злости. С червонцем выходил на улицу.
Стоял. Думал. С большой, как кубок, головой. Солнце жгло. В стекле гастронома переливались стеклянные люди.
2
Лето 74-го года Ивану Чечину запомнилось хорошо. Семнадцатилетним мальчишкой он ездил поступать в Уфу в индустриальный, а потом в первый раз вышел над городом с позывным: «Говорит радиостанция «Светоч»».
В техникуме Ваня уважительно посидел двадцать пять минут перед чистым листом бумаги, на котором в правом верхнем углу был поставлен чернильный штампик «экзамены», и поехал автобусом назад, домой, в Октябрьск.
В то лето горели леса, пересыхали озёра, солнце днём затягивало серым зольным дымом. Листья летящих мимо деревьев с обеих сторон шоссе свисали серые, все в белых пятнах, будто обгаженные птицами. В автобусе был ад. Пассажиры не знали, чем уже на себя махать. Однако Ваня потихоньку посмеивался, поглядывая в окно. Стеснялся сказать девушке-соседке, что рядом с автобусом бежит лось. Танцующей размашистой иноходью. Вот смешно!
Автобус вдруг резко затормозил. Все вскочили, завытягивали шеи. «Что? Что такое? Вон, вон! Лось!» Лось стоял прямо перед раскрытым работающим мотором. Стоял с угрозой, наклонив рога, расставив передние ноги. С губ срывалась пена. От жары, от жажды лось сошёл с ума. Лось был сумасшедшим! Шофер посигналил, пугнул. Животное вяло метнулось с шоссе, пошло ломать белый высохший подлесок. Кидая танцующие ноги вперед, убегало в обгаженный лес. Автобус тронулся.
Ваня про девушку рядом забыл. Всю оставшуюся дорогу трудно думал, наклонив большую свою голову с жёлтыми прямыми волосами. «Лось на дороге. Погибающие деревья. Мутный, придавивший всё мир над головой». И только когда открылся вдали печёный закат над чёрными нефтяными качалками, мотающимися перед городом – опять стал потихоньку поглядывать на соседку. У девушки была капризная нижняя губа и вздёрнутые две мётлы светлых волос. Ваня хотел ей сказать что-нибудь завлекательное, но так и не решился. Он не мог знать тогда, что в той поездке рядом с ним сидела, хмурилась его будущая жена.
3
Геометрически чётко стояли в начале Проспекта две послевоенные сталинские голубятни с маленькими окошками, узорами и шпилями. За ними двумя тяжёлыми шпалерами построились пятиэтажные дома. Ждали генералиссимуса. Ковровая дорожка цветов была раскатана до самого горизонта. Чечин сидел на скамье, вытирал с лица пот, посматривал на цветы, ждал всего лишь Селиванова. Селиванов будто с неба упал: «Говорил ведь, – не звони: Зойка ругается!» Пропустив пару машин, заспешили через дорогу.
Утренняя, ещё пустая пивная за стеклом напоминала мутную подводную лодку в разрезе. Ровно в десять открыли дверь (боковой люк), и с улицы было видно, как по всей подлодке разбегаются тонконогие расторопные подводники. Спешно занимают боевые места. Кто уже с кружками, кто пока без. Чечину и Селиванову достался высокий столик перед стеклом с уличной панорамой. Чуть погодя вокруг началась опохмелившаяся, вновь расторможенная болтовня алкашей. Болтовня второго, можно сказать, дыхания. Подсучивая солоделые бледные ручки, алкаши стукались кружками.
Чечин по-прежнему сильно потел, поминутно вытирался платком. Длинные жёлтые волосы его были мокры. «Может, хватит тебе, Иван? Ведь кончишься так». Геннадий Селиванов приложился к кружке. «Уйдёшь вслед за Верой». Смотрел на друга. Костюм Чечина был как всегда почищен и отглажен. Правда, из расстёгнутого пиджака с майки смотрел туманный скол революционера в берете, не вяжущийся как-то с выходным костюмом, но это – слабость Чечина. Давнишняя слабость. А, Альберт Че? Может, хватит тебе пить?
Когда они вдвоем после десятого класса смастырили первую свою шарманку, Ваня вышел в эфир с непонятными словами: «Говорит Альберт Че!». Так и сказал гордо. Почему Че? Кто такой Альберт Че? Услышав этот непонятный позывной в своей «Спидоле», Генка выскочил из дома и побежал в соседний двор. В сарай к Ваньке. Почему?
– Это революционер такой, – встал и потупился ведущий передачи. С наушниками на голове. – На Кубе живёт. Че Гевара. – Снова присел к торчливым мерцающим лампам и проводам шарманки.
Ах вон оно что! Примазался! Так, может, лучше будет «Ванька Че?» А? Революционер кубинский?
Селиванов глотнул пива. Из сумрака смотрел на свет улицы. Неужели придётся опять тащить? Вот так отпуск у меня в этом году. Вон, соль пытается громоздить на кружку. Руки – ходуном. Ну-ка дай сюда! Сам обсыпал край. На! Снова смотрел на идущих за стеклом людей. Правильно Людмила Петровна говорила про внука – таракан запечный! Двадцать лет не могли женить. После тюрьмы кого только ни приводили к нему. Как к кобельку-импотенту. И всё мордочку воротил. Зато теперь – погибает. Да, жалко Веру. Хорошая была баба.
Выпив ерша, Чечин стал понемногу в себя приходить. Большой лоб его разгладился, зачёсанные назад волосы начали подсыхать. Даже заговорил: «О чём думаешь, Гена?» – «Да всё о том же, – как ты на вахту полетишь. Через четыре дня. С такой рожей». – «Я никуда больше не полечу, Гена. – Чечин отпил: – Попрошусь к Зарипову. На текущий ремонт к его балалайкам. Их у него семь штук стоит-качается перед городом».
Селиванов отставил кружку. Чечину осталось три года до пенсии. С выслугой, с северным коэффициентом!
– Ты совсем сдурел, Иван? На двести рублей пойдёшь? После твоих тысяч?
Чечин молчал.
– Да ты же пропадёшь здесь! Сопьешься в своей квартире! Разве можно тебе сейчас жить в ней! После смерти Веры? Тебе же надо сменить всё! Сидеть на Севере год! Два! Безвылазно!
– Я перееду в бабушкин дом. А сестра в мою двухкомнатную.
Смотри-ка, всё уже решил. Только когда? Ведь пил беспробудно три недели.
Напротив пивной остановилась машина с глухим свинцовым фургоном и красным крестом на нём. От входа по залу уже шли две внимательные фуражки. По мере их приближения алкашей приподнимало возле столиков и опускало. Как будто от большой волны. Фуражки ушли обратно в дверь. Машина тронулась от пивной дальше. Чтобы прийти в себя, алкоголики разом заперчили мерзавчиками кружки. Мерзавчик Чечина исчез со стола непонятно когда и куда. Костюм Чечина нигде не оттопыривался. Селиванов понемногу отпивал, удивлялся.
В 76-ом из-за упорных шарманок Альберта Че посадили. Сам Селиванов с позывным «Директор кладбища» спасся в армии. (Он был на год старше Чечина.) Уже дембельнувшись, приезжал два раза к другу на свидание. В колонию в Читинской области. Большая остриженная голова Вани походила на туман. Он больше чем обычно задумывался. Бабушка Ваньки, Людмила Петровна, долго сердилась на Селиванова. Проходя мимо, не здоровалась. Селиванов тоже уводил глаза в сторону. Чувствовал себя виноватым. Хотя бывшую учительницу можно было понять: внук её валит лес в Читинской области, а этот… «Директор кладбища» учится уже в институте. В нефтяном! Только когда Иван вернулся, как-то отошла.
– Ну так как, Геннадий? Стоит мне обращаться к Зарипову? Ты в одном Управлении с ним сидишь. Может быть, узнаешь – что и как?
Селиванов, казалось, не слышал друга. Облокотясь на столешницу, на истёртый подошвами белый обод поставив ногу, опять смотрел на улицу. Весь джинсовый, тощий и широкоплечий как горец. За пятнадцать лет работы на промыслах Ваня так и не дорос до ранга бурильщика. Да, видимо, и не хотел. До сегодняшнего дня остался помбуром с 4-ым разрядом на скважинах первой категории. Зарипов правильный мужик, но возьмёт ли сейчас сюда в Октябрьск? Даже на текущий ремонт? Когда своих сокращает? Хотя ещё в Тюменской области у него оба и начинали когда-то. Вся в высоких радугах мимо проехала поливалка. Точно такая же высоко поливала цветник с противоположной стороны улицы. Громогласный Зарипов часто кричал: «Где этот Задумчивый? Куда опять подевался?» Хотя работу Иван всегда делал быстро и чётко. Быстро делал так называемый рейс: менял буровое долото и вновь возвращал в скважину. «Молодец, Задумчивый!» – кричал Зарипов и врубал вертлюг. Нередко из хохочущего вечернего вагончика Ваня раздетым выходил на весенний терпкий воздух. Стоял и думал. Как всегда. Запустив в большую свою башку и стелющийся закат, и чёрные, торчащие вкривь-вкось палки весенней лесотундры. Кто создал этот чудный мир вокруг? Бог? Есть ил Он? Видел ли кто Его? «Где Задумчивый? – вспоминал вдруг вездесущий Зарипов. И хохотал: – Наденьте на него шапку, а то застудит свой казан!» Ваню находили, надевали шапку, вели в вагончик.
Селиванов вздохнул, взял кружки, пошёл к буфету. Наливая пиво, буфетчица жевала жвачку. Двигались бесцветные коровьи губы. За спиной её из кассетника еле слышно доносилась гениальная песня:
Осень, в не-бе жгут ко-ра-бли-и,
Мне бы, мне бы прочь от зем-ли-и.
Там, где в мо-оре тонет печа-аль,
Осень – тёмная да-а-аль…
4
В 72-ом году учительница зоологии Чечина Людмила Петровна, уже пенсионерка на то время, решила из школы уйти совсем. Милых деток больше не учить. «Я боюсь пукнуть в классе. На уроке», – сказала она Голдиной Вере Георгиевне, завучу.
Голдина, тоже уже пожилая, нахмурилась. «Я тебя понимаю, Люда». Взяла перьевую ручку, макнула и написала на заявлении: «Согласна. Голдина».
В доме у себя на улице Восточной Людмила Петровна высоко раскинула руки и воскликнула: «Свободна!» И громко пукнула. Благо внук и внучка были в школе. В той самой школе, которую она только что покинула. (Вариант) Несколько смутилась, обернулась даже. Но внук и внучка были в школе. В той самой школе, которую она только что покинула.)
Уже на другой день она привела двух нераздоенных коз. Раздаивала их во дворе, усевшись на бревёшко. От Селивановых всё время выглядывал молодой козёл Коля. С крыши их сарайки. С бородкой как девичье менархе. «Пошёл!» – махала ему Людмила Петровна. Козёл на время исчезал. И вновь появлялся. Третьеклассница Женька и пятиклассник Ваня стояли, застенчиво поматывая портфелями. Впереди себя. Не узнавали бабушку и двор. «Да идите сюда! Не бойтесь! Они не бодаются!» Связанные вместе, козы, как две сестры, безвольно поталкивали друг дружку, поочередно дёргаемые снизу за сосцы Людмилой Петровной.
«Ну как, нравится козье молоко?» – спросила она у детей в доме. Женька, оторвавшись от кружки, только сладко зажмурилась. С белыми усишками, как кошка. Слов у неё не было. Но Ваня, даже не допив, ушёл к себе в закуток. К своим микросхемам, транзисторам и паяльникам. Чуть погодя оттуда потащило канифолью. «Иди на улицу. Таракан запечный! – с досадой говорила бабушка. – Хоть к Генке сходи!» Внук не отвечал.
К самой Чечиной регулярно, раз в месяц, приходил Посачилин. Ветеран войны. С коромысловой ногой и стеклянным глазом. Однако приходил он всегда почему-то только тогда, когда боевой подруги не бывало дома. По норме, как мужским одеколоном, от него попахивало спиртным. Сразу требовал у внуков Люды листок бумаги и ручку.
За столом подробно писал обо всём, что случилось с ним, Посачилиным, за месяц, пока его не было здесь, в этом доме. В конце письма размашистыми росчерками, не отрывая от бумаги ручки, чертил большого голубя с письмишком в клюве, больше похожего на курицу, и расписывался. Всегда одинаково: «Твой Зайка безбашенный!» Сворачивал листок и, свирепо выкатив свой стеклянный глаз, говорил маленькой Женьке: «Надеюсь, между нами. Передашь!» И удёргивал за собой коромысловую ногу.
Вернувшаяся из города Людмила Петровна заходилась в смехе. Однако поглядывала потом на хихикающих внука и внучку немного виновато.
Вечером, как всегда, доила коз. Молодой козёл Коля всё выглядывал. (От Селивановых.) Со своей измазанной бородкой. «Бе-е-е-е-е-е!» – набивался на знакомство. Козы-сёстры на жениха не смотрели. Бойко выстригали сочную траву из рук брата и сестры.
Всегда осенью в отпуск с Севера приезжал сын Николай, отец Женьки и Вани. Приезжал всегда шумно, с подарками, как будто даже с привезёнными с собой гостями, которые орали песни в доме и мычали во дворе дня три.
Детей своих стеснялся, а выпив, слабо узнавал. Потом с разбитной Галькой Лаховой, местной, улетал на Юг, оставив матери и своим детям тысячи две, три. До следующего года.
Людмила Петровна плакала. По ночам покачивалась на стуле, сидя возле спящего внука с такой же большой, как и у Николая, головой.
Мать свою Ваня Чечин совсем не помнил. Ему было чуть больше двух лет, когда она умерла. И осталось от неё только какое-то серое большое пятно, всегда встающее перед глазами, когда пытался представить её. Но он почему-то хорошо запомнил большого дядьку с большой головой. Дядька этот ходил по комнате и громко, как бегемот, рыдал. Это был, как потом рассказала бабушка, отец. А рыдал он сразу после смерти жены Елизаветы. Смерти от родов. После которых осталась Женька. Живая.
С фотографии со стены на Ваню всё детство смотрела печальная женщина, отрешённо, как во сне, заплетающая косу.
После колонии, когда сын вернулся в Октябрьск, отец позвонил. Велел приехать в Сургут. К тому времени он стал на Севере большим начальником. Воткнул непутёвого сына в местный нефтяной техникум. Жил Иван в общежитии. Видел отца не часто. Запомнились два его дня рождения. А один раз был у него на Первое мая. Новая жена отца имела постоянно обиженное лицо и высокую бобину волос над куцым лбом. Ваня чувствовал её неприязнь. Но малолетние дети отца (опять брат и сестра!) после баловства с Ваней в гостиной всегда висли потом на нём в прихожей. Висели как на березе, долго не отпускали.
Техникум Иван закончил с грехом пополам в 80-ом году. В аэропорту Сургута, прощаясь в буфете, отец трудно сказал сыну: «Будь… сильным, Ваня». И неожиданно заплакал. Зарыдал. Громко, не скрываясь. Точно так же как когда-то по умершей жене.
Чечин смотрел со второго этажа аэровокзала, как тяжёлый грузный мужчина садился в чёрную «Волгу». В засалившейся дубленке, с большой, уже плешивой головой. Больше отца своего Чечин не видел. Тот через полгода умер.
На вечернем красном кладбище чёрная Людмила Петровна на опоздавшего внука падала. Внук осторожно вёл её к ждущим машинам. Жена отца, тоже вся в чёрном, обиженно бычила голову в сторону.
5
Опять приходила сестра Евгения. Гнала к Зарипову договариваться заранее о работе. Не ждать трудовую. (Когда её ещё к чёрту пришлют!) Все октябрьские вот-вот хлынут с Севера. Уже идут везде сокращения. Чего сидишь? Бизнесменом хочешь стать? С китайскими плащами-пиджаками до неба?
Чечин не сидел. Чечин стоя чистил картошку. В цветном чистом фартучке. Старался. Как уговаривал в руках недающуюся картофелину.
– Э-э, руки-то трясутся. Чистюля!
Сколько помнила себя Евгения, брат всегда был аккуратистом. Всё у него в каморке за печью было разложено по полочкам. Полочек висело шесть. Школьная форма всегда выглажена и повешена на плечики на стенку. Сам, круглый двоечник, сидит за столом в чистой белой майке и чистых трениках с лампасами. Он даже стирать на себя начал с десяти лет! Бабушка и внучка смотрели друг на дружку растерянно. Как две подруги по полному беспорядку.
Чечин всё не мог справиться с картофелиной. Всё старался.
– Э-э. В Князева, в моего бывшего уже превратился. Когда перестанешь, наконец?
В прихожей, вбивая ноги в туфли, с удивлением спрашивала себя: «Сколько можно пить?» Глаза её были бесцветны и вытаращены, как виноград: – «Сколько?!»
Грохнула дверью.
Вышел из подъезда в начале девятого. Однако старухи уже сидели. Такие же непримиримые, сердитые.
Вежливо поздоровавшись, прошёл. «Ишь, начистился, нагладился опять. Правда, сегодня в майке. Пиджак, наверное, заблевал».
На улице ноги трусились, оступались. Низкое солнце впереди растопыривалось, не давало пройти. Перешёл на другую сторону улицы, к чёрным деревьям.
В Управлении Зарипова не было. С облегчением вышел из здания с колоннами. Сидел в сквере напротив, вытирался платком. По улице мимо здания шастали машины.
Когда увидел подъехавшего Зарипова, снова пошёл через дорогу. В вестибюле остановился. Из зеркала в квадратной колонне на него смотрел человек с головой водолаза. Человек тяжело дыщал. На майке человека резко проступил весь мокрый Че Гевара. Нет, в таком состоянии к Зарипову идти нельзя. Снова вышел из здания. Селиванову звонить не стал. Хватит его грузить.
В пивной опохмелился один. Через час стоял, прислонившись спиной к торцовой высокой стене пятиэтажного дома на Проспекте, где прямо над ним висели три рекламные девицы с перепутанными, как кустарник, ногами. Заплетя пальцы в замок, опустив голову – опять думал, являя собой мемориальную доску, барельеф, который с выпученными глазами вылез слегка из стенки. Где Вера сейчас? Где её душа? Видит ли она, что я стою сейчас под этими рекламными девками?
6
Сразу после похорон все вещи Веры из квартиры исчезли. Евгения перетаскала к себе на Восточную. Сказала ему, что разнесёт по соседям. Если не возьмут, нищим раздаст возле собора. А дорогую шубу Веры, что привёз ей из Тюмени – повесит в комиссионке. «Тебе же легче от этого станет».
В первые дни сквозь пьяный туман пытался разглядеть пустоты на месте вещей и одежды жены. В прихожей, в комнате, в спальне. Открывал пустой шкаф Веры, где осталась висеть только одна сломавшаяся деревянная вешалка. Как будто Вера спешно переехала. Точно порвала с ним, Чечиным.
Лежал на тахте, не видя от слёз ковра на стене. «А я вас знаю», – сказала она ему когда-то в доме у Селивановых. На шестидесятилетии тёти Гали, матери Генки. Куда оба они опоздали, где были посажены рядом, ещё трезвые, словно бы даже одни за столом под вскакивающими с рюмками гостями.
Он удивился. Остановил у рта налитую рюмку. «В 74-ом году мы вместе ехали в одном автобусе. Из Уфы. Вспомнили? Лось, выбежавший на дорогу. Стоящий, наклонив рога, прямо перед жарким работающим мотором автобуса. Словно перед всей людской цивилизацией, замучившей его».
Как тонконогого лёгкого мотылька её все время выдёргивали на танцы. Оставшись за столом, он думал в это время, пережёвывал какую-то еду. Танцорка снова падала рядом. Выяснилось, что она тоже ездила тогда поступать. Только в пединститут. И в отличие от него – поступила.
В тот вечер он провожал её на Проспект. Стояли на тротуаре напротив тяжёлого сталинского дома, где она жила с матерью. Он держал её руку. Как раздувшиеся коты, светили круглые фонари. У неё было небольшое лицо и прямой носик. Когда она говорила, нижняя губка её оживала и слегка выпячивалась. Этакой маленькой влажной улиткой.
Через полгода в загсе он выронил кольцо. Когда надевал его на палец невесте. Кольцо покатилось по паркету. Прямо к столу распорядительницы, прямо к её ногами. И та почему-то с испугом отступала к стене с гербом РСФСР, а он ползал у её толстых ног, никак не мог схватить это кольцо.
Чечин отделил себя от стены с девицами, перепутавшими ноги, пошёл на противоположную сторону Проспекта. Где дог с чумными глазами и бабочкой на шее словно испуганно высунулся откуда-то на стену дома: «Инвайт. Просто добавь воды».
С кружкой пива в банном гуле пивной – опять думал. Теперь уже о брошенной буровой. О зануде Лмине. О том, что тот может влепить в трудовую 81-ю – уволен за прогул.
7
Дома почти каждый день уже брызгался междугородний. Знал, что с Севера, что Лямин, но не вставал, сжимался на диване. Следом, как по заказу, приходил Селиванов. И не увещевал уже – ругал. Потом, сжалившись, доставал две бутылки пива и леща. Этого леща в промаслившейся бумаге смачно шмякал на кухонный стол. Сев, вытирал платком пальцы. Чечин тут же включал свою чистоплотность и аккуратность. Разворачивал, убирал бумагу, вытирал тряпкой стол, клал перед Селивановым махровую чистую салфетку. Леща пододвигал на красивом стеклянном блюде синего цвета. Селиванову хотелось треснуть его по башке. Этим аккуратным лещом и красивым блюдом.
Два дня назад с паспортом пьяного Чечина он искал переехавшее отделение связи, куда пришла трудовая Ивана. Где-то на Гагарина оно теперь, как сказали, в бывшем детском саду. Под номером 15/1.
Бывших детских садов оказалось целых три в длинном дворе, окружённом пятиэьажками. За детской площадкой, прямо по траве он двинулся к одному из них. Крайнему, заваленному деревьями и кустами. Мимо по асфальтовой дорожке, по диагонали пересекаюшей двор, пьяно, но быстро прошёл длинный парень. Другой, коренастый, оставшийся на дорожке, заорал: «Стой, падла! Стой, тебе говорят! Гондо-он!» Неуклюже побежал следом с серьёзным лицом убийцы. Дальше Селиванов видел всё с какими-то разрывами. Как в прерывающемся сне.Когда понял, что здание не то и повернул назад – длинный парень уже лежал, скрючившись у дорожки, а крепкий пинал его. Допинывал. Когда Селиванов снова стал переходить дорожку, к нему, как в новом уже сне, вдруг кинулся этот пинальщик. «Стой, падла!» Стал хватать за рукав. Тощий сильный Селиванов хлестко ударил один раз. Наказал пинальщика. И опять будто разом сдёрнул всё. Как в новой уже части сна, шёл и только озабоченно высматривал чёртово это отделение связи под номером 151, в бывшем детсаду. А парни из брошенного им сна так и остались валяться один вдали от другого. И пьяный, мотающийся дома на стуле аккуратист, даже знать не знал в тот день с какими приключениями Селиванову удалось, наконец, забрать в отделении связи его, аккуратиста, трудовую книжку. Даже не помнил, как Селиванов совал ему её под нос. Как кричал: «Скажи спасибо Лямину! Слышишь! Не по статье! Алкаш!»
Сейчас наш алкаш уже вставлял в комнате в стериосистему кассету.Не может он, видите ли, пить без музыки. По квартире начинали раскатываться солнечные пассажи рояля Оскара Питерсона. Да, не меняется Ваня. Никак не меняется. Так и остался в семидесятых.
Вздохнув, Селиванов наливал и двигал высокий стакан к меломану.
Ваню тогда долго не могли засечь с «Альбертом Че». Хотя он выскакивал на большие волны ежедневно. Сам Селиванов – «Директор кладбища» – выходил в эфир осторожно, только два раза в неделю. Вечерами, хихикая, они вместе наблюдали из окон, как мимо проползал уазик с самодельной антеннкой. Подталкивали друг дружку, совсем заходились от смеха.
Однако когда из Уфы пригнали пеленгатор настоящий, с антеннами плавающими, Ваню вычислили в первый же вечер.
Пеленгатор этот тихой сапой продвигался по Восточной, поворачивал антенны, что тебе глазастый марсианин. Остановился точно напротив дома Чечиных. Подкатил и всегдашний уазик.
Ваня зайцем скакал от двух милиционеров по выпластанному осеннему огороду. Вынесли из сарая всё: магнитофон, телевизор, проигрыватель. Все пластинки Вани, все записи. Когда толстый мильтон, как ботвой, увешенный проводами понёс саму шарманку, Ваня вдруг взвыл, кинулся и ударил в усатые зубы. Милиционер опрокинулся, накрывшись шарманкой и проводами. Ваню тут же сбили с ног, начали пинать. Вялого, затолкали в уазик. Две машины победно поехала по Восточной. Людмила Петровна бежала за машинами, кричала.
Потом был суд. И Ваня, уже восемнадцати лет на то время, сел. И не столько за шарманку, сколько за избиение милиционера. Из своего двора Генка видел, как «избитый» пинал потом Ваню, как старался больше всех. В душном зале суда Генка начал было рассказывать об этом, кричать, но его вытащили из ряда и вывели за дверь. Не помогли и фронтовые медальки плачущей Людмилы Петровны.
8
Сходив к стойке буфета, Чечин вернулся со свежими двумя кружками. Про чекмарь в висящей под столиком сумке забыл. Привычно задумался.