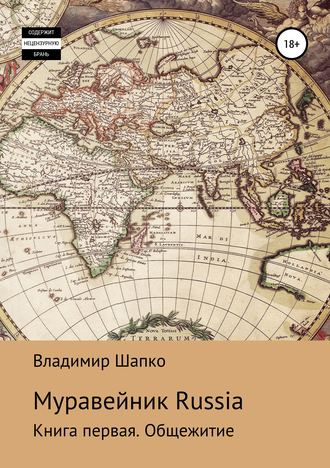
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
23. Дети-пэтэушники в общежитии взрослых
Рано утром опять пэтэушники мёрзли возле общаги. Приплясывали, готовились к штурму. В ответ на все увещеванияНовосёлова (ну чтоб людьми были, не давились, не дрались за места) только нервно посмеивались. Лучше б дал закурить. Новосёлов давал закурить. В полном согласии с ним пэтэушники курили. Все с тонкими шейками. Сизоватые. Как несозревшие яблочки.
Когда однако лаковый «Икарус»вывернул – рванули к нему. Как всегда. И Новосёлов впереди. У автобуса оказался первым. Рекордсмен. Стиснутый со всех сторон, вздёргивал руку. Орал: «Назад! Н-назад!» Пацанишки чуток осадили.Говорил им опять, стыдил: «Вы что – бараны, а? Бараны?..» Пэтэушники улыбались, ждали. Когда кончит, значит, Новосёл. Новосёлов поворачивался, шёл к общежитию. Сзади сразу продолжилась свалка. Правда, как бы тихая свалка. Деликатная. Куда, гад?! Баран, да, баран?!
На крыльце Новосёлов выговаривал Дранишниковой. Воспитательнице из ПТУ. Дранишникова фыркала кошкой. За стеклом автобуса пэтэушники, захватившие кресла, посмеивались. Три неудачника, которым сегодня не обломилось, независимо торчали над ними в проходе. Автобус трогался.
Через полчаса Новосёлов выводил из общежития пять-шесть парней.На сей раз – взрослых. Вручал им мётлы, лопаты, сам брал метлу погуще,пожёстче, и они начинали выметать с газонов. На дорогу. Всё что выкидывалось ночами из окон. Окурки, бумагу, тряпки какие-то, бутылочное стекло,консервные банки. От метлы Новосёлова летал жёлтый слипшийся Парашютист, выброшенный, наверняка, вон из того окошка. Весело Новосёлов покрикивал.
Без пяти минут девять у общежития появлялся ещё один руководитель. Главный. Силкина. Проходя мимо махающего метлой Новосёлова и его команды, поглядывала искоса. Хмурилась. Упустила задачу. Не поставила вопрос.
Накидывалась на завхоза Нырову. Гневно махала ручкой, показывая на стену здания. Где на одном из окон опять висело несколько трусиков женских. Снизочкой. Снизочкой вяленой рыбки… А на соседнем окне – пелёнка!С жёлтым пятном посередине! Свеже застиранным! Вы что, не видите?!
Нырова гнулась к блокноту, записывала. Будто шофёр, поспешно обежала, открыла Силкиной дверь. За стеклом пропала Дранишникова. Была – и нет. Пошли ронять стулья вахтёры.
Столовая открывалась с десяти, но уже с половины десятого начинали бить в дверь. «Открывай!» – кричали. Весёлые все. Голодные. Шоферня.
Врывались в зал. Мгновенно, как всё те же пэтэушники (одна порода!), расталкивались по раздаче. Уже с разносами все. Подготовленные. Человек тридцать. Деревенские требовалиТолько С Картофельным Пюре. Свой святой деревенский деликатес в городе. «Картофельное пюре есть? Мне только с картофельным пюре. Нет картофельного пюре? Почему нет картофельного пюре? Сейчас будет? Ладно. Мне только с картофельным пюре»… Пригородскѝе снисходили до вермишели.
Кассирша наяривала ручкой кассового аппарата. Будто отзванивала от себя очередников. Едоки с полными разносами расходились по залу. За столами корешились, смеялись, жадно ели, запрокидывали стаканы с жидкой сметаной. И вновь наворачивали Биштекс. С картофельным пюре, понятное дело.
Отзавтракав, как положено ковыряя в зубах спичкой, шли в вестибюль, тащили из кармана папиросы. Некоторые выходили на осенний солнечный холод.
Над пожухлой травой сидели на корточках. Как будто орлили на воле.Покуривали, пощуривались на чахлое солнце. Как сельские мужичкицигарками, вялили сигаретками скольцованные пальцы. Остывали. Делать было нечего.
Иногда проходили Бабы. Свои. Общежитские. В плащах. В талии стервозно перетянутые. Как осы. Все с выдвинутыми грудями. Словно не могущие вздохнуть… Дружным гоготом их встречали и с подначками провожали. Некоторые даже вскакивали. Сразу находилась тема. «А вот у меня одна была, мужики, мужики!.. Покидает груди за плечи – и пошла! Зверь-баба, мужики!»
– Ха-ах-хах-хах!
Опять садились на корточки. Возбуждённые. Возбуждение не проходило. И делать было нечего. Кто-нибудь, потужившись, выпускал сакраментальное: «Что-то стало холодать… А, парни?..»
Пить никому не хотелось, после еды претило, однако зачем-то посылали в гастроном гонца.
Шли. Взмывали лифтом, к примеру, на пятнадцатый этаж. Где в одной из затхлых комнатёнок холостяков – без баб и без всяких мильтонов – какой-нибудь приблатнённый с травлёными сизыми пальцами уже раскидывал карты.
Прикуп картёжники брали бережно, в две вздрагивающие руки. Приблизив его к глазам, просчитывали игру. Вкусно обнажая фиксу, вкусно перегоняли губами папиросы. Когда накалывали ближнего, с азартом, с криком хлястали карту об стол. Ширкались ладошками, смеялись, торопились разлить и врезать, пока тасовались и разбрасывались новые карты. Бутылку от посторонних глаз прятали под стол. (Пока что прятали.) Проигравшийся в полном удручениитряс гитару за горло. Пел: «Гоп со смыком – это буду я!Граждане, послушайте меня!» Компашка смеялась. Теплела компашка, теплела!
Бутылки постепенно наглели. Приносимые, новые – на стол припечатывались. Уже без всякой конспирации. В дверях начинал двоить человек в величайшем, будто в цирке спёртом, пиджаке в клетку. Очень гордый. Ошмёток. Он же – Ратов, если с фамилией его брать на глаз. С сырым и серым лицом змия. Козёл, в общем-то. Но – ладно.
Приходя, он скрипуче всегда отмечал: «А вы всё пьёте…»
Взбалтывая штанинами, подсаживая себя на палку с резиновой пяткой, вывихливался с ортопедическим ботинком прямо к столу, кидал себя на стул. С большим мужским достоинством опирался на костыль. Приказывал: «Наливай!»
И ему почему-то наливали.Фужер водки – пузатый, полный – пил по-змеиному. Обеззвученно и жутко. Будто с головой был в аквариуме. В аквариуме с водкой…
Никогда не закусывал. Сразу закуривал. Заглоты делал глубокие, жадные. Коричневые глаза заполнялись жидким маслом, начинали фанатично мерцать сами для себя…
– Это я ещё в цирке работал. В зверинце… Со зверями…
Говорил всегда тихо, ни к кому не обращаясь. И его почему-то слушали. Даже останавливали игру.
Когда слушатели начинали соловеть – Ошмёток бил палкой в пол.Будто шаман в бубен. Нагнетал ритм, внимание. Парни взбадривались, подбирали слюни…
…Чувствуя за спиной комиссию, которая уже шла по четырнадцатому этажу, Новосёлов выскочил из лифта на пятнадцатом. Быстро пошёл, побежал к 1542-ой.
Раскрыл дверь – и в нос ударила коричневая сырая вонь пьянки. Под брошенным тоскливым светом лампочки валялись все. Кто – где. На разные стороны по кроватям. На полу. Двое ползли куда-то на одном месте. Как соревновались. Словно уплывали… И лишь Ошмёток сидел на стуле. Пел. Дёргался как тряпичный. Как марионетка разевая пасть:
Дам-ми-но-о!
Дам-ми-но-о!
Новосёлов бросился к столу. Среди винных луж, опрокинутых бутылок, окурков, игральных карт искал ключ. Ключ, чтобы закрыть дверь. И…как в сердце толкнуло… В углу за кроватью, словно цепями прикованный к своей рвоте на полу, вздёргивался на руки и падал мальчишка. Пэтэушник. Белокурая заляпанная страшная голова раскачивалась над рвотой и падала в неё…
Новосёлов взвыл. Подбежал к парнишке, сдёрнул с пола. Поворачивался с ним, топтался, не знал куда его положить. Мычащего, умирающего. Завалил на кровать на кого-то. Этого кого-то из-под мальчишки выдернул,сбросил на пол. Повернул мальчишку на бок. Того сразу опять начало рвать.Ничего, ничего, давай,давай, пацан, пусть рвёт.
Метнулся назад, к столу, сразу нашёл ключ. Цапнул за шкирку орущего Ошмётка, поволок к двери.
Закрыв на ключ дверь, быстро тащил Ошмётка с клюшкой по коридору. Тот пытался отмахиваться, хрипел, матерился.
Кабина ещё не ушла. Ошмётка засунул в неё. Давнул кнопку. Успел выдернуть из дверей руку. Ошмёток исчез.
Тут же двери соседнего лифта разъехались, вышли Силкина, Хромов и Нырова. Ещё отстрелил один лифт. И оттуда вывалилось несколько человек.Очередная комиссия. Новосёлова захомутали. Пошли. Вертели головами,смотрели на потолки. Гнулись к плинтусам, словно искали золото. На кухне побежали тараканы. Так, порядок. Дальше шли. Двери жилых комнат в упор не видели. По потолкам больше, по потолкам. Из 1542-ой послышался резкий всхрап. Там же – козликом кто-то долго не давался. Не обратили внимания,прошли. Лицо Новосёлова было в поту. Иваном Сусаниным он шагал впереди. Сзади уже кричал Ошмёток. Пропутешествовал гад, и вернулся. Новосёлов тоже кричал, показывал рукой вверх. Все задирали головы. Точно. Трещина. Молодец. Новосёлов заставлял согнуться всех в три погибели. Под батареей протёк! Верно. Какой глазастый! От многоногой топотни кому-то на голову упала штукатурка. Временные трудности. Сюда! Завернул всех на пожарную лестницу, отсекая путь назад к лифтам. Ничего. Полезли. По ступенькам. Тут невысоко. Притом – последний. Этаж…
Поздно вечером Новосёлов сидел в 1542-ой. Было поставлено парням ребром: или пить – и вылететь из общежития, вылететь с работы, из Москвы,в конечном счёте, или… или быть людьми. Нормальными людьми. Не свиньями. Работать, учиться, жить в Москве. Больше покрывать никто не будет.Хватит. Да и не утаишь шила в мешке. На вашем этаже из каждой комнаты шилья торчат. Так что думайте. Если мозги ещё остались. А за мальчишку…за мальчишку вас, гадов, судить надо. Судить, понимаете!..
Вертел нервно на столе какую-то железку. Открывашку бутылок. Бросил.
Затаился свет лампочки под потолком. Всклоченные парни сидели по койкам. Молчали. Глаза их были раздетыми. Колотясь зубами о стекло, парни заливались пивом. Запрокидываемые бутылки быстро мелели. И снова глаза парней возвращались в комнату. Ничего уже не могли, не хотели видеть в ней…
24. Бра-ла-а!
По утрам трубы тарабанили по всей общаге с настырностью молний.Гремучих молний. Во всем шестнадцатиэтажном здании как в каком-то рассаднике. Ни один водопроводный кран нормально не работал… Только часам к десяти всё более или менее стихало. Так, раз-другой захрипит где-нибудь и утихнет.
Появлялась в коридоре молодая мамаша с ребёнком. Закрыв ключом дверь, вела капризничающего сынишку к лифтам. Чего-то недополучив, трёхлетний карапуз продолжал орать. Мама дёргала его за руку. Наклоняясь, зло увещевала. Увидев Новосёлова— задёргала сильней:
– Вот будешь орать – оставлю с трубами… – Взглянула наНовосёлова.– Одного! А сама уйду! Будешь тогда кочевряжиться!
Малыш рёв разом оборвал. Стал внимательным. Одного, мама? С трубами? Да, мама? Одного?..
Новосёлов посмеялся над страхами уводимого малыша. Однако когдадошёл подтекст, сказанного женщиной— густо покраснел. Чёрт подери-и! Это куда дело зашло! Если уже матери так пугают теперь своих детей!..
Час-полтора ходил с очередной комиссией по комнатам и кухням.Трубы часто ревели уже в спину комиссии. Но тут же прятались, не поймёшь – где? какая? Потом комиссия привыкла, не обращала внимания. (Так не обращают внимания на принимающийся зудеть тромбоз.) Новосёлов всё время отставал от всех, точно что-то забыл, оставил за спиной.
На первом этаже дёрнул дверь с табличкой «Сантехник». Застучал кулаком. Табличка подпрыгивала. Висела кособоко. Точно на одном гвозде.Нет, конечно, никого. Ладно.
Догнав, снова ходил со всеми. Через какое-то время опять колотил в дверь с косой табличкой. Время останавливалось. Дальше шло. Ладно. К вечеру увидел Ошмётка! Тот мелькнул в коридоре! Сразу заспешил. Подбежав,забарабанил в дверь. Ждал, вслушивался. За дверью зарычала труба. Гад!
На другой день увидел Ратова возле общежития. Поющего. Тяжело дыша, на него тупо смотрели трое общежитских. Тоже пьяных. Парни словно бы учились, как нужно петь. Невпопад, каждый сам по себе, начинали голосить, закидываться. Как кусты, взлохмачиваемые ветром:
…Бырадяга… проклиная судьбу-у-у…
Э-тащилыся-а на плечах с горбо-о-ом…
Ратов зло отмахивал: не так! Дирижируя, начинал реветь им правильно, связно. И общежитские опять как бы учились у него, снова начинали шуметь как кусты.
Из хора выдернув дирижёра («кусты» в испуге расшатнулись), Новосёлов за шиворот потащил его в общежитие. Ратов зло матерился, ноги его капризно выкидывались вперёд, точно привязанные к кукле.
Новосёлов хотел затащить его к Силкиной в кабинет и бросить.Швырнуть эту пьяную погань ей под ноги. Пусть полюбуется на своего любимчика… Однако в кабинете всё вышло не так…
Брошенный на диван… Ошмёток тут же нагло раскинулся на нём. Руки по спинке, нога на ногу. Точно мгновенно обрёл лицо. Мотал ортопедическим ботинком как кувалдой. «У меня своя квартира! Понял? Я – москвич! А ты кто? Ты – хрен моржовый! Вера Фёдоровна – скажите! Ха-ха-ха!»
Новосёлов потерял голову. Мгновенно порушив всё лицо, весь образРатова-москвича… сдёрнул его с дивана и начал бить спиной о стену. Рядом с диваном. Накидывать и ударять. Ошмёток истошно заорал. Силкина вскочила. Пудреное белое лицо её стало как в малине! Заскакала на месте девчонкой:
– Прекратить! Немедленно прекратить! Слышите! Новосёлов! Вы…вы… вы где находитесь?!.
Новосёлов швырнул Ошмётка на пол, пошёл к двери.
– Вы с работы у меня полетите! – кричали ему вслед. – Я на вас в суд подам!.. Долговязый идиот!..
Новосёлов хлопнул дверью. Тут же длительно, как собака, зарычала батарея. Позади Силкиной. Вместе с рычанием выполз из-под стола Ратов.Силкина забегала вокруг него:
– Мне что, убить вас, а?! Ратов! Убить?! – Щёчки женщины тряслись.– Убить?! Вы в кого превратились, Ратов, в кого?!
Ратов пополз куда-то в сторону от стола. Уволакивал левый ортопедический ботинок за собой, как разбойник ядро на цепи…
В обед он пришёл домой. Протрезвевший. Как чёрт злой. В пустой комнате, прямо на полу, вповалку спали семь человек. Чуреки для Силкиной. Перевалочный пункт. Фильтрационный лагерь на дому. Всего два квартала до общаги.«Ну ты!» – пнул чьи-то ноги, проходя в кухню.
Сдёрнул зубами бескозырку с чикана. Запрокинулся, сталпить.Бутылец оставил в руке. Сидел с лицом человека, который, казалось, сейчас скажет: прошло то время, когда меня младенчиком родители вольтижировали как хотели. Кончилась вольтижировка детства. Теперь шалишь, гад Новосёл – не дамся! Ещё посмотрим, кто кого!..
Макарона пришёл в плаще. Долгоплечий, как чучело.
– Ну, не забыл? В субботу идём…
Посидели. Допили чекушку. Покурили. Макарона достал из плаща ещё одну. Свою. Сидел с засунутыми в карманы плаща руками – как планерист. Никакой закуски на столе не было. Окурки на тарелке походили на огрызки червей. Допили вторую. Макарона поднялся. Посмотрел на халат Ошмётка. На пресловутый халат сантехника или грузчика из гастронома. «Не забудь приодеться… До субботы!» Оставил Ошмётка в дыму как в атаке.
В клетчатом цирковом пиджаке Ратов в субботу вздёргивал ортопедический свой ботинок к Макароне на второй этаж. Объемная задняя часть пиджака напоминала капот. Рупь-двадцать! Рупь-двадцать! Свет на лестницу тускло пролезал из полукруглого окна точно из поддувала. Дверь в коммуналку была открыта. Днём не закрывалась.
В раскинутой сумрачной кухне стирала соседка Макароны. Упрямо дёргалась над корытом. С задравшимся платьем – женщина точно вытрясывала из себя полные свои ляжки…
Глаза Ошмётка сделались луковыми. Быстро сунул руку в карман брюк. Капот сзади затрясся…
Женщина почувствовала. Резко обернулась. Одёрнулась.
– Чего тебе?
Ошмёток замер. Застыл, оборвав тряску. Разом убрал глаза к окну.
– Макарону…
– Нет его!
Не вынимая руки из кармана, завтыкал ботинком, пнул дверь Макароны. Дверь молчала. Женщина напряжённо ждала, пока Ошмёток мотал со своей ногой из кухни. С облегчением выдохнула. Придурок! Пошла, захлопнула дверь. Успокаиваясь, опять раскачивалась над корытом.
Возле окна-поддувала, как подтопленный светом его, Ошмёток зло онанировал. Довершал начатое в кухне.Гадство-о!
Макарону нашёл во дворе. Тот добивал за козлоногим столом козла вместе с такими же опапиросенными козлами, как сам. (Козлы удерживали костяшки в обеих руках. Уважительно. Как криптограммы.) В последний раз шарахнул дуплем-пусто. Рыба! Вдавил папиросу в стол. Поднялся. Подходя к Ратову, с большим недоверием смотрел на его пиджак. Пиджак больше походил на пальтецо в клетку. Ошмёток смахивал в нём на отшумевшего стилягу 50-х годов. На стилягу на пенсии… Чего же ты в таком? Неужели другого нет?В Большой ведь работать идём? Какого хрена! – завозмущался Ошмёток. Да больно надо! Ладно, ладно, остановил его Макарона. Будешь в этом (работать). Пошли, да побыстрей!Сам Макарона был затянул в маломерный костюм. Походил в нём на кулинарную трубку. С вылезшим кремом. Тонкие ноги его с остроносыми штиблетами действовали как альпенштоки.
В автобусе Ошмёток сидел у окна, таращился на улетающую дорогу.После дождя берёзы висели, будто шалашовки истрёпанные, жёлтые. Под одной из них большой чёрный кобель мял суку как скульптор. Ошмёток затолкал Макарону: смотри! смотри!– работает!..Лицо Макароны было индифферентным, надменным. Полным презрения к несчастному Онану.
В тесном дворе хореографического училища увидели необычное зрелище. Придурочнуюдраку. Поворачиваясь спинами, два мальчишки-балеруна лягали друг дружку ногами. В жопки, по сухим тощим ногам. Лягались очень капризно. По-бабьи. Как кенгуру какие-то. Болельщики-сверстники кричали, прыгали вокруг. «Ур-роды! – процедил Ошмёток, спотыкаясь. – А? Макарона?» Идём, идём! Макарона торопился. Однако Леваневского в училище не оказалось: уже ушёл в театр… «Ну вот!– воскликнул Макарона.Посмотрел на Ошмётка: – Сможешь бежать?» Ошмёток кивнул. В следующий миг скакал за Макароной. Мимо дерущихся. И дальше, со двора. Скакал, как пинаемый в зад. Или как скачут на воображаемых коняжках мальчишки. С высоким подскоком. Почти на одной ноге.
…Фарфоровая балерина на столе смахивала на недающуюся целку.Ошмёток сглотнул. Везде по кабинету висели афиши. С пола до потолка.Правда,уже без целок. Только с фамилиями их…
Вошёл сам хозяин кабинета. Леваневский. Грузный мужчина с выкатившимися,запьянёнными глазами барана-провокатора на бойне. Прошёл к столу, придавил балериной бумаги, которые принёс. После этого присел на край стола.
Молча смотрел на двух кандидатов. В общем-то, полудурков. Будто прикидывал – как лучше, без лишнего шума отвести их на заклание. На живодёрню.Не обнаружат ли они в последний момент подвоха. Не заблеют ли,не заблажат. Макарона переступал с ноги на ногу – точно голый. Точно на медкомиссии он. Когда на осмотр отдают только тело, а глаза, душа – уж ладно: где-то рядом стоят, маются… Ошмёток с громадным своим пиджаком да с ортопедическим ботинком казался намного ниже Макароны. Незаметней. Как малолеток…
– Ну ладно… – вздохнул Леваневский. Полез за бумажником: – Вот вам по рублю пока… Остальные потом… И чтоб не надрались у меня раньше времени!..
– Да что вы, Марк Семёнович! В первый раз, что ли, я?! – Макарона очень честно возмутился.– Уж меня-то вы знаете! – Макарона шмыгнул и опустил нос. Как бы свесил сизую, провинившуюся палицу. У Ошмётка нос был как у бандита в чулке – не придерёшься.
Однако Леваневский смотрел на новичка с большим сомнением. Спросил у Макароны:
– Про «браво-бис» хоть знает?
– Знает, Марк Семёнович. В цирке как-никак работал. Причиндалом.
– В цирке вроде бы «браво» не орут… – в раздумье сказал Марк Семёнович. – А? Циркач? Пиджак оттуда, что ли, спёр?.. – Повысил голос: – Орут там «браво» или нет?..
– Случается… – солидно прохрипел Ошмёток.
– Вот видите! – развёрнутыми показал на него ладонями Макарона.Как показывают на зайца. Только что выхваченного фокусником из цилиндра.Натуральный, Марк Семёнович! Без дураков!
– Ладно! Ясно! – поднял руку Леваневский. – В общем – ещё раз: в буфет не ходить! Раньше времени не надираться! После работы. Дома! Поняли?
Какой разговор! Семёныч! Железно! Работа – первое дело! Какие буфеты?! О чём речь?! Даже обидно (знаете ли).
…С бархатного бордюра галерки, прилежно положив на него руки,Макарона и Ошмёток наблюдали за вялым людским хаосом, происходящим внизу перед началом спектакля. Не торопясь, люди рассаживались на свои места. Многие уже сидели. Целыми рядами. Откинуто, как-то вспухше. Будто дрожжи. Ошмёток думал. Что, если плюнуть вниз? На чью-нибудь лысину? Или на буфера слюной циргануть? На раскрытые? Вон той? Или вовсе: достать прибор— и как из брандспойта? Во все стороны? – что бы тогда было?.. Ошмёток утробно, как сидя в бочке, начал смеяться. Подкидывался. Тихо ты! – толкнул его Макарона.
В зале притушили свет – и сразу высветилась оркестровая яма. (Оркестровая Канава,определил себе Ошмёток.) Возник над всеми дирижёр. С угловатостью плешивого штандарта – вознёс руки. Заиграли.
Внизу колыхалось море скрипачей. Раскачивались в едином ритме.Потом они упали в паузу. И как многоцветная радуга – восстал звук деревянных-духовых. Из всех неподвижно сидящих во время паузы скрипачей один всё время ёрзал на стуле. Никак не мог привыкнуть к соседке своей, тоже скрипачке.Скрипачка независимо откинулась на спинку стула. Крутые розовые наплывы ног её из куцей юбки имели вид младенцев. Просто невинных младенцев. Да. А скрипач всё косил. Взъерошенный, дикий. Извра-ще-нец! Макарона, хихикая, подталкивал Ошмётка, показывал. Ошмёток замер, увидев розовые ляжки. «В оркестровой канаве». Правый глаз Ошмётка стал полностью независим. Как спутник. И оставался таким до тех пор, пока подол сцены не стали медленно задирать (точно сцена промочила ноги) и не притушили в оркестровой… канаве свет. Вот гадство! – не успел начать Ошмёток.
Под аплодисменты под «подолом» вместо голых ног раскрылась тесная площадь средневекового города. Солидно вели базар какие-то Монтекки и Капулетти. (Макарона объяснил.) Двое. Пожилые. Во вздутых штанах – как в тыквах. Их дети под музыку бегали, скакали чертями. Суетливые ноги балерин были сродни трепетливым острым вёслам. Они ими резко отмахивали – и снова мелко перебирали. Отмахивали – и перебирали, уносясь на них в сторону с отрешённо-обиженными лицами всё тех же целок… Загнуть бы всем им салазки! А? Макарона? Да тише ты! Смотри лучше и не зевай!Макарона был внимателен.
В конце первой картины, когда все со сцены открутились и упрыгали,Макарона удовлетворённо, как хорошо оттянутый, сказал на весь зал: «Браво!» Самый первый вверг весь зал в вопли и аплодисменты. Остальные клакеры Леваневского бесновались с галерки напротив (браво! би-ис!). Орали как красноротая африканская барабанная банда. Однако… однако они быливторыми. Всего лишь вторыми. Первым всегда восклицал Макарона. Он был как бы бригадиром клакеров Большого театра. После каждого балетного номера, едва только удёргивалась за кулису последняя судорожная ножонка – он сразу говорил на весь театр: «Браво!» Все с той же полной удовлетворённостью в голосе. Как хорошо отдупленный пидор. И Ошмёток начинал орать истошней всех: «Бра-ла-а, бра-ла-а!» (Да не «брала», дурак, а – «браво»!– наставлял Макарона.)Однако Ошмёток колотился ещё пуще: «Бра-ла-а-а!»
Балерины выбегали на авансцену и распластывались в поклоне. У самого пола будто бы превращая себя в побитых, кающихся лебедиц. (У-у,целки! Я б вас!) Их партнеры, жуя жо…и, уходили за ними очень сильно, свзнятой рукой. Все смачные. Как бифштексы… Брала-а-а-а-а-а! мать вашу!..
В антракте неприкаянно слонялись среди весёлых, галдящих людей.Стояли у колонн. Один длинный, с кулинарной независимой мордой, другой низенький, точно охранник при крутом своём ботинке… Не сговариваясь двинулись в буфет.
Перед блёстким скопищем бутылок на стене за стойкой – замерли…
– Лице-ей! – выдохнулось у восторженного Макароны. – Натуральный лицей!– Ошмёток тут же согласился: точно! Натуральная козья морда! (Да-а.Вот так сравнения. Что у первого, что у второго.)
Из всего «лицея» лицеистам обломилась только бутылка ситро. Буфетчица откупорила. Содрала рубль двадцать. Однако цены!
Пили у мраморного столика. Рядом с какой-то тощей старухой в чёрном. Старуха посасывала из стопарика и хитро поглядывала на них. «Ну как,понравилось, молодые люди?» Морщины шеи у неё висели будто трапеции.Ошмёток сразу… как сказали бы в деревне, Забренговал.Отвернул рожу в сторону. Однако Макарона профессорски сказал: «Да, уважаемая. И весьма!»«Прекрасные утки!»– неожиданно добавил Ратов. Сам от себя не ожидал.Вырвалось вроде как. «Вы хотите сказать – лебеди?» – «Ну да, лебеди», – согласился знаток. Старуха прыснула. Потом махнула остатки из рюмки, цепко пошла… Да-а, коньяк. Даже старухи здесь пьют его. Но цены! Вот этот стопарик, крохотный, как птичка – под три рубля!Это ж куда годится! И ещё,главное – «раньше времени не надира-айтесь!» Дал по рублю— и «не надирайтесь». Самого бы, гада, сюда с рублём… «Не надира-айтесь!»…
Ошмёток выпил свой стакан враз, едва только разлили, поэтому дальше терпел, водил только по забегаловке шалым взглядом. И увидел!Опять! У столика дама в коричневом платье стояла. Так стояла бы у столика на задних ногах лошадь! Оттопыренный зад её был немыслимых размеров! Это какого коня надо, чтобы вставить ей сзади? Глаза Ошмёткастали смотреть на две стороны. Глаза стали независимы. Как кукушки. Не понимали, что говорил Макарона. А тот всё ныл: «Раньше времени не надира-айтесь!» Свой стакан удерживал брезгливо. Точно стакан, полный жёлтых микробов. Выпрыгивающих к тому же… На, допей, что ли?.. Эй,Онаний!..
Прежде чем начать второе действие спектакля, дирижёр довольно долго стоял перед аплодирующим залом. Дирижёрскую палочку удерживал у груди. Двумя руками. Как надёжный свой бич. Которым он сейчас стегнёт. И действительно, отворачивался к оркестру и стегал. И оркестр сразу припускал галопом. Смычками, как будто ос каких, щекотали скрипки скрипачки и скрипачи… Почти сразу же начали выкатываться и укатываться кодлы всяческих прыгунов и прыгуний. И Ошмётку пришлось опять орать «брала!»
К концу спектакля он охрип. Натурально. Однако по-прежнему бился в кресле в честных, добросовестных припадках: бра-ла-а-а! Сам Макарона почему-то перешёл только на «бис». Размахивал руками с галерки – как с голубятни голубятник: би-и-и-исс! Монтекки и Капулетти сидели в креслах и в тыквах своих откинуто, опустошённо. Не знали, что им делать. Пока опускался занавес. «Подол» сцены…
..«Лицей» гастронома был намного скромней, чем в буфете Большого театра. Но зато всё по карману. На остальные деньги Леваневского взяли целых две белых. Да ещё на пять пива хватило.
К выходу спешили как гранатомётчики с гранатами. Для боя упакованные полностью.


