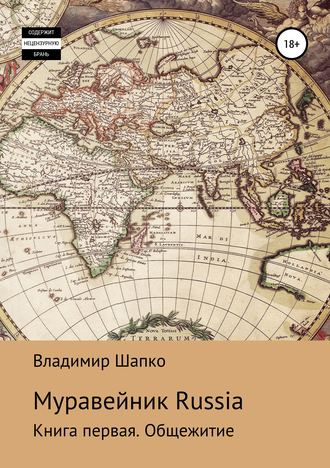
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
32. Сведённые
…С утра Мылов, затягивая чересседельник,опять зло дёргал, чуть ли не подкидывал несчастную лошадёнку возле двери в подвал. Директорша не выходила. Мылов матерился,пинал животину – А Белая СтерваВсё Не Выходила! Глаза лошадёнки вылезали из орбит, раскинутые ноги, казалось, стукались о землю как палки – АСтерваВ Белом Халате Даже Не Появлялась! Да ятит твою!
Во двор очень близорукая заходила курица. Осторожно вышагивала.Выдвигала любопытную головку…
Молнией бросался Мылов. Чёрной молнией, одетой в сапоги. Мгновение – и квохтающая курица колотиласьв его руках. А он в мешок её, в мешок. Невесть откуда выдернутый им. И – озирается по сторонам, присев.Видел ли кто? Тихо ли?
Через минуту гнал лошадёнку домой. Помчавшиеся во весь дух Сашка и Колька только во дворе у себя успели увидеть, как он тащил эту курицу к крыльцу. Тащил на отлёте, на вытянутой руке. Точно боялся её. А курица покорно,растрёпанно болталась вниз головой…
Выходила Чёрная. Шла с курицей и топором к сараям. Как всегда сердитая, будто отгороженная. Из тайной секты будто какой. Из подпольной организации. (Переживая, с крыльца тянул голову Мылов.)
– А ну – геть!
Сашка и Колька отбегали от двери сарая. Чёрная открывала дверь. Заходила в темноту… Через несколько секундиз сарая выбрасывалась безголовая птица. Которая начинала скакать по двору,выпурхиваться кровью. Потом, словно споткнувшись, падала. На бок. Сразу худела. Медленно царапала воздух лапой. И оставляла лапу в воздухе над собой… Ребятишки смотрели во все глаза. С раскрытыми ртами. А Чёрная гремела чем-то в сарае. Потом выпадала наружу. Топор походил на отрубленный бычий язык! Сгребала птицу с земли. Шла, кропя за собой буро-красной строчкой. Так же сорила кровью на крыльце, где суетился с тряпкой Мылов. Затирал за ней, затирал. Как баба. С чумными глазами. Захлопнул дверь…
– Ну что вы бегаете за ним, а! Что вы бегаете! – кричала из окна Антонина.
Ребятишки не слышали её. Ребятишки стояли как стеклянные.
Через два часа Мыловсидел на скамейке возле ворот. Сыпал мимо бумажки табак. Привычно пьяный. Брал бумажку и табак на прицел. Табак сыпался мимо. Мылов поматывался. Матерился. Упрямо снова всё начинал. Сашка и Колька уже ходили. Пыжились, прыскали слюнками. Мылов думал,что прохожие.
Через дорогу напротив у своих ворот стояла Зойка Красулина. Безмужняя, разбитная. С волосами как сырой виноград. У которой не заржавеет.Нет, не заржавеет. Ни с языком, ни с ещё чем. Лузгала семечки. Кричала Мылову, хохоча: «На правый бери, на правый!» Глаз, понятное дело. (Сашка и Колька совсем переламывались, коленки их стукались о подбородки.) Мылов вяло ставил ей указательный, прокуренный: н-не выйдет! н-не купишь, стерва! Снова пытался попасть табаком. Попал. Насыпал. Эту. Как её? Горку. Начал скручивать. Слюна развесилась как трапеция. Поджёг, наконец, мрачно задымливаясь. «О!– кричала Зойка. – Осилил! Молодец!»
Появлялся на шоссейке Коля-писатель. Шёл, как всегда. Словно пол прослушивал ногами. В очках. По аттестации Мылова— Деревенский Порченый. Конечно, проходил мимо. Мимо своих ворот. Мылов— будто знойный песок начинал просыпать, весь из себя выходя: «П-порченый!.. н-назад!.. К-куда пошел!» Но – вырубался. Напрочь. Дымился только для себя. Как гнилушка. Коля смеялся. «Заблудился опять маненько». И непонятно было – кто? Кто заблудился.Мылов ли – пьяный, или он – Коля. Зойка кричала Коле, подзывала к себе. Придвигалась прямо к лицу его, смотрела в глаза жадно, нетерпеливо. Точно боялась, что он уйдёт. Уйдёт раньше времени. И говорила, говорила без остановки. И было в этом всём что-то от жадного любопытства женщин к дурачкам. От торопливого общения женщин с дурачками. Она словно ждала, хотела от него чего-то. Она торопилась, подыгрывала ему. Ему – дурачку. В его же дурости. Чувствовала словно в нём безопасное для себя, но очень любопытное и захватывающее мужское начало. Которого у других мужиков, нормальных, нет. Только у таких вот. У дурачков. Виноградные волосы её… виноградный куст её весь дрожал, серебрился, был полон солнца. Глаза женщины смеялись, видели всё: и белую рубашку, мужской стиркой застиранную до засохшего дыма, и остаток желтка от утренней, тоже мужской, яичницы на краю губы, и неумело подвёрнутый и подшитый пустой рукав рубахи, и Колины глаза в очках, похожие на сброшенные со стены отвесы, которым бы уйти, уравновеситься скорей, но нет – приходится болтаться, трусить… «Давай хоть пуговицу пришью! Завью верёвочкой! Бедолага!» Зойка пыталась сдёрнуть с рубашки Коли болтающуюся пуговку. Смеясь, Коля отводил её руки одной своей рукой, этой же рукой потом гладил затаённые головёнки Сашки и Кольки рядом (подбежали они уже, сразу же подбежали). Тоже говорил и говорил. Точно месяц не разговаривал, год. Словно хотел заговорить её, одарить, завалить разговором, как цветами, и пересмеять её, и перешутить… Потом, как будто глотнув света, счастья, шёл с ребятишками через дорогу к своему дому, обнимая их по очереди, похлопывая. Подмигивал им, кивал на Мылова. Который задымливался. Который не видел ничего. Вохровский картуз у которого, как горшок на колу, был вольным…
Минут через пять Коля снова шёл двором. Только теперь к воротам,обратно на улицу. С папкой под мышкой, которую, наверное, забыл утром.Ребятишки преданно бежали к нему, чтобы проводить, но он их заворачивал и, смеясь, направлял к офицеру Стрижёву. Обратно. Стрижёв подвешивал руку над склонённой в согласии головой. Слегка поматывая ею. Что могло означать: здравствуй, Коля. Пока, Коля. Не волнуйся, Коля. Полный порядок,Коля. Снова упирал руки в бока над разобранным мотоциклом. Словно наглядно удваивал свое галифе. (Ребятишки уже заглядывали ему в лицо, определяя, какая будет взята сегодня им в руки деталь.) Стрижёв брал, наконец, ее.Деталь. С любовью осматривал. «Принеси-ка, Село, паяльную лампу».
Сашка и Колька сломя голову бежали…
…Жена Коли-писателя, Алла Романовна, по двору всегда разгуливала в странномколоколистом коротком халате, пояс которого, вернее, полупояс, вырастал почему-то прямо из-под мышек и завязывался на груди большим фасонистым бантом, превращая Аллу Романовну в какой-то уже распакованный, очень дорогой подарок. Из тех, которые красиво стоят в раскрытых коробках на полке в культмаге на площади. Алла Романовна очень гордилась своим халатом. Советовала Антонине сшить такой же.
На своем крыльце Антонина распрямлялась с мокрой половой тряпкой в руках. Была она в разлезшейся кофте, в старой вислой юбке, галошах татарских на забрызганных грязной водой ногах. «Это ещё зачем?» И точно неотъемлемая часть её, матери, с таким жесмешливо-презрительным прищуром останавливалу крыльца и Сашка свой кирпич. «Это будет лучшим подарком твоему мужу. Вот!» – выдавала гордо Алла Романовна. «Чиво-о?»– Дворовая собака-трудяга смотрела на балованного развратненькогопуделька. Такая картина… «Да-да-да! – начинала спешить Алла Романовна.– Вот приедет твой Константин Иванович, вот приедет… а ты – в пеньюа-аре…» Она прямо-таки выцеловывала сладкое это словцо. Но увидев ужас в глазах глупой женщины, еще быстрее частила: «Да-да-да! поверь! поверь! И любить будет больше, и уважать! – И опять вытягивала губы: – Когда в пеньюа-а-аре…» В довершение всего она начинала как-то томно и как сама, по-видимому, считала, очень развратно… оглаживать себя. Оглаживать как бы самый главный свой подарок мужу. Однако как-то рядом с ним, по бёдрам больше, по бёдрам. Поглядывала на ошарашенную, с раскрытым ртом женщину. Как будто обучала её. Обучала её, деревенщину, искусству разврата…
Тоня с такой силой и поспешностью начинала шоркать крыльцо тряпкой – что во все стороны брызги веером летели. Алла Романовна скорее относила колокол свой подальше. Шарнирно выбалтывая из него ножками. Точно кривоватыми белыми палками. «Фи! Деревня!»
Однако когда офицер Стрижёв дежурил у разобранного мотоцикла – для Аллы Романовны менялось всё. Она знала, что её ждёт. Она шла, замирая сердцем, к белью своему, висящему на верёвке.
Нутро Стрижёва тоже сразу подтягивалось, напрягалось. Заголённые ноги в галифе начинали пружинить, подрагивать. (Так пружинят, подрагивают задние бандуры у гончака.) Он будто даже повизгивал!
Сашка и Колька сразу подавали ему деталь. Чтобы отвлечь. Ещё одну.Ещё. Не брал. Будто не видел. Отводил рукой. И вот уже идёт вкрадчиво к Алле Романовне. К этому пуделю. К этому пуделю Артемону.Ребятишкам становилось скучно. Стояли над брошенными деталями.Ощущали и их обиду. Стыдились за Стрижёва.
Стрижёв что-то бубнил Алле Романовне, торопился, старался успеть, выказывал большой охраняющий глаз. Алла Романовна хихикала, нервничала. Руки, сдёргивающие бельё, плясали, как пляшут бабочки над грязью. «Вы меня смущаете, Стрижёв! Хи-хи! Смущаете! Тут же дамское бельёвисит! Дамское бельё! Хи-хи! Разве вы не видите дамское бельё! Это же дамское бельё! Хи-хи! Стрижёв!» Стрижёв заглядывал за её большой квадратный вырез в пышных кружевах, как в коробку с тортом, бормотал: «Ну, вы же понимаете, Алла Романовна, я же, мы же с вами, как-нибудь, всегда,ради вас я, вы же знаете, не то что всякие там, мы же с вами понимаем, сегодня вечером,в десять, на уфимском тракте, никого, вы, мотоцикл и ветер, сами понимаете, я впереди, вы сзади, потом наоборот, вы впереди, я сзади, я же научу, вы же понимаете, кто не любит быстрой езды? Гоголь, сами понимаете». Алла Романовна вспыхивала и бледнела, быстро дыша. Ручки всё порхали над бельём. Белью не было конца. Всё шло и шло это сладкое взаимное опыление. Нескончаемое. Взаимное охмурение. Можно сказать, в райском саду…
Уходила на прямых, дергающихся ногах. Высматривала, кокетливо обскакивала лужи, грязь. Стрижёв высверливал правой ногой как рыбацким буром.
Возвращался к мотоциклу. С будто закрученным мозгом. Который колом вышел наверх, приняв вид его прически. Когда он брал у Сашки деталь,руки его подрагивали.
Вечером мотоцикл начинал трещать. Испытательно. Стрижёв словно наказывал его. Как хулигана за ухо выкручивал. Мотоцикл выл, колотился.Будто на болоте Сашка и Колька выбирались из сизого, едкого тумана.Сбрасывал, наконец, газ Стрижёв, полностью удовлетворённый. Шёл одеваться. Кожаные куртка и галифе, острый шлем, большие очки. На руки – краги. Экипированный, ехал со двора. Сашка и Колька бежали, раскрывали калитку. Надеясь, что прокатит. Но тут – опять!
Зойка теперь. Щёлкает свои семечки. У своего дома. Женщина. Постоянно возле ворот – словно давно и упрямо ждёт своего суженого. Нестареющая, неувядающая… Стрижёв начинал подкрадываться на малых оборотах. Останавливался, широко расставив для баланса ноги. Как кот, черные начинал нагнетать хвосты. Дёргал, дёргал ими за собой, нагнетал. Зойкины виноградные грозди оставались покойными. В вечерней остывали прохладе. Зойка скинула с губы кожурки. Шелуха Зойкой была сброшена. Стрижёв покатился от неё как с горки, растопырив ножки, не веря. И – врубал газ. И – уносился вдаль. Как пика устремлённый.
Через минуту пролетал с длинной девахой за спиной. Точно с остатками лихой бури на конце палки. Никакого движения со стороны Зойки.Опять летел. Деваха ещё выше. Другая! Зойка не видит, лузгает семечки. А-а! С горя мотоцикл пропарывал городок и нырял всё в ту же рощу. И – опять тишина над рощей. И только вечерние слепнущие птички вновь принимались густо опутывать деревья солнечными тенькающими голосками.
В десять часов вечера выйдя из ворот и увидев Зойку – Алла Романовна сразу начинала спотыкаться. А та, как уже накрыв её, разоблачив, сразу кричала: «А-а! наряди-илась! Ой, смотри, Алла Романовна! Ой, смотри! Будешь измываться над Колей – отобью-ю! Ой, смотри-и… Ишь, вырядилась…» Алла Романовна топталась на месте, хихикала. Топталась словно по разбитой, перепуганной своей злобе, которую никак не удавалось собрать обратно воедино, чтобы злоба опять была – злоба, злобища. «Да кому какое дело! Кому какое дело! Хи-хи-хи! Разве это касается кого!» А Зойка всё не унималась, всё корила, всё мотала своим виноградом: о-ой, смотри, о-ой смотри! «Да пожалуйста! Да забирайте на здоровье! Да кому какое дело! Да хи-хи-хи!» Забыв про Стрижёва, она частила ножками обратно, во двор, домой. И почти сразу, теперь уже в раскрытое окно Новосёловых— из соседнего по стене – испуганно заскакивал Колин голосок: «Алла! Опомнись! Что ты делаешь! Не надо! Больно же!» – «На! на! на! – придушённо шипела «Алла»ибила Колю, видимо, чем ни попадя. – На! на! Урод очкастый! Будешь жаловаться всякой твари, будешь?! На! на!»
Антонина холодела, вскакивала. Кидалась, захлопывала окно. Не в силах отринуть всё, растерянно замирала,вслушиваясь. «Мама, а чего они?..» – «Рисуй! рисуй! Не слушай!..»
А ночью начинали драться внизу. Мылов и Чёрная. Дрались жутко, на убиение, на полное убийство. Как дерутся слепые. Затаивая дых, бросая табуретки на шорох, на шевеление. В полнейшей тьме. Точно задёрнув шторы…
«Да господи, да что за гады такие кругом! Да что за сведённые!» Антонина стучала в пол. Выбегала, барабанила в окно. «Вы прекратите, а?! Вы прекратите?!» За тёмным стеклом разом всё проваливалось. Точно в подпол.
Утром в упор не видела Аллу Романовну, не здоровалась с ней, уходящей к воротам, хихикающей. Но когда Мылов сходил со своего крыльца – бежала к нему, стыдила. Грозила милицией, заступала дорогу.Мылов начинал ходить вместе с ней, как на танцах, сжимать кулачонки, трястись. Расквашенным шамкал ртом: «Я тебе не Порченый, не-ет. – Танец не прекращался. Оба ходили. – Я тебя, стерва, тоже ува-ажу. Будешь встревать…» Теряя голову, Антонина хватала палку. С напряжённой спиной Мылов бежал. Ворота начинали казаться ему ящиком без выхода, он залетал в него и долго тарабанькался, прежде чем выскочить на улицу. Чёрная не выходила. Чёрная наблюдала в окно, сложив на груди руки. Потом задёргивала штору.
Двору являла себя к обеду. После ночной драки – гордо смущалась.Как после полового акта, о котором узнали все. И который был полностью недоступен остальным – ущербным.Отомкнув пудовый замчина на двери сарая, заходила внутрь. Шла с корзиной волглого белья мимо женщин. Шла всё с тем же гордым, завязанным в темный платок лицом, в котором не было ни кровинки, но и не единой царапины, Ни Единого Следа. После ночной драки… Да-а, испуганно удивлялись женщины-коммуналки, да эта башку оторвёт – не моргнёт глазом! Боялись её до озноба, до мурашек в пятках. Растерянно глядя ей вслед, храбрилась одна Антонина: «Я им всем покажу! Они меня узнают!»
Константина Ивановича машина сбросила у самого въезда в городок, и он заспешил по вечерней пустой улице. Устало впереди над дорогой свисало солнце, похожее на усатый, веющий глаз старика.
Антонина в это время плакала в своей комнатке коммунального второго этажа. Приклонившись, она сидела к окну боком, точно слушала за окном опустившуюся полутёмную яму, из которой солнце давно ушло.
Константин Иванович свернул на другую улицу. Солнце засыпающе моргало меж деревьями, и он почему-то в беспокойстве поглядывал на него,поторапливался, точно боялся, что оно закроется совсем и упадет. Просвечивая свои красные горла, тянулись к солнцу в щелях, прокрикивали засыпающие петухи. Точно ослепший, у забора сидел и бухал пёс.
Неслышно, как дух, Константин Иванович тихо радовался у порога.Антонина увидела, вздрогнула. Хватаясь за спинку стула, поднялась, шагнула навстречу, тяжело обняла мужа, отдала ему всю себя. «Ох, Костя, что ты делаешь с нами! Мы ждём тебя с Сашкой! А ты… а ты… – Антонина глухо рыдала, освобождаясь от муки. – Кругом одни сведённые! Одни сведённые! Дерутся, мучают друг друга! А мы тебя… мы к тебе… Мы тебя любим! Костя! А ты не едешь! Почему рок такой?! Почему люди мучают друг друга?! Почему?!О, Господи-и!..»
– Родная! Ну что ты! Зачем ты изводишь себя? Всё образуется, наладится!
Удерживая жену, Константин Иванович пытался ей налить из чайника воды в стакан. Рука Константина Ивановича – ограниченная пространством,словно внезапно загнанная в угол – тряслась, вода плескалась мимо стакана.Константин Иванович всё старался, торопился. Словно от этого сейчас зависело всё…
По улице, где только что прошёл мужчина, пылающая бежала лошадь,не в силах вырваться, освободиться от телеги. Телега, словно ожившая вдруг,тащимая, неотцепляющаяся власяница, махалась, жалила бичами. И, как навеки привязанные, убегали за ней два пацанёнка. Обугливались, вспыхивали в обваливающемся солнце.
33. Всё то же наше общежитие
За спиной, в общаге, пропикало семь. Автобус не шёл. Вокруг фонаря спадал снег. Подобно деревцам – вразброс – стояли в этом мартовском тенистом снеге пэтэушники. Полуодетый, запахиваясь полами пальто, Новосёлов собирал в чуб снег, как поп брильянты в митру. Со сна добрым, пролуженным голосом говорил пэтэушникам: «…И столы привезли, и мячики, и ракетки. Профком, наконец, раскошелился. Нажали. Всё у меня лежит, на пятнадцатом. Сегодня вечером и поставим у вас на этаже три стола. Ну, и один Дранишниковой кинем, в «Красный» (уголок)…
Пацаны оживились. Точно схваченные одной тайной: кинем, значит,Дранишниковой, в «красный». А Новосёлов уже говорил О Клубе. Об атлетическом. О клубе атлетов. Где можно будет мышцы покачать. И человека нашел. Мастер спорта. Мировой мужик. И недалеко живёт. Два раза в неделю сможет приходить, показывать. Сразу согласился…
Говорить было больше вроде не о чем. Немного стеснялся ребят. Ожидающе поглядывал на дорогу. А автобус всё не шёл.
Наконец, вывернул. Всегдашний «Икарус». Взболтнув снегом, как пухом, пэтэушники разом снялись. Полетели. Мгновенно облепили автобус со всех сторон. Словно где-нибудь в Мадриде быка. Везлись с ним. Что называется, на рогах его, словно сламывали на колени. И разом остановились, укротив. И выворачивали весёлые головёнки к Новосёлову, мол, как мы его сегодня сделали? И подбежавший Новосёлов, как распоследнейший какой-нибудь «тарера», ругал их распоследними словами. Словно показывал и показывал им главную их ошибку, пожизненную их глупость. Пэтэушники улыбчиво прислушивались. (Так прислушиваются к работающему мотору.)Ждали момента главного – когда откроется дверь… И – начиналось!..
Даже не пытаясь раскидывать, Новосёлов пошёл к крыльцу. Злился,ругался. Не мог он смириться с этим всем. Ежедневным, неистребимым. Не должно быть так, не должно! Нельзя так! Связывалось это всё опять во что-то глубинное, касающееся всех, всех живущих в общежитии, но никак не дающееся. Чему названия, слов Новосёлов не находил. Но что задевало постоянно, мучило.
Он раскрывал перед Кропиным руки, подходя: «Ну зачем они так, а?Зачем?»Раздетый Дмитрий Алексеевич смеялся, похлопывал по плечу, успокаивал. Распахивал даже парню дверь. И Новосёлов заходил с досадливой возбужденностью человека, не исполнившего, не смогшего исполнить простого дела, смахивая весь брильянтовый снег с головы.
Опять рычали трубы на этажах. С яростным расхлёстом в холл вбуривались. Говорить в здании было невозможно. Новосёлов и Кропин задирали головы как в тропическом лесу. Где кругом лианы. Нужно было что-то делать с Ошмётком. Это определённо. Дальше терпеть такое нельзя. Сколько можно!
Как на грех – сам Ошмёток мелькнул. Ночевал, что ли, здесь? Новосёлов побежал. Пометался, подёргал по туннелю двери. Вернулся. Нету! Провалился! Комиссию бы, что ли, какую. Акт составить. Как вы думаете, Дмитрий Алексеевич? Как выкурить этого гада?
Через полчаса, Новосёлов с двумя собратьями из общежитского Совета(тоже отдыхали) – пошёл по этажам.
Заходили в общие кухни. К женщинам. Озабоченно слушали трубы.Как будто не видели их и не слышали никогда. Комиссия всё же. Еще одна.Своя, справедливая как бы. Открывали кран. Сразу виделся эпилептик. В жуткомсвоёмперд…е, в мочеиспускании. Понятно. Закрывали кран.
Женщины комиссию не замечали. Ставили кастрюли, поджигали газ.Все бесстрашные, врубали краны, удерживая над ними чайники. Ходили по тараканам, как по подсолнечнику. Комиссия смущалась. Винилась словно бы за всё.
Шла дальше. К следующей кухне. Чтобы и там послушать и понаблюдать. За кранами.
Несколько раз мелькал Ошмёток. Тогда – бежали…
В обед ругались с Силкиной. В её кабинете. Из-за труб, из-за Ошмётка. Да из-за всего! Больше, конечно, Новосёлов размахивал руками. Два собрата только сидели на стульях. Оба красные. Вроде красной поддержки. Кончилось всё такими словами:
– …Д-да! Пока мы здесь командуем, мы, а не вы! Д-да! И это запомнить надо. Д-да!
– Кто это – «мы»?
– Мы – администрация, москвичи!.. Вот когда станете… настоящими…москвичами… Тогда посмотрим… А пока… Д-да!
– Что же мы для вас… быдло?.. За ваши липовые прописки, за ваши общаги… за колбасу вашу…
– Ну, вот что… Новосёлов… Вы за эти провокации ответите… Вы…Эту демагогию вы ещё вспомните. Локти будете кусать. Локти!..
Силкина ходила, зло втыкала в пол свои стройные ножки.
Нырова украшала стол начальницы карандашами. В пластмассовых стаканчиках. Два стаканчика было. И пучки очинённых карандашей из них.Справа ставила. И слева ставила. Поправляла. Любовалась. Стол закинулся как идол.
Однако ходящая Силкина стол свой забыла напрочь. Совсем даже не беря его в голову. Какой стол? Какие карандаши? О чём речь, товарищи? Когда – тут – тако-ое!..
В коридоре собратья тоже замахались кулаками. После драки они.Возбуждённые. Мы ей покажем! Но больше шёпотом старались, шепотком.
Подхватили Новосёлова, повели. Можно сказать, понесли.Как большой портрет. Новосёлов боялся только одного – не захохотать. Оставил их у лифта.
Спустившись к вахте докладывал Кропину. И старик, сразу сосредоточившись, активно впитывал в себя всю глупость, переживательно набирался ею весь, и только выбулькивал пузырьки её: да, да, конечно, да…
Потом молча пили чай. За кропинским столиком. Словно распустив в глазах коричневое задумавшееся отдохновение. Трубы дрободанили меньше. Общежитие было уже полупустым.
Вечером, как обещал, Новосёлов собирал, ставил с пэтэушниками столы. Потом натягивали сетки. Пэтэушники сразу начали робко клевать столы мячиками. В нетерпении выхватывали друг у дружки ракетки. Клевали. Словом, дело пошло. На Вылет, чтобы поскорей получить его, выстраивались в очереди. Как в какие-то толкающиеся, шумливые справедливости. Тесненько кричали из них. С шейками сизыми, пустенькими, как у птенцов. Дали даже Новосёлову попробовать, и Новосёлов, он же Новосёл, довольно ловко щёлкнул несколько раз. Смеялся, когда оттолкнули от стола.
Собрав инструмент, довольный, ушёл.
Минут через десять тихонько постучал к Серовым в дверь. Дождавшись голоса, вошёл. Серов несколько испуганно повернулся от стола, точно спрашивая – в чём дело? Под светом лампы у него – рукопись. Его рука с шариковой ручкой на ней. Катька и Манька спят на тахте. Жена – вяжет возле торшера. – В чём дело?
Однако Новосёловумилялся. Подсаживаясь к столу, оберегал теплоту в себе. Как хорошо. Семья. На тахте спят дети. Жена в углу вяжет. Тишина,покой. Счастье. Осторожно сказал, что – завидует. Чему? – совсем перепугался Серов. Ну, что вот так можно. Писать. Что рукопись. Править её. «Да ты что, Саша!» Серов вскочил, как будто только и ждал этих слов от друга. Забегал: «Да мы же несчастные люди!..» Евгения остановила его, кивнув на детей. На миг открыла свои счастливые глаза Новосёлову. Саше. Выдернула на пальцы нить из-под кресла. И снова склонилась над пряжей, не отпуская улыбку…
А Серов теперь не узнавал жены. А, да что там! Схватил пепельницу, потащил Новосёлова к двери. Ужасающим шёпотом кричал в коридоре, увлекаяНовосёлова к дальнему окну: – «Мы же несчастные, больные люди – кто пишет. Саша! Больные! Мы же живем только, когда что-то сочиняем. Это же трагедия! Ты же счастливый человек, Саша! Тебя бог не покарал проклятым этим ремеслом. И – завидуешь…»
Прикуривая от спички Серова, Новосёлов скептически посмеивался.Кокетство, брат, кокетство. «Да какое кокетство?! Мы же выдумываем себе жизнь, Саша, выдумываем, а не живём ею! Клянусь!»Серов сел на подоконник. Небрежно кинул ногу на ногу. Как если б чёрный лис небрежно кинул свой богатый надоевший хвост. Небрежничает Серёжа, небрежничает с собой. Курили, разговаривали, подтрунивали друг над другом. Новосёлов рассказал про пэтэушников. Как бежал за ними сегодня, когда те чесанули к автобусу. Бежал за всем гамузом. Сейчас, поздним вечером, когда души были рядом, примирены и отдохновенны, всё это казалось глупым. Анекдотичным,смешным. Смеялись оба до слез.
За окном вдали, на тёмных домах, умирала мишура огней. Внизу, у общежития, кометами проносились машины. Там же глотал тьму брошенный светофор.
Пора было на боковую. Одному рано вставать, другой завтра отдыхает, можно и почитать часов до двух.
Пошли.
Женя всё так же вязала. Девчонки в пижамках, как павшие скороходы, лежали в разных концах тахты. Серов накрыл каждую тёплым одеяльцем. Потом, засунув руки в карманы трико, ходил по комнате. Невольно вспоминались слова Новосёлова о счастье.


