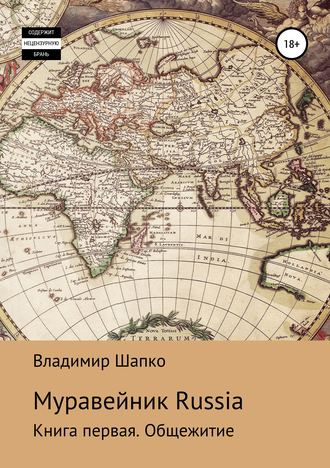
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
В своих окнах, рядом, как в чернозёме старых картин, проступали лица Обещанова и Кулешовой. Кулешова сидела, сложив руки на груди, с зобом подобная Вавилону. Длинненьким вьюнком завивался дымок от самокрутки Обещанова в его скольцованных пальцах. Рождаемые отдельно, слова стариков падали во двор и словно только там начинали звучать, соединяться в какой-то смысл…
– …сотенные-то – целые скатерти были. Помнишь, Никифорна? Возьмёшь её, бывало, в руки – вот такие ноли на тебя вылупились, глядят! Вот это деньги были! А сейчас…
Падали слова в основном из одного окна…
– …пока кукурузный початок-то наш Коммунизьм из трибун городил – те-то ой как далеко ушли. Догони их сейчас и перегони!.. А у нас зато теперь их СТОПЫ на всех дорогах стоят. Английскими буквами. Ну как же, – вдруг иностранец какой на машине через Сикисовку пролетит? Турист? Миллионер? А у нас – СТОП. Пожалуйста. Не забывай родное. А, Никифорна? У них там вся Америка со стопами-то этими разгуливает, демонстрирует (и когда только, черти, работают?), ну а мы его, миллионера-то, тут стопом родным и погладим. А, Никифорна? Хе-хе…
В репейнике ребятишки бесстрашно трясли снизу куст, вышугивая из него настоящего шмеля. Кулешова кричала им, вывесив во двор зоб… Садилась обратно, на стул. Сама говорила.Говорила о дочери, плакала…
– …да был я там, где дочь-то твоя… Чего ж ты хочешь – в черте города всё… И свинцово-цинковый, и титано-магниевый, и ещёкакие-то комбинаты едучие… Идёшь по городу – навстречу земляные люди идут. Во как! Многим только по сорок, сорок пять – и земляные все. Молодые-то ладно ещё – бледненькие пока только. А эти – будто из земли вылеплены. И лица, и руки. Город земляных людей. Новая порода выведена. Местным воздухом, местной водой сотворённая. Да всё – овощи, фрукты, мясо, молоко – что ни возьми – отравлено! Чего ж ты хочешь? Потому и болеет она всё время… А у нас разве лучше? Вон они – до неба стоят. Сеют. Разумное, вечное. Зелёного листа на дереве за лето не увидишь (всё как курами обгажено), зелёной травы. Вон – репьи только и цветут…
Во двор вылетал плевок. Из своих же бычков, натруханных в железную банку, Обещанов сворачивал новую самокрутку. Курил. Пока Кулешова опять кричала ребятишкам, смотрел вдаль на Маркин школьный тополь на взгорье. Тополь блистал, несмотря ни на что. Был невероятен в своем обличии. Как пропившийся вельможа в ободранном золотом камзоле. Обещанов возвращал взгляд, вспоминал о зря прожитых годах своих, о днях из них, о целых месяцах, которыми он, как зерном, усыпал дорогу из дырявого своего, бестолкового кузова… Не докурив, забивал самокрутку в банку. Говорил «пока, Никифорна», уходил от окна, валился на кровать, закидывая руки за голову. И так, словно не понимая ничего в этой жизни, долго таращился в потолок чистыми стариковскими фарфоровыми глазами. Нервно шмыгал носом. То одной его ноздрёй, то другой. Точно сгонял, вспугивал комаров.
Двадцатого числа каждого месяца Обещанов доставал из-под кровати патефон. Тряпкой смахивал с него пыль. Как очковую змею за голову, брал головку патефона и, точно сдаивая яд, втыкал острым зубом в подпольную, пятидесятых годов рентгенпленку. После волнами заболтавшегося шипа, сахариновый, одесситски-приблатнённый голос пел: «И после драки, когда все уже лежали на фанэре…»«Гуляет, – услышав через стену, говорила Мане Кулешова. – Пенсию получил. Миллионер на сегодня». Марка и Толик лезли к раскрытому окну смотреть на Обещанова. На двух вилках, как на шампурах, Обещанов подносил им по толстому кусману обжаренной колбасы. Возвращался к столу, выпивал из стакана, жадно ел. А головка патефона ехала, рулила, болтала шип, музыку и слова:
…И после драки, когда все уже лежали на фанэре…
Марка и Толик жевали, разглядывали всё в комнате. Облупившийся, проступивший лишаями шкаф, кровать у стены с коротким тощим матрацем, с выглядывающими досками; тряпичный провисший коврик над ней, на котором были три охотника: один что-то рассказывал, растопырившись, как испуганный рак, другой сидел на пятках прямо, слушал говорящего, и глаза у него были как лупленые яйца, а третий недоверчиво почёсывал затылок, опрокинувшись на бок, как улыбающийся самовар… Ещё было в комнате три табуретки, стол, за которым Обещанов сейчас жадно ел, и возле крана и раковины, наваленный на столик в клеёнке до пят – разный шурум-бурум из сковородок и кастрюлек… Обещанов опять подносил на двух вилках. Глаза его были добрыми-добрыми. Большой нос его тоже добро пошмыгивал, а волоски на голове походили на проволочные загнутые машины. Которыми сено в деревне сгребают. На лошади…
Чуял ли носом Шанин, телепатом ли был – но уже поторапливался по горбу дороги к бараку. Планировал будто бы, планировал в репейниках – рабочая куртчонка только разлеталась.
К Обещанову хлопала дверь. «Сергеич! Сколько лет!..» – «А-а! Пётр! Проходи, проходи! Дёрни с устатку! Закуси!» Рука с наколотым на ней поблекшим кинжалом, обвитым змеей, тянулась к патефону:
…И после драки, когда все уже лежали на фанэре…
«Гуляют, – не забывала отметить Кулешова, разматывая пряжу с Маниных рук. – Теперь уже вдвоём. Молодой паразит прибежал опивать старика-пенсионера». А на подоконник Обещанова снова облокачивались, удобно устраиваясь, Марка и Толик.
…Собутыльники тянулись за столом друг к дружке, как весёлые волки,не видевшиеся сто лет. Они одновременно говорили и лепили друг дружке руками. Булькало в стаканы постоянно. И из первой бутылки, и уже из второй. И в резиновую колбасу всё так же с размаху втыкались вилки… Но через полчаса Обещанова за столом уже не было. Закинувшись на кровати, с раскрытыми ручками и ножками, он деревенел подобно деревянным козлам. Отвернуть их к стенке, опрокинуть как-то на бок – не было никакой возможности. Шанин пробовал. Дёрнутся только, помотаются и замрут в прежнем положении деревянных… Шанин за столом жевал, не сводя глаз с кровати. Через спинку кровати были перекинуты брюки. Шанин смотрел на них, жевал, вихлял челюстью. Жилистые ушки Шанина напряжённо двигались…
Потом он крался на цыпочках к двери. В волосатых соплах носа Обещанова гремел гром. Ребятишек на окне давно уже не было.
Пьянка продолжалась три-четыре дня. К Обещанову Шанин прибегал как домой. Как к жене на обед. В радостном нетерпении облокачивался на столешницу. Обещанов не столько пил уже, сколько – падал. От одной, двух рюмок. Падал на свою кровать. В перерывах горько плакал за столом, что столько пропил денег. Почти всю пенсию. А может, потерял, а? Обронил? Не мог пропить он столько денег, не мог! Не мог, согласно кивал собутыльник, с разъехавшимися локтями на столе, в магазине вынули. Точно. Не плачь, Сергеич, проживём. У свояка полный подвал картошки, сало… это…как его?.. свиное – проживё-ом, не горю-юй…
В коридоре Кулешова тыкала во втянутую головёнку Шанина кулаком. Как в измятый чикой пятак. Тыкала. «Но-но! Никифорна! Хватит! Я знаю что говорю!» Длинная тень, шарахаясь в стороны и тут же выравниваясь, быстро несла себя к выходу из барака…
Вечером он стоял прямо на дороге, которая бежала мимо барака вниз.Длинный, качающийся, слушал друга-коротышку. Коротышка друг размахивал руками, быстро рисовал ими рай, который ждёт их вон в той хибаре с вывеской «Вино». Наискосок, через дорогу. Шанин пьяно ему кивал. Потом толкнул пятерней, как бы сказав: щас будут (деньги)! Жди! И пошёл как всегда – очень быстро и мелко. Длинный, растопыривался руками. Его заносило как аэроплан. Он выруливал на маршрут. Снова шустрил ногами, раскинув руки.
И к бараку выбежал так же быстро. Но уже весь наперекосяк. С вытянутой левой рукой и провалившимся правым боком. Так выбегают балеруны из-за кулис на сцену… «Э-э, – говорила Кулешова в окне. – Надрался-таки!» Торопясь, выколыхивалась из комнаты и вставала у двери Обещанова. Унимающей сердце горой вставала на защиту пенсионера. Попробуй теперь сунься!
Но Шанин в коридоре вёл себя странно: вместо того, чтобы подступаться к Кулешовой, бить себя кулаком в грудь – он продвигался вдоль стены боком, ощупывая стену обеими руками. Кулешова наблюдала. «Э-э, шаг шагнет и пуд насерет…» А Шанин и вовсе замер. На одной из дверей. Словно не могилке. Раскинув руки… Рывками медленно сползал, сползал по ней. Точно сдавал и сдавал плацдармы. Оказался на полу. Но на полу сидел поразительно. Как наложенная кучка г… без ног. (Куда ноги-то девал?) «Ноги отнялись»(Улетели?)… – удивлённо говорил Надьке, дочери своей. Надька тащила его в комнату. «Так тебе и надо, паразит!» – шла к себе Кулешова.
А Шанин мотался уже на стуле. Среди семьи. По привычке требовал закуски. Потом, убедившись, что бутылки в карманах нет – пожрать. Просто пожрать. Без водки. Никто не обращал на него внимания. «Вот счаспоброюсь— и пойду!..» – с угрозой говорил жене Шанин. (На танцы? К бля…м?)Жена подёргивала из папироски. Кормила грудью сына. Тогда падал.
…Второй его вариант выбивания денег был такой: он не входил – он влетал в комнату жертвы в рабочей своей куртчонке, в куртчонке-разлетайке!Он – вот прямо с работы, он отпросился всего на пять минут. Мечущееся лицо его напоминало самурайский флаг с колёсковойэмблемкой. Он кругло выкатывал перед жертвой глаза, что— завтра! что – железно! без булды! Напорно, мощно звучал из него гимн пьяного. И устоять против него было невозможно. И, обмирая сердцем, зная, что не отдаст, – ему давали. И сколько бы он внаглую ни запросил.
– Завтра – железно – без булды!
Он улетал за дверь, а в комнате унимали сердце, с испугом удивлялись самому (самой) себе: как? почему отдал (отдала)? Притом своими руками?..
Однако приём этот железно работал только тогда, когда Шанин бывал на газу. На взводе. У трезвого – как отрезало. Гимн не звучал. Это чувствовали. Никто не давал. Да ещё насмешничали. Да с превосходством, да с подковырками!..
Как выпил, – продолжить? – ничего нет проще! В первую же комнату. С выпученными глазами: железно! без булды!.. И выходил с червонцем в руках!
Кулешова кричала в коридоре Мане. (Но косилась на дверь Шаниных): «Ты зачем ему дала? Зачем ему дала? – Чувствуя, что выкрикивает двусмысленно, добавляла: – …деньги? Почему опять дала?» Маня винилась, что надо ему, им то есть, что на еду, он сказал, нет у них, так он сказал, что… «Да врёт он всё! Врёт! Пьянчуга! Да сколько ж можно его поважать? Прибежит, сбулгачит всех – и смылся! С деньгами! Да гоните его в шею!.. Вон Обещанов, старик, пенсионер, а пропился и молчит-сидит, не клянчит… а э-этот: дай! дай! дай! Да сколько ж можно поважать? Дашь ещё ему, узнаю – разговаривать с тобой не буду!.. И поважают его все, и поважают, паразита…» – шла ужё к своей двери Кулешова.
Взгляд блуждал по комнате. Не остывая, не знала к чему себя привязать, к какой работе. Решила… выкупаться. Чёрт вас всех задери! Смыть всю эту грязь с себя! В ведро лупанула из крана водой. На полную выкручивала скалящийся фитиль керосинки. Сидела посередине комнаты на стуле, ухватив руками расставленные коленки, дожидаясь, когда согреется вода. На подоконнике стояли три цветочных горшка. Горшки походили на выставленные черепа, поросшие вьюнами усов. Солнце сверху резало черепа надвое…
Льнущей лавой вода скатывалась в оцинкованное корыто. Корыто под топчущимися ногами стреляло. Кулешова в последний раз окатывала себя водой. Банным вытиралась полотенцем. Живот Кулешовой свисал как белый фартук. Над черепами на окне всплывали две головы. Гы-гы!..
– Ах вы, бесстыдники! Я вот вас сейчас!..
Марка прыскал и сползал вниз и в сторону от окна, скрючиваясь от смеха. А Толик, на завалинке встав уже во весь рост, удивленно показывал на Кулешову пальчонком. И бубубукал. По-своему. Точно призывал всех во дворе в свидетели. Мол, смотрите, какое чудо-юдо.
На цыпочках голая Кулешова подходила к окну, начинала поталкивать Толика, выглядывая наружу: иди, иди, Толик, играй. Но тот упирался, не хотел слезать с завалинки и тыкал пальчонком своим уже в живот Кулешовой. Изучающе. Будто в сырой лаваш. Кое-как спустив его на землю, Кулешова захлопывала окно, задёргивала занавеску. Марка и Толик смотрели друг на друга: один все смеялся и повторял слово «шкодина» («Ну просто шкодина— и всё!»), другой прислушивался к себе и поражался, что так грубо ссадили на землю. Хотел было запеть и лезть обратно… Но тут…
С колёсами мело по улице вниз грейдер. Будто уродливый какой-то Тянитолкай. Забыв про Кулешову, в следующий миг неслись во весь дух в надежде увидеть поближе. Но Тянитолкай свалился, ухнул с дороги вниз, весь перемявшись, и уже улепётывал каким-то проулком – горбом только подкидывалась кабина. И пропадал в домах совсем… «Прыг-скок! Прыг-скок!Я ма-асленый бок!» Марка начинал прыгать вдоль дороги на одной ножке.Смутно припоминал, что уже прыгал здесь когда-то так же. Только через что? (Через Дохлые Радуги! Вот же они! Никуда не делись!) «Прыг-скок! Я ма-асленый бок!» Толик тоже старался за ним, но всё время падал, как с отбитой ножкой оловянный солдатик. Так и прыгали вдоль дороги, будто одноногие инвалиды.
Друг за другом ходили опять по репейникам. Не ползали, а ходили.Как по саду садоводы. Без боязни раздвигали руками кусты, шли в глубь их и жужжали. То ли они – пчёлы, то ли они— шмели… Выносили на трусах и майках плотные колонии мелких репьёв, так же углублённо жужжа и растопыривая руки. Криков Кулешовой не слышали…
Когда, присев на корточки, разглядывали двух борющихся чёрных жуков, двух борющихсяг…возов, – на ходу припрыгивая, весёлой, гордой конницей мимо протанцевали соседские ребятишки. «Придурки играют! Два друга! Лёлин, привет! Толик, где твой Крёстный? Ха-ха-ха!» Марка меж колен низко опускал голову. А Толик дёргал его и показывал пальцем на танцующую густо меж репьев к дороге ребячью конницу. Мол, вон они – ребятишки! Голова Марки склонялась ещё ниже…
3. А я видел Дядю
Пучками и округлыми букетами на столе стояли цветы в банках и кефирных бутылках. (Маркин букет из пяти белых тюльпанов, смахивающих на стесняющихся чубатых сельских парней, терялся у самого края стола, был последним.) Учительница стояла над всеми цветами – как будто собралась их продавать. Как будто она – торговка на базаре, в цветочном ряду. Она поблагодарила за столь большое внимание к её персоне (то есть, выходило, за эти цветы) и поздравила класс с началом учебного года. Так как все молчали и только застенчиво улыбались, поёрзывая на свежекрашеных гладких сиденьях парт, – сама захлопала, создавая длинными ладонями как бы сильно пущенные лопасти винта. С жаром дети подхватили и долго не могли успокоиться. Потом Учительница спросила, как они провели лето, что видели интересного, что им больше всего запомнилось. В нетерпении все сразу начали тянуть руки в струнку, подпирая другой рукой локоть. В нетерпении трясли руками, локоть подпирая ладошкой. Целый лес нетерпеливых рук. Я! Я! Меня! Меня! Учительница по очереди разрешала. Маша… Надя… Эдик… Марка было тоже завыдёргивался с рукой со второй парты – и отстал. Потом снова не удержался: руку вытягивал как послание какое-то, как петицию, меморандум – и снова опустил.
– Тюков… – неожиданно разрешили ему.
– А я… а я… – Марка аж задохнулся от такого доверия и своей храбрости. – А я… я видел Дядю…
– Где? Какого дядю?
– Дядю… Возле дома, где молоток и коса…
– Какие молоток и коса! Что ты мелешь опять? Какие?!
– Молоток и коса… Скрещенные…
– Ха-ха! Это серп и молот, что ли? Дети! Слышали? «Молоток и коса!»
Весь класс заливисто смеялся. Ну, этот Лёлин! Ну, Тюка! Ну, сказанёт!
Учительница смотрела на Марку. Длинные колокольные локоны сорокапятилетней женщины были неподвижны, свисали. У неё не было своих детей, своего мужа. Чужие мужья были. Белые сморщенные щёки её походили на пересушенные после стирки скатёрки. Ну что ты ещё скажешь? – смотрели на Тюкова бесцветные водянистые глаза в красных ободах век. В которых проступала непреодолимая брезгливость к этому… недоделанному мальчишке… Где? Когда видел? Чем поразил его этот… «дядя»? – Темнота-а.
Марка молчал. Он ощущал себя так. Он как будто навалил кучку, а на неё слетелись мухи. Зелёные мухи. А он стоит рядом и наблюдает. Как бы он— и кучка, и ещё – наблюдает. Отделился. От кучки. Рядом стоит. Не кучка как бы…
– Садись! – махала рукой Учительница.
А дети, после досадливой этой задержки, ещё с большим нетерпением завытягивали, затрясли ручонками. Меня! Меня! Я! Я! Вскакивали по одному, бойко докладывали.
Когда весь класс во главе с Учительницей проходил мимо Маркиного барака по дороге вниз – из репейника, как много теста, поднялось много головы изумлённого Толика. Марка сразу же отвернулся, стал смотреть в другую сторону. Но никто почему-то не заметил Толика в репейнике, даже Сарычев, новый Маркин сосед по парте, который и жил рядом с Маркой, вон, возле «Винного», через дорогу, и знал Толика… К слову сказать, Сарычев этот сразу на второй же день стал подбивать Марку подглядывать у Учительницы. Обзывал Бздуном. И ещё другими словами. Тогда Марка залез и добросовестно подглядывал из-под второй парты у Учительницы. Но ничего, кроме тощих, как раздатый хомут, ног, заканчивающихся чёрным тупиком… не увидел. Так честно и сказал Сарычевой голове, которая сунулась к нему под парту. Мол, черно и ничего не видно. Тогда во второй раз начал Марку Сарычев заставлять. И случился скандал – наверное, почувствовав дыхание Марки, Учительница вскочила из-за стола и страшно покраснела. Стала кричать Марке под парту. А он вылезал и показывал ей ученическую ручку. Мол, упала. Пришлось вот лезть. Стоял в растопыренной гимнастёрке, с уехавшей на грудь пряжкой ремня, что понурый конь с уехавшим седлом. А Сарычев, преподобный Сарычев, уже откинулся на парте на руку, злорадно смотрел со всеми – мол, каков субчик! Вот такой теперь сосед по парте у Марки оказался. Он и сейчас шёл и уже подталкивал Марку локтем, гыгыкая.Показывал на Шанина и его коротышку-друга, которые застыли, обнявшись, возле «Винного». Как одна, расставленная, но очень неустойчивая стремянка. Чтоб, значит, Марка побежал и подтолкнул их там. Чтоб, покачавшись, они упали на землю и оба переломались. А, Марка? Гы-гы! Подбивал, значит, опять Марку…Вредный все-таки этот Сарычев!..
Когда пришли к болоту, Учительница спросила, с чем можно сравнить крик лягушки (надрывалась там одна, дура), и Сарычев тут же зашептал Марке на ухо. И Марка сдуру, как безумный, сразу задёргался с поднятой рукой. Будто бы это его самого осенило. А Сарычев ещё выкрикивал Учительнице, что Тюков, Тюков знает! Тюков хочет сказать! Учительница разрешила, и Марка начал было барабанить, что крик лягушки походит на этого… на Крёстного… ну когда им… значит, это самое… потрёшь, значит… об ладошку… Но никто ничего не понял про Крёстного, все начали кричать, заспорили. И Марка только вытирал лицо платком и поглядывал на хихикающего Сарычева: да-а, Сарычев, подвёл ты меня под монастырь. Как всегда подвёл, гад. А одинокая лягушка сперва свиристела, а затем и впрямь будто бы тёрла в болоте резину. Свиристела и яростно натирала свою ладошку Крёстным.
Пошли всей гурьбой дальше. Вдруг увидели лошадь со спутанными ногами. Перескакивающую за травой как шахматы. Рядом курил хозяин лошади. Крестьянского вида старичок. Хмуро поглядывал на траву. Трава была цвета мочала. На вопросы сбежавшихся и окруживших лошадь детей – ничего не отвечал. Будто не видел, не слышал никого. «Товарищ конюх, что же вы не ответите детям?» – спросила его Учительница. Старик молчал. «Товарищ конюх, вы слышите нас?» Он и на этот раз не сказал ни слова. И только когда, несколько смущаясь, пошли от него, и Учительница от возмущения то покрывалась пятнами, то бледнела – вдруг вырвал клок этой травы и плаксивым голосом закричал Учительнице: «На, на, поешь этой травы, сперва поешь! А потом дальше учи своих доцентов! Поешь, сперва. Поешь! Мать твою за перетак!»
– Это ненормальный! Дети! Быстрее! – Класс уже бежал во главе с Учительницей. А старик всё махался пучком и выкрикивал вслед: «Поешьте! Поешьте! Эх вы-ы, доценты!»
Опомнились только возле остова грузовика. Того самого, в ржавой кабине которого Марка сидел когда-то, как в черепе. Так и покоящегося в почве. Походили вокруг ржавого этого железа, не понимая для чего оно, что с ним делать. (Марка хотел было сказать, что можно залезть внутрь кабины и потарахтеть, но сдержался.) Экскурсия, собственно, была закончена. Учительница оглядывалась. Так, кусты посмотрели, траву посмотрели, болото видели, лягушку послушали, ненормальный со скакающей лошадью ушёл. Больше на природе делать нечего, можно поворачивать назад, к городу. Тут, однако, увидели чудо – весь в золотистой пыли спешил комбайн вдалеке. Такой же неожиданный для детей, как лошадь до этого. И от удивления все смотрели на него. Смотрели как на сельскую избу. Сдуревшую вдруг и быстро поехавшую по полю. «Овсяные убирает», – пояснила Учительница. И тут, откуда что взялось, Марка Тюков вдруг сказал, что не «овсяные», а озимые… И добавил, как недовольный старик, что «овсяная» только кашка бывает… (Вот так Марка! Помнит, оказывается, стервец, свой корень! Отбрил-таки!) Учительница вскинула бровь. «Ну да – я так и сказала – озимые…» (Марка ухмылялся в сторону, давай, давай, дескать, заговаривай зубы…) «Ну, всё, всё, дети! Назад, назад – к школе!» Все с каким-то облегчением, как после нелегкого испытания, заспешили назад, к школе. И вся эта разбросанно спешащая по кочкам группка детей смотрела себе только под ноги. Словно торопилась к выдуто-громадной сажевой туче, заполонившей небо над заводами впереди, из дыры которой шёл отвесно вниз белый свет. Похожий на освещённый белый лаз наверх. В единственное спасенье. В рай. Длинно-белое лицо Учительницы плыло как несомое слепое знамя. Головёнки по бокам спешили, волновались.
Этой же осенью старуха Кулешова, собравшись-таки, поехала в Сибирь, к дочери своей болезной, пожить с ней, помочь чем можно – и Марка оказался беспризорным. Маня на работе изводилась, не знала как быть. Велела ему, в конце концов, приезжать к ней в кинотеатр. Прямо из школы. Зайти домой, перекусить, и на автобус. И чтобы с учебниками, с тетрадками, с ранцем! Марка с радостью согласился – дорогу к «Родине» он знал преотлично. Тем более что и Толика можно было брать с собой, тётя Неля всегда разрешала. Они выходили к дороге, влезали в полупустой 44-ый, садились впереди, по ходу движения. «Ученический», – важно говорил Марка, если в салоне бывала контролер. У Толика, увидев его большую голову, билета не спрашивали никогда. Так и ехали: один с проездным, другой бесплатно. Неотрывно смотрели в окно.
Трехзальный кинотеатр «Родина» находился в центре, у перекрёстка двух улиц: Карла Маркса и Чернышевской. Это было довольно величественное здание в стиле, если можно так выразиться, мини-Греции: с гладкими колоннами, вверху, как положено, красиво закудрявленными, на которых покоился треугольный, весь в красивой лепке, портик. Правда, и снаружи и изнутри весь изгаженный голубями. (Эдуард Христофорович Прекаторос, директор кинотеатра «Родина», каждый день озабоченно смотрел вверх под портик, откуда от драк голубей постоянно слетало перо, чередуясь с длинной малахитовой дрис… Эдуард Христофорович шарахался от помёта, всерьёз подумывал вызвать лихих тёток из Санэпидемстанции, чтобы занялись они этими голубями, чтоб как-то убрали, ликвидировали их, ну, скажем, как мышей, как тараканов… Какая-то хитрая старушонка повадилась продавать овсянку в маленьких кулёчках (кулёчек – рубль!), на площади, перед кинотеатром, как будто где-нибудь в Риме или, на худой конец, в Москве. Ну чтоб люди, побаловавшись с птицей, ощущали себя благодетелями. Голуби бегали, жадно клевали. За струями овсянки – кидались, грудились в кучу, растопыривались крылами, чтобы отвоевать себе хоть какое-то пространство… Потрясая кулаками, Прекаторос спешил к безобразию. Стаю сдёргивало с асфальта – как плащ. Старушонка с овсянкой улепётывала через дорогу, через трамвайные пути, к памятнику Чернышевскому, который – тоже весь обгаженный – стоял с крутящимся на макушке голубем. Старушонка присаживалась скромненько на краешек скамьи рядом с Мыслителем. Присаживалась пережидать. А Прекаторос всё грозил ей пальцем. Ему чудилось даже, что и на проносящихся трамваях – висят голуби. Как болельщики, едущие на стадион!.. Но это уже была, конечно, чистой воды аберрация. Проще говоря,искажалось немножко зрение у Эдуарда Христофоровича).
Площадь перед кинотеатром была небольшая: с одной стороны её отгораживала от квартала высокая кирпичная стена жилого дома, густо закрашенная коричневой краской, куда очень просилась реклама «Храните деньги в сберегательной кассе» (на самом деле позже туда повесили из составных фанер портрет Человека С Лошадиным Черепом и почему-то в тонких очках), с другой – под обрезанными сиреньевыми кустами протянулся ряд скамей с изогнутыми спинками. И наконец, прежде чем пройти к главному входу-порталу или левее и вниз к кассам сбоку здания, – можно было полюбоваться цветочной осенней клумбой в центре площади, – как свежеиспёченной коврижкой (а летом-то – тут настоящий пышный торт из цветов цвёл!).
В хорошую погоду на площади всегда бывало людей не мало. Как йоги, с закладной ногой к животу, воспаряли на второй ноге над скамьями молодые парни с раскинутыми руками. Их подруги рядом без конца стягивали юбчонки на коленки, будто на вызревающие дыни. (Так прикрывают от света быстро портящийся товар.) Расфранчённые младенцы талдыкались к протянутым рукам, лепеча, задыхаясь от восторга. Постарше ребятишки или лизали длинное, как язык, мороженое, или стоялицепочкой к железному крашеному ящику на колесиках с двумя бурыми колбами и выцветшим тентом над ними. (За падающим уровнем в колбах следили очень внимательно, как будто за аппаратом на станции переливания крови скорой помощи… «Мне же с тройным! Тётя!» – «А, чёрт тебя!» Пухлая, склизкая, как медуза, рука доливала из краника.) И возле глухой стены (где потом повесят Главу) стоял на высоком постаменте и задумчиво дул в продольную флейту греческий голый мальчик из бронзы…
Эдуард Христофорович ещё раз строго оглядывал всю свою мини-Грецию и, уже не думая о голубях, шёл к колоннам, к порталу, чтобы взойти по трем ступеням в храм. В Храм Искусства…
Между тем Марка и Толик, не обращая особого внимания на клумбу,на мальчика с флейтой и на колонны… спешили через площадь и вниз по лестнице, к кассам, где помещался Зелёный зал, где была мать Марки. Спешили, чтобы выпросить у неё денег, быстренько вернуться назад, на площадь, и купить два мороженых, длинных, как языки. В крайнем случае пристроиться к аппарату с колбами – и уж там по стакану ядрёненькой с двойным! Уж на это-то мать Марки, надо думать, денег даст?
Не тут-то было! Марку сразу же запирали в конторку учить уроки. А Толика Маня заводила в зальчик (Зеленый зал) на попечение Коли-Бельяши. Толик застенчиво вслушивался в себя, стоя напротив Коли. Голова Толика была как туман. Коля осторожно трогал её пальцами, явно завидуя. У него голова была размером всего лишь с толкушку. Да, всего лишь с небольшую березовую толкушку… Спохватившись, вручал Толику беляш. Толик с беляшом взбирался на сиденье. Рядом с дядей Колей.
Перед старинными часами Марка сидел как перед скучающим гробом.С места на место перекладывал на столе учебники, тетрадки. Унылое шло самовнушение: это я уже сделал, это вроде… тоже, по этому наверняка… не спросят, а это – ерунда, запросто. Когда слышались быстрые шаги матери – хватал ручку. Небрежно этак, запросто выделывал ею какие-то загогулины, каракули. Матери не видел – весь в работе… Маня почтительно прикрывала дверь. Снова висел на ладошке, с тоской смотрел на качающийся маятник часов: ну когда оно там накачается (время)? Отмучившись ровно полчаса, вылетал в коридор. «Сделал! Сделал!» – всё сметал на своем пути преувеличенной громкости голос. (Так подскакивают и голосят, чтобы их не трогали, на болоте чибисы-петушки, отвоевав себе крохотную территорию.) Сразу нырял в зрительный зальчик, как из-под сонного одеяла выдёргивал Толика наружу,и они торопились по лестнице к колоннам, к центральному входу, чтобы попасть, наконец (и мороженое было забыто), в большое единое фойе Красного и Синего залов. Здесь всё было интересней. Гораздо. И натёртый мастикой пахучий паркет, который так и хотелось понюхать (пробовали один раз с Толиком, вставали на коленки и нюхали, но контролеры… в общем, ладно), и кудрявые опять же колонны кругом, правда, квадратного вида, не круглого как снаружи. И ещё одна – только лепная теперь, белая и с люстрой посередине – пышная клумба, налепленная на потолок. И ряды сидений со зрителями под ней и перед эстрадой, где впереди оркестра всегда встает и объявляет музыку дяденька-скрипач, удерживая скрипку со смычком – как Буратино. И сам оркестр, закидывающийся трубами и бабабахающий размашисто по барабанам. И читальная раскрытая комната, где всегда над досками пристукнулись шахматисты и где здоровенные вуалехвосты походили на дворников с мётлами, подметающих в двух аквариумах. И тоже раскрытый, но приподнятый буфет, где ешь и всё видишь: и оркестр, и внимательные головы людей перед оркестром… А на втором этаже если? По двум мраморным лестницам, с двух сторон вестибюля можно было забежать на него – и четыре двери в два раздельных зрительных зала. В одном и стены, и лепные узоры по стенам, и потолок – всё синее (Синий зал), в другом – всё то же самое – только бордово-красного цвета (Красный зал). И там уже стаивает свет, и зрители, как по команде, как один, начинают дружно сдирать шляпы и кепки(до этого – все в шляпах и кепках!)… А если ещё снова сбежать вниз… Но… но однажды Толика увидел внизу Прекаторос. Одного. Стоящего возле колонны. (Марка забежал в туалет. Толик вдумчиво ждёт.) «Это ещё что за Бомбей тут стоит? – строго спросил у контролеров. – Чей он? Где родители?»Две пожилые женщины в коричневых форменных халатах с шитьем по груди зашептали ему с двух сторон, привстав на носочки. «…Всё равно – вывести и больше не пускать. Пусть они там, внизу, клуб свой устраивают. «Весёлых и находчивых». Есть у них там один – Постоянный Председатель…» Ушёл в кабинет, хлопнув дверью. Выбежавший из-за портьеры туалета Марка тут же был подхвачен с Толиком тётушками под локотки и выведен за остекленную дверь. Толик хватался за дверь, дверь нельзя было закрыть, поэтому пальцы Толика тётушки – отдирали… Постояв, Марка сказал: «Идём, Толик, нечего тут… упрашивать». Взял его за руку, и они пошли вдоль колонн, и стали спускаться вниз, к кассам, в свой Зелёный зал, где им и было место.


