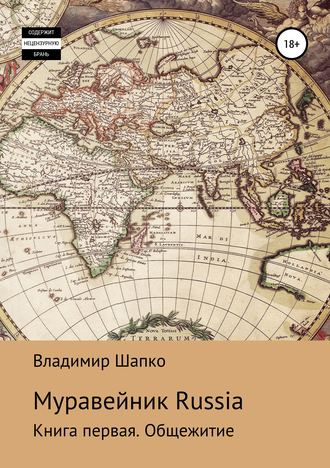
Владимир Мкарович Шапко
Муравейник Russia. Книга первая. Общежитие
И они заговорили. Теперь уже оба, одновременно. Перебивая друг друга. Это было состязание по разоблачительности. Соревнование по сарказму. Упражнения в едкой желчности. Новосёлов и Кропин не могли так. Сидели, несколько стесняясь. Они ведь были больше практики, работяги, волы. Не интеллектуалы, нет, не говоруны. Завидовали. Ишь, как шпарят. Что один, что другой. Иногда тоже пытались что-нибудь сказать. Может быть, вставить умное словцо. Раскрывали даже рот… но всё уже проносилось мимо. По-заячьи, быстро. Как мимо плохих охотников. Толькоружье-то, значит, к плечу – а уж и меж ног твоих пронеслось! И где-то уже вдали теперь. И топчешься. С ружьем-то, значит. Куда теперь стрелять?.. А то и просто не давали им говорить: молчите! Мешаете! Спугиваете только! (Зайцев, значит.)
Первым отвалил на кухню Кропин. А за ним и Новосёлов погодя. Мыли посуду. Это дело было привычным, успокаивало. Говорили о философах. Посмеивались.
Однако записным говорунам, профессионалам, без слушателя, без зрителя с раскрытым ртом – не жизнь. Минут через десять начали скисать и как-то жухнуть. Пришлось идти на кухню. И в тесной кухоньке снова было всё взнялось: и обличения пошли, и боль за Россию, за страну, и с хрустом грецкого ореха опять пошёл разгрызаться сарказм, но… но Серову уже явно хотелось курить. И Новосёлову— тоже. Стояли, переминались. Точно в очереди перед маленьким туалетом. Кропин догадался, сказал, что можно курить прямо на кухне. Ну что вы! Разве тут можно! Глядели на свесившуюся плешь Кочерги. Которую можно было, наверное, прировнять к бесценному пергаментному манускрипту. Из какой-нибудь кунсткамеры… Нет, мы лучше уж на лестнице. В ведро высыпали горелые спички из баночки. С пустой баночкой пошли.
Задымили, наконец, на площадке.
Дверь из квартиры напротив приоткрылась, и снизу тряско выбежалчей-то кобелёк. С болтающейся чёрной чёлкой. Как Гитлер. Побрёхивая втихаря, ритмично обежал площадку и так же, взбалтывая чёлкой, убежал обратно. Вот так номер цирковой! А в образовавшейся щели остался стоять старичок. Точно чтобы дать рассмотреть себя. Вороток рубашки его был пожёван, застёгнут на верхнюю пуговку. По-деревенски… Он зачем-то сказал: «На место… Дин…» Он стоял в приоткрытой двери, словно в приоткрытой книге. Которую никто не хотел читать… Парни поспешно поздоровались с ним. Он тихо ответил. Прикрыл медленно дверь. Будто жилище свое. Будто жил в двери. Долго не щёлкал замком. Щёлкнул, наконец.
Гася папиросы, посмеиваясь, парни пошли в квартиру Кочерги. Занятный старичок. Запоминающийся! И кобелёк его тоже!
Потом все вернулись в комнату. Где абажур уже светил. Где абажур был как перс. Пили чай из сервизных чашек с блюдцами. Разговаривали. Наконец парни поднялись, чтобы прощаться. Кочерга стоя ждал, когда найдут его руку, застенчиво улыбался. Как светящий себе, горбоголовый фонарик.Просил приходить ещё. Не забывать. Парни дружно обещали. В тесной прихожей вытягивались за плащами, топтали на полу много обуви. Кропин, смеясь, растопыривался, торопливо выдёргивал её из-под их ног, освобождал дорогу. Распрямившись, слегкаокосев от летающих белых мух, тоже отдавал на прощание свою костлявую стариковскую руку, запрятывая другой рукой за спину какой-то драный черевик Кочерги…
Луна приводила и держала в комнате дрожащие тени. Кочерга лежал среди них, словно среди тенистых льдин в ночном весеннем озере. В широко раскрытых глазах его, как в подводных царствах, всё было просвечено… Потом глаза закрылись.
…В облицованном кафелем помещении с тремя чашками света под низким потолком он опять увидел Ладейникова, привычно раскладывающего всё на столе… Как будто хирург готовился к операции. Доцент. Профессор. От болезни витилиго засученные пятнистые руки палача были цвета обнажённого нежного мяса. Галифе, удерживаемое подтяжками, висело оскуделой бабьей ж...... Он повернул к уже посаженному на стул Кочерге свой ласковый голос: «Позвольте, Яков Иванович, для начала вам галстучек повязать?.. Да не тряситесь, не тряситесь! Я нежненько, нежненько… Куркин, придержи-ка!..»
Через минуту – лежащий на полу, на спине, без воздуха – Кочерга подплывал в своей крови. Ладейников высился над ним, широко расставив сапоги. Обритая голова его была как пест в розовых лепестках роз. «Ну, как, Яков Иванович? Терпимо?»
Пятнистая нежная рука сняла со скамейки ведро – и в лицо, совсем убивая дыхание, ударила ледяная вода. Задыхаясь, вздыбливая грудь, Кочерга… проснулся. Или очнулся – не мог понять сам.
Тихо шарил на стуле лекарство, стараясь не разбудить Кропина, спящего возле тахты. Не хотел ни о чём думать. Пальцы никак не могли выковырять из пластины таблетку, тряслись. Выковыривал. Поглядывал на Кропина.
Круто закинув голову, точно сидя на вокзальной скамье, спал бедный Дмитрий Алексеевич на раскладушке. Как и Кочерга минуту назад, задыхался, видел нередкий для себя, Военный Сон. Во сне том, через равные промежутки времени, из пещеры принимался бить крупнокалиберный пулемёт. Бить угрожающе, поучительно. Срезанная длинными очередями хвоя осыпалась килограммами. Кропин вжимался в мох, охватывал голову. Потом на минуту повисала тишина… И опять будто прыгала в пещере устрашающая грохочущая сороконожка!.. Гадина, как до тебя добраться?.. Кропин услышал толчки. В плечо. А? Что? Проснулся. «На бок повернись, Митя, на бок!»Кропин ничего не соображал. «Извини». В раскладушке поднималось щебетанье, точно в птичьей клетке…
Луна ушла, пропала где-то в облаках, в комнате стало темно, но Кочерга по-прежнему не спал. Голову ломило. Особенно затылок. Голова ощущалась как большая, тлеющая изнутри батарея. Как большой, поедающий сам себя элемент… Снова шарил стакан, запивал какие-то таблетки. Измученно,как сгорая, торопливо храпел Кропин.
38. «Наш адрес не дом и не улица!»
Как кокон, стояло по утрам общежитие, завёрнутое в туман. За пустырем, за водоёмом вдали, напоминая пустые пеньки чирьев, еле угадывались в тумане три трубки ТЭЦ. Сам пустырь, убитый апрельским заморозком, лежал белым кладбищем стрекоз. Диким, всё сметающим кочевьем проносились стада крыс, мокро вытаптывая за собой, как выжигая, весь заморозок дотла. Не мог лечь, пугался земли грязноватый туман. Потом вылезшее солнце иссушило его – и раскидало по пустырю резко-ртутные одеяла из воды, капель, по которым уже ехали, взрывая их, как на лыжах с горы, большие растопыренные вороны. Из общаги на пустырь выбегал первый спортсмен. Бежал, радостно подпрыгивал, взмахивая пустыми ручонками, как взлетать пытающийся птенец, но пропадал где-то у водоёма, то ли утонув там, то ли проскользнув вбок. Сам водоём теперь при солнце – стал словно бы раскинутым, расправленным аккуратно платьем очень чистоплотной дамы (ТЭЦ), на природе сидящей и очень увеличенными, вывернутыми губами сосущей небесную благодать…
К девяти часам скромненько пришёл оркестрик с зачехлёнными трубами. Человек в девять. В одиннадцать. Суеверным нечётным числом пришёл. Как цветочный, как подарочный. Раздевая блестяще-никелированные трубы и баритоны, музыканты рассеянно поглядывали на здание общежития. Как на первого зрителя-дурака. Затем быстренько сдвинулись к центру, встали в кружок, оттопырив зады и вытянув шеи, приложились интеллигентно к мундштукам и дружно ударили, плоско стукая ступнями как гуси лапами. Тем самым создав себе уютненький, неистово загрохотавший музыкальный мирок. Барабан же с тарелками пристукивал от всех независимо, отдельно: иста-иста! Как эгоист.
Первым выскочил из общежития Кропин Дмитрий Алексеевич, полураздетый, сразу с улыбкой до ушей. Оглядывался, искал с кем бы порадоваться этому никелированному грохочущему празднику. Казалось, двинься, пойди оркестр – пошагал бы впереди него, не раздумывая. Этаким голопузым мальчишкой с деревянной сабелькой на боку. Вразнобой размахивая руками. Раз-два! раз-два! Однако вынесенный кумач на палках с двумя разинувшимися пэтэушниками был неустойчив, пьян. Металась воспитатель Дранишникова, строила пацанов, но те не строились как надо (в стойку «смирно», что ли?), таращились на оркестр, и старые известковые буквы «да здравствует» перекашивало на материале, жевало. Буквы словно осыпались к ногам мальчишек, и их нужно было собирать. Ещё один, забытый всеми пэтэушник носился с портретом на палке за спиной. С портретом Вождя. Подпрыгивал с ним, точно с воздушным змеем. Как будто хотел оторваться и лететь. Еле уловил его Кропин. Поставил рядом с барабаном. Получилась фотография времён Гражданской войны: оркестр бравых трубачей, опутанный кумачом, портрет Вождя возле барабана. Здорово! Прямо душа поёт! Кропин трепетно тряс руку вышедшему Новосёлову. Председатель Совета общежития однако был озабочен. Поглядывал на окна здания, прикидывал – как выгонять? Выковыривать как? Вздохнув, пошёл обратно к двери. Вышуровывать из комнат. Однако в первом же коридоре, завидев Новосёлова, люди начинали перебегать из комнатки в комнатку. Хихикали. Играли с ним, понимаешь, в кошки-мышки. И больше всех – девчата. Заигрывали как бы. Вспомнился сразу Давыдов-Размётнов. Его добродушные улыбки и слова. Когда его трепали, не в шутку лупцевали женщины. Да что же это вы, товарищи-женщины, делаете со мной! Ведь умру сейчас от щекотки! Дорогие вы мои! Ха-ха-ха!..Выводил из комнаток. Ничего. Сначала шли. Чуть останавливался по делу, говорил с кем-нибудь – бежали. На цыпочках упрыгивали. Да что же это такое, дорогие вы мои! Приходилось снова выводить – вести под руки.
Тем временем на улице, не слыша даже рёва оркестра, за указующим,за протыкающим пальчиком Силкиной поспешно дёргалась Нырова с блокнотом и карандашом. (Тут – как?Куда иголка – туда и нитка. Да!)Опять были вывешены женские трусики на одном из окон. Этакой снизочкой вяленой рыбки. Вдобавок на соседнем окне полоскало застиранную пелёнку (да после свеженького, да после жёлтенького), и всё это в такой день! Поэтому Ныровой пришлось прямо-таки ветром… прямо-таки ужасным сквозняком улететь обратно в общежитие. Чтобы немедленно устранить, немедленно ликвидировать безобразие!
Выгоняемый Новосёловым и активистами народ копился возле кумача, барабана и оркестра. Ожидалось шествие на субботник. Можно сказать, демонстрация. К пустырю и на пустыре. Ждали команды. Силкина махнула. Оркестранты, не переставая играть, активно затолклись на месте. Замаршировали. И пошли за нотами на трубах, как упрямые ослы за подвешенным сеном. Ударник приторочился под лямку к барабану, утаскивался барабаном, с размаху ударяя.
И ничего не оставалось всем, как двинуться следом.
Слышались оживлённые разговоры, смех. Все девушки шли под руку и пели. Стройненькие рядки их грудей вздрагивали в едином ритме. Как будто бы рядки сокрытых серых зверьков. Было в этом что-то от большой, коллективно несомой, звероводной фермы. Парни с лопатами штыками вверх нервно похохатывали от такого изобилия сокрытых зверьков, тоже маршировали по бокам, точно охраняя, но в тоже время и как бы скрадывая их. И как колёса, колченого, пробалтывались вдоль колонн новосёловские активисты. Падали. С земли тянулись рукой – всячески направляли! Видя, как падают активисты, падают с протянутой рукой… Серов принимался хохотать. С навесившейся на руку Евгенией, среди тяжелых замужних женщин, на пузо утянувших треники, он находился будто в сплошь молочно-товарном производстве! (Какие тут «зверьки»? где? какая охота? какие игры?) А тут ещё Катька и Манька начали обезьянничать, подпрыгивать впереди. Серов совсем заходился от смеха. Пробрался к нему Новосёлов, сияющий: праздник ведь, Серёжа, праздник! Жена сразу отпустила руку мужа. Новосёлов приобнял их за плечи, повёл. Повёл, как говорится, В Забой. Он был сейчас старый рабочий, наставник, отец родной. Сосредоточенный свитой чуб его покачивался, светил как нафонарник. Эх, черти вы мои суконные, черти! Ведь праздник же сегодня, праздник! Черти вы мои полосатые! На радость прыгающим Катьке и Маньке, Серов опять начал хохотать, совсем пропадая. Фильма тридцатых годов была полная! И на пустырь уже тянулись, переваливались самосвалы, набитые деревьями, кустами. Везли уже«страну кудрявую на све-е-е-ете дня-а-а!» Оркестр понимал момент – трубил. Прабабкиным фокстротом попарные девчата оттаптывались назад. И снова наступали.«Тилим-тилим! Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река-а!Тилим-тилим!!» И барабанщик всех пристукивал к себе тарелкой. Уже на месте. И дальше – некуда: вода. И трубачи водили трубами как хоботками, принюхивались к окрестности, оглядывались по пустырю, Тилим-Тилим!
Минут через двадцать, когда уже копали, у общежития показалась и заныряла по пустырю чёрная «Волга». «Волга» с начальством. Силкина в ужасе бросилась, задирижировала. Но музыканты сами уже встали гусями. Ударили, подкачивая тарелкой медный свет:
Иста! иста! Е-сли бы па-рни всей зе-мли!..
Из машины поднялся Хромов. Сутулый, высокий, тяжёлый. Манаичев же – как будто из ящика наружу вылезал. Поставив себя на ноги, недовольно шарил что-то в габардине до пят. В карманах. В сравнении с Хромовым низенький, кубастый, но сразу видно было: главный – он. К нему подбежали Силкина и Нырова, запыхавшиеся от счастья. Повели, указуя, куда он может ступить без боязни замочить ноги. Хромов шёл, высился сбоку. В спортивном шершавом пиджаке, с грудью и спиной колёсами. Седеющий бобрик на голове. Матёрый нью-йоркский гангстер при Папе. Телохранитель. Такой пойдёт бить – досками разлетаться начнут!
Как всегда опоздав, парторг Тамиловский прискакал на уазике. Догнал всех, присоединился. Размахивал руками на манер мельницы.
Куда бы ни шёл Манаичев— туда сразу перебегали с лозунгом пэтэушники. Выставив его ему. Как жеваную портянку. И с портретом пэтэушник хитро просовывался. Как бы из-под кумача-портянки. Манаичев косился. С одним лозунгом все, что ли? Куда ни кинь взор, понимаешь. Придумать новый, что ли, не могли? «Наглядная агитация! Наглядная агитация!» – клушкой запрыгала впереди всех Дранишникова, воспитательница пэтэушников
И ещё. Когда все шли, передвигались – оркестр трубил марши не переставая. Как только останавливались— разом обрывал: должно быть Слово.Манаичев хмуро смотрел, как врубались лопаты. Говорил парням, чтоб брали глубже, понимаешь. Девушки ожидающе удерживали кусточки, вроде как за шкирку хулиганов. Парторг, жадный, радостный Тамиловский метался, выискивал лица. Чтобы призвать их, призвать! Люди посмеивались, уклонялись. (Один Серов был как Володя юный, дёргался за Тамиловским, хотел учиться, внимать, но Серова за годный к учёбе матерьялТамиловский не признавал.) Хромов высоко над всеми курил, пережидая. Снова трогались – и оркестр разражался. Получалось – как на военном параде. На Красной площади. «Здравствуйте, товарищи!»… «Здра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» И музыка дальше, и барабан!
Через десять минут Манаичев большой подушкой лежал в машине.Под лобовым стеклом. Как будто в саркофаге. Полученном при жизни. Шофёр рядом превратился в руль. Хромов надел машину на ногу. Махнул оркестру. Оркестр истошно взревел. С Начальниками прощаясь навсегда.
Опять побежала Дранишникова и все Пэтэушниковы. Чтобы почтительно поставиться с лозунгом перед отъезжающими. И Вождя без шапки,как лихого татарина, пэтэушник снизу хитро просовывал. Как уже разоблачённого, как пятиалтынного.
По пустырю скакал забытый Тамиловский, уазик подхватил его, помчал вдогонку.
Крылом вперед проталкивалась по небу косоплечая ворона. От радости и счастья все девушки опять пошли оттаптывать и наступать фокстротом.По райскому московскому пустырю. По райской всей, московской земле.Меж райских кустиков, которые они высадили сами. Закидывали головы к вороне, с оркестром пели:
Наш адырис не дом и не ули-ца!
Наш адырисСоветысыкий Сою-у-ус!
Уталкиваясь, ворона дала им обмирающий фейерверк помета.
39. Бутылка Плиски после ленинского субботника
У Серовых за столом Новосёлов сидел с Катькой и Манькой в обеих руках словно с растрёпанными смеющимися цветками. Одаренный ими. Зарывался в них лицом и хохотал.
Сам Серов сидел скромненько, но и озабоченно. Так сидят за столом бедные родственнички. Пока Евгения бегала из комнаты в кухню и обратно,откуда-то выпорхнула на стол бутылка Плиски. Как перепёлка. При совершенно неподвижных, казалось, руках Серова. По-прежнему скромненьких,подъедающих друг дружку на коленях его. Удивительно, конечно. Фокус. Но ладно. Бдительность потеряна. Тем более, что праздник сегодня. Добродушию Новосёлова, что называется, не было границ. Добродушие Новосёлова затопило стол и его самого за столом. Праздник же, праздник, чертенята вы мои полосатые! Девчонки, как всё те же охапки цветов мотались, закатывались вместе с дядей Сашей.
Всё бегала Евгения. И нисколечко Плиски на столе не боялась. Подумаешь, – Плиска на столе. Да вместе с Сашей Новосёловым мы горы свернём! А тут – Плиска… Из стопки тарелки в цветочек перелетали на стол как девственницы. Всё предыдущее стремительно забывалось. Всё предыдущее не обращало на себя внимания. Ну вот ни столечко! Подумаешь, – Плиска. Бутылка. Как перепёлка.Ха-ха-ха!Наш а-адрес… э… не дом… и не у-улица.Ха-ха-ха! Плиска! Ха-ха-ха! Перепёлка!.. наш а-адрес…Сове…тысыкий Сою-юз!
Новосёлов сказал:
– Ну с праздником, мои дорогие!
Три руки (одна женская, две мужских) – поднялись и зависли над столом. Точно удерживали рюмки с бурым маслом. Две руки все-таки сомневались, стоит ли пить тут кое с кем. Зато третья – была абсолютно уверена в себе. Абсолютно! Стукнув рюмкой рюмки сомневающихся, Серов масло в себя – закинул. Залихватски. Подумаешь, – Плиска. Несколько рюмок. Да под такую закуску! Слону – дробина. (Ау! свердловский алкаш из забегаловки.) Челюсти Серова старались. Он словно бы закусывал. Умудрялся уничтожать закуску во рту. На месте. Не пропуская её дальше. В пищевод, в желудок. Это надо было уметь.
Катька и Манька ложками выделывали. Что вам ушлые гоголевские писцы перьями. После двух-трех рюмок, после обильной еды с ними, лица непривычных к вину Евгении и Новосёлова уже внутренне смущались себя,стали тлеющими, особенно у Евгении. Пора была заканчивать всё чаем. Между тем Серов по-прежнему еду отцеживал, из рта как из тюри, сосредоточенно ждал. Удара. Хлыста. После нескольких рюмок был совершенно трезв. Машинальные, необязательные, вязались к нему слова: «…Взять лозунги твои сегодняшние, вынесенные тобою кумачи…» Новосёлов сразу возразил, что лозунги не его. И кумачи выносил не он… «Неважно(неважно, о чём говорить, требовался разгон.)… Кумачи. Лозунги. Просто ряды белых букв. Без смысла уже, без толка… А ты говоришь – читать, изучать…» Да ничего я не говорю!.. «Неважно». Серовым сгребались шлакоблоки. Должно было что-то соорудиться. «Читают все, Саша. Да понимают по-разному прочитанное. Сколько у нас начитанных негодяев… Все, к примеру, читали «Муму». Только одни, когда Герасим топил несчастную собачонку, задыхались, плакали… другие – слюнки пускали, как в дырку подглядывали, горели подленьким злорадным интересом… А ты с плакатами, с кумачами». Да не нёс я их! Женя, скажи ты ему! «Неважно… Там и читать-то нечего, не то что понимать. Не слова даже – рядыбессмысленных букв. Вывернутые мелованные глотки. Из анатомии коммунистов. В! О! У! Ы!» Записать бы. Да ладно. Неважно.
Тугомятину во рту отжёвывать продолжал. Однако, натыкаясь на смеющиеся новосёловские возражения, слова Серова стали обретать напор,силу. Напор и силу голимого смысла, выстраданного, даже можно сказать:«…Да о чём ты говоришь, Саша! Вслушайся только… влезь в смысл этих твоих слов! Этого словосочетания – Подавляющее большинство…А? Подавляющее, понимаешь? О какой свободе речь?» Действительно – о какой? Новосёлов поворачивался ко всем сидящих за столом. Кроме Серова. Действительно? Евгения уже раскачивалась от смеха. Девчонки тоже заходились.
Серову нужно было как-то кончать, наконец, со жвачкой. После процеживания через неё Плиски, химический состав дряни во рту стал напоминать хину. Процеживать (сквозь этот состав) стало трудно, неприятно. Даже опасно. Потому что, сами понимаете. Но не всё было досказано: «…И вообще, у них чуть что: съезд ли, пленум – реставраторы кидаются, срочно открывают Икону. Старую. Ленина… И все эти разбойники, толкаясь, гурьбой подстраиваются к ней – мы верные ленинцы! И срабатывает. А икону-то давно обмусолили, ободрали, выскоблили до дна. Но помогает каждый раз. Выводит. Святая…»
Всё. Теперь избавляться. Промедление – смерти подобно. Сплюнуть в пригоршню? Но как? Где? Сплюнул. Сунув голову под стол. Сразу встал.Неопределённо помотал кулаком. С зажатой в нем тайной. Дескать, это, я, в общем. Пошёл из комнаты. Насилуемые в ванной сразу завопили, запричитали трубы. Обрушилась вода в унитаз.
Вернулся. Сел. Во рту был озон. Оазис. Закусывать больше не надо было. Обед окончен. Это точно. Махнул рюмку так. Без закуски. Десерт. Да.Глаза его начали как-то отщёлкиваться от всего. Как наэлектризованные кошки после ударов электричеством. Он сливал остатки Плиски. В рюмку свою и Новосёлова. Руку (кисть) при этом загнуло, скрючило колтуном. Да, отверделым колтуном. Годным для разлива Плиски. Да. Годным.
Евгения уносила посуду. Новосёлов бодал Катьку и Маньку на тахте своим чубом-рогом. Глаза Серова в черепушке мерцали. Угнетённенькимхмельцом. Как в помещечьей усадьбе утомлённые свечи. Он нервничал, лихорадочно обдумывал своё положение. Новосёлов этого не замечал.
Потом в конце коридоре, у окна – раскурили по первой. Создали как бы новое, сизое на вид, поле раздумий. Один опять был худ. Как на ветру мученически вдохновенен. Другой по-прежнему не замечал, не улавливал. Блаженным был. Вспоминал всё Катьку и Маньку. Посмеивался, покручивал головой. Вот ведь! Счастливый ты. Такие девчонки! За-абавные! Конечно. Девчонки. Согласен. Но – Плиска. Ты не находишь: всегда горчит вначале? Да нет вроде… А Манька-то, Манька! Вот чертёнок растёт!
Да-а. Один толкует про Фому, другой талдычит про Ерёму. Да-а. Кошмар. Бесполезно говорить. Зря уходит время. Цейтнот. Серов по-прежнему нервничал. Искал выход. Сейчас он пойдёт… и… и почитает. Да, пойдёт – и почитает. Серов стал ещё более вдохновенен. Серьёзную книжку. Дылдов дал. Давно, так сказать, не брал я в руки шашек. То есть, книжек, хотел он сказать. Да. Давненько. Сейчас вот пойдёт – и почитает, чёрт побери. Задерживать человека с такой целеустремлённостью было нельзя. Новосёлов поднялся с подоконника, стал тушить окурок в баночке. Иди, Серёжа, иди. Потом дашь мне эту книжку. Было тёплое похлопывание по плечу. Доверчивость разливалась. Доверчивость не имела границ. Новосёлов пошёл к себе отдыхать, пошёл словно бы досмеиваться и докручивать головой. Серову трудно было поверить в такой исход. В такуюкинутую ему свободу. Поставил баночку с окурками на подоконник. Мимо своей двери – мягко пробежал на носочках. Остановился. Лифта дожидаться? – ещё чего! Рванул в другой конец коридора, поскакал там по лестнице.
По коридору шестнадцатого этажа шёл с большим, как у тубиста, ухом. Есть! Голоса! Свернул, смело толкнул дверь – «О-о! Кто пришёл! Серу-ун!»
– …Да что там понимать! Что читать там! – вновь доказывал он, находясь среди трёх-четырёх полупьяных, табачно-сонных физий. Во рту шёл сложный синтез соленого огурца, Плиски (новой Плиски, только что выпитой) и слов. Что-то должно было выйти. Да. Непременно:
– Просто носимая по пустырю анатомия коммунистов. Глотки их, уши, ноздри: А! О! У! Ы! Даже козлы на мавзолеях её уже не замечают!» (Записать бы. Да ладно! Неважно!)
Стакан с Плиской, вновь налитой, почему-то перед ним потрясывался на столе, зуделся. Словно его кто-то медитировал из-под стола. И парни тоже смотрели в свои стаканы удивлённо. Будто спириты…
Ночью Новосёлова словно настойчиво трясли, и тут же испуганно бросали. Снова принимались трясти, чтобы тут же бросить. Новосёлов проснулся наконец. Сел.
Стукоток робко пробивался от двери. Он то нарастал, то обрывался.Стучали давно. Наверняка давно. Торопливо Новосёлов стал надёргивать трико.
Раскрыл дверь в электрически холодное, мерцающее несчастье, в беду… Женя плакала, почти не могла говорить, от слёз глаза её высоко, провально означились, как у заболевшей птицы…
Кое-как дослушал её.
– Да он же домой пошёл, в комнату, при мне!
– Да не был он дома, не был! Как ушли, не был!
Новосёлов не знал, что думать, что делать. Глупо предположил, что,может, к Дылдову махнул…
– Да нет же, нет! В тапочках! В майке!.. Господи!.. Я не могу больше,не могу, Саша! – В муке она уводила лицо в сторону, и сбившаяся узкая бретелька от ночной рубашки, выглядывающей из-под халата, точно перерезала её выпуклую ключицу, её широкую выпуклую грудь… Новосёлов опустил глаза.
– Ну, полно, Женя, полно. Не надо… Сейчас я. Оденусь. Найду его…Иди к детям…
Уходя, женщина смахивала слёзы. Шла с нагорбленной спиной, в вислом, точно беззадом халате. Оступались, нелепо подплясывали худые её ноги…
Серова Новосёлов тащил яростно, коленом поддавая под зад. Серов махал руками, как вертолет, пытался оборачиваться, протестовать. Брошенный в своей кухоньке на стул, сразу опал, смирился. Новосёлов захлопнул дверь.
Серов вздёрнулся, осознав обиду. Вслушался в напряжённо-провальную тишину комнаты. Вперебой запутывали темноту тенькающие будильники. Вспомнились наглые цикады. Запутывающие ночь. Создающие в ней ломкий чёрный хаос. Где-нибудь на Чёрном море. На берегу. В лесной чаще. Где сроду не был. Но где побывать сейчас – надо.
Хитро очень – пошёл. Чтобы переловить этих цикад. Споткнулся, мягонько упал между креслом и столом, пропахав щекой палас. Держался за ножку стола. Как за якорь. Глаза разлеглись по-крокодильи низко, вытаращенно. За окном, над городом, как над цирком, висел чистоплотный апрельский месяц.


